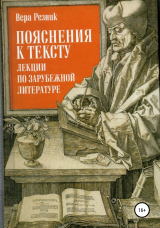
Текст книги "Пояснения к тексту. Лекции по зарубежной литературе"
Автор книги: Вера Резник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
«Иосиф и его братья»
Сегодня и в следующий раз я предполагаю поговорить с вами о знаменитом романе «Иосиф и его братья», не только не вменяя себе в задачу исчерпать его смыслы, но, понимая, что даже и доминирующую сюжетную линию нам и то проанализировать не удастся; скорее всего, это можно было бы традиционно назвать: «Некоторые замечания по поводу некоторых романических эпизодов»… И тут уж ничего не поделаешь… Роман – это самонастраивающаяся структура, пульсирующий мозг с миллионами нейронов, поэтому только кое о чем и по мере возможности, чтобы пробудить интерес.
Роман задуман был приблизительно году в 1925-ом, начал писаться в 30-ые годы, а завершен был к 1943-ему году. Манн говорил, что он хотел написать поэму о человечестве, вот мол «Фауст» Гете – это символический образ человечества, и чем-то вроде такого символа стремилась стать под его пером история об «Иосифе». А еще он писал в 1934-ом году известному ученому мифологу, соратнику доктора Юнга, Карлу Кереньи: «Далекая вещица. Но, быть может, она вносит немного света в окружающую тьму». Должна, кстати, сказать по поводу адресата письма, что на протяжении всего процесса писания «Иосифа» Манн поддерживал эту переписку. Он вообще всегда старался получать консультации, если можно так сказать, из первых рук, из рук или уст самых маститых и авторитетных специалистов своего времени. Из-за этого так интересен круг его переписки, притом, что пользовался он полученной от своих корреспондентов информацией достаточно своеобразно, ну, наверное, как делают все писатели, – использовал, расцвечивал… и забывал. Именно поэтому он так изумлялся, когда ему после выхода его романов, задавали вопросы, скажем, о сущности авангардистской музыки или о каких-нибудь мифах. Занавес опускался, представление было окончено. Вообще, как вы понимаете, «Смерть в Венеции» можно написать «из себя», руководствуясь личным опытом, но такие эпические полотна, как «Иосиф», предполагают иную технику. Я уже говорила, это техника коллажа в значительной степени, и это вполне согласовывалось с манновским принципом «одухотворения» материала.
Но отчего он на этот раз возымел намерение «одухотворить» то, что вроде бы и само по себе обладало всеми признаками духовности, а именно главу 28-ую книги Бытия, повествующую об Иосифе сыне Иакова, ставшем, в конце концов, правителем земли Египетской? В этом была случайность и неслучайность. Как вы понимаете, чтение Библии было неслучайным делом в протестантском доме, при том, что сам Манн с некоторыми оговорками называл себя религиозным человеком – это была сильно нестандартная религиозность, если вообще можно назвать религиозностью умение расслышать время и ощутить мировую гармонию. Кроме того, его вечные ориентации на Гете, а Гете как-то раз сказал, перечитав этот эпизод в Библии: «Это безыскусный рассказ, только он кажется чересчур коротким, появляется искушение изложить его подробнее, дорисовав все детали». Кроме того, учтите, 1930-й год – год получения Нобелевской премии, присужденной официально за «Будденброков»; на самом деле по совокупности творчества, к этому времени уже и чудный роман «Волшебная гора» был написан. Между тем год 1936-й в Германии не самый благоприятный, Манн в политической опале, его лишают почетных званий, его книги и книги его друзей запрещены их уничтожают и удаляют из библиотек. Все друзья, сливки интеллектуальной и творческой элиты – ведь кроме одиозных политических установок это еще и разгул антисемитизма, а Катя Принсгхейм – еврейка (та же ситуация с женой у Набокова) – Германию покидают, часть умирает в эмиграции, в далекой Бразилии стреляется позже Стефан Цвейг, ситуация трагическая. Ходили шутки, что не уехал один только Вильгельм Фуртвенглер, гениальный немецкий дирижер, один из самых крупных дирижеров 20-го века, да и то, потому что у него было столько женщин, что уехать было никак невозможно.
Но если серьезно, подумайте только: те, кто составлял честь и славу нации, национальную гордость, изгоняются и шельмуются хамами и ничтожествами со смехотворными претензиями на выражение истинно немецкого духа – они, видите ли, тоже вооружились идеологией. Какова же она, эта их идеология? – Это немецкий миф, Нибелунги, перетолкованный ничтожествами в истинно-немецком духе Ницше. Дело, однако, в самом уровне понимания мифологии и философских идей. Есть печальная правда в высказывании о том, что идея, спустившаяся в массы, становится солдатской девкой. Вероятно, у Вагнера и Ницше было за что зацепиться, раздуть и извратить, и вообще приспособить к своему хамскому уровню. Я полагаю, однако, что они не несут за это ответственности, хотя это предмет больших споров. Например, насколько запятнал себя великий немецкий философ Мартин Хейдеггер, не бывший эмигрантом, но бывший членом нацистской партии и занимавший в течение года пост ректора университета. Вообще у части интеллектуалов первое время, в самом начале, были известные соблазны. Потом, однако, многое быстро прояснилось. Дело вот в чем, об этом писала известный литературовед Лидия Яковлевна Гинзбург: мысли и переживания не могут быть этически обязательными, мы думаем то, что думаем, и чувствуем то, что чувствуем, и иногда это вполне страшные мысли и чувства, и надо не прятаться, нужно отдавать себе в этом отчет. Мыслитель не может думать и говорить не то, что он думает. Дело в том, что этически обязательны наши поступки – вот делать то, что мы иногда думаем, никак нельзя, это уже правила, накладываемые культурой. А потому я не уверена в том, что Иван Карамазов несет ответственность за поступок Смердякова. Там, впрочем, имеются нюансы. А вот хам делает из сказанного великим философом свои хамские выводы, и мы получаем какую-нибудь «accion directe».
Вот на этом-то фоне, можно сказать, с благословения Гете Манн затевает войну с фашистским истолкованием мифа вообще, ведь фашизм, неизвестно на каком основании, присвоил себе право на монопольное владение мифом. Обратите внимание, всякий оголтелый и тупой национализм начинается с выявления глубинной родословной, с неких пра-корней, обосновывающих какое-нибудь монопольное право. Сейчас и таджики с узбеками спорят, одни говорят мы от Зороастра и потому имеем право, а вы от кого?.. Я не случайно говорю об этом так долго, мы ведь позже и у французского писателя Пруста тоже столкнемся с проблемой генеалогического снобизма, сравнительно безобидного варианта тех же состояний ума и души. И вот режим принялся опираться на древнегерманские мифы, а они были мрачными и кровавыми и кончались, как вы помните, всеобщей гибелью в Валгалле. Однако, в частности, что такое миф? Миф – это модель поведения на все времена: так вели себя наши великие герои и предки, и вы должны себя так вести. Миф создает ощущение опоры на исконное, на основы, поэтому германская идеологическая машина попыталась заменить иудейско-христианский миф, Библию, древнегерманским, индоевропейским. Оставьте, мол, эти ваши утешительные иудейско-христианские сказки, воспламените в недрах души верования своих германских индоевропейских предков, приготовьтесь к великой битве между нашими богами и демоническими силами. Вот с этим следовало бороться, из рук этого противника надо было выбивать оружие. Кроме того, сознательный вызов был и в обращении к истории еврейского народа, это ведь в такое-то время и о евреях… Правда, тем не менее, состояла в том, что история еврейского народа понималась вовсе не как история этноса, но как история человечества – таков и был замысел. Не история кровавой гибели в Валгалле, но гуманистический, трепетно-теплый, со слезами и смехом и благополучным концом миф – именно поэтому и была избрана история про Иосифа Прекрасного. Договоримся о том, что вы прочитаете или перечитаете этот эпизод в Библии (кн. Бытия, гл. 28). Будете знать, по крайней мере, сюжет, которому Манн строго следовал, притом, что сама история, как всегда, немыслимо разрослась. Однако сегодня, когда мы говорим о мифе в «Иосифе», мы должны коснуться, насколько это в наших временных рамках возможно, еще одного аспекта того же вопроса, постоянно дискутирующегося и присутствующего в умах интеллектуальной гуманитарной элиты в двадцатом веке.
Я вот вам все говорю: миф, миф и пытаюсь объяснить, почему и к какому мифу обращались германские политики в тридцатые годы и к какому мифу и почему обращался Томас Манн и обронила при этом слова о том, что миф – это, мол, модель поведения на все времена, не объясняя подробнее, что к чему. Но дело в том, что почти все художники двадцатого века, Манн, Гессе, Кафка, Джойс, Борхес, Набоков созидали свое искусство, играя с мифом. А вы вот сейчас, сидя передо мной, когда я говорю: «миф», зная древнегреческие мифы и еще кое-какие стародавние побасенки из истории культуры разных народов, более или менее, в общих чертах представляете себе, что это такое, у вас есть на этот счет некое общее представление. Но толком, что это такое и какое отношение к нашей жизни имеет и почему именно в нашем двадцатом веке писатели на мифе так «зашлись», вы не понимаете. Поговорим об этом немного подробнее.
В традиционном понимании мифы – это античные, библейские и другие старинные сказки о сотворении мира и человека, а также о деяниях древних богов и героев, поэтические и причудливые. Сначала были известны мифы по преимуществу античные, позже до нас стали доходить африканские, австралийские, индейские мифы. Мифологическими мотивами переполнены все мировые религии, есть на этот счет очень интересная книга Фрэзера «Фольклор в Ветхом завете». Мифы в конце девятнадцатого и в двадцатом веке подверглись сравнительно-историческому изучению, и в итоге было установлено, что в мифах разных народов, при всем их многообразии, целый ряд тем и мотивов, а также сюжетных элементов, повторяется. Самым необъяснимым образом совпадают какой-нибудь индейский и сибирский миф, притом что миграцией и бродячими сюжетами – так часто объяснял совпадения сравнительно-исторический метод – всего не объяснить. Уж очень нередки совпадения там, где никаких исторических связей не было, у друг от друга совершенно изолированных культур. Например, легенда о смене кожи и связанной с этой сменой утратой бессмертия есть у всех народов мира. Или сказание о великом потопе, вошедшее позже в Ветхий Завет, есть в Австралии, в Гвинее, Полинезии, Южной Америке, Северной Америке и Африке и т. д. Как это понять, если, например, никаких отношений между народами, населяющими Сибирь, и южноамериканскими индейцами отродясь не бывало, а мифологические сюжеты и соответствующие персонажи и ходы совпадают? На этот счет имеются разные точки зрения, иногда говорят, что просто у нас головушка на один лад устроена и одинаковые вещи выдумывает, особенно если уровни развития одинаковые. Правда, с уровнями дело обстоит проблематично, непонятно, как его сравнивать. Кстати, в веке восемнадцатом, Просвещения, и вплоть до недавних времен предполагалось, что мифы враки, «объясняльные» выдумки тех, кто по отсталости не понимал физической сущности природных явлений и придумывал себе нелепые на наш «просвещенный» взгляд объяснения. Как на данной стадии могут, так и объясняют, и мифы это не что иное, как первобытная наука. Так считал знаменитый исследователь Тайлор (вообще первыми этим вопросом вплотную заинтересовались немецкие романтики, сказочник Якоб Гримм). Но вот в конце девятнадцатого века и, особенно в начале двадцатого, этим вопросом занялись весьма основательно. Очень известный этнограф Бронислав Малиновский считал, что миф это не просто повествование, рассказанная история, имеющая символическое и аллегорическое значение, но это некое «священное писание» архаических народов и оно соответственно переживается. В нем очень важен обряд, ритуал, потому что обряд, ритуал поддерживает и укрепляет общество. Что такое, например, национальный флаг? Это объединяющий тотем, цементирующий общество в понимании определенных ценностей. Встать и руки по швам!
В начале двадцатого века очень известный французский ученый Люсьен Леви-Брюль (вообще французские ученые, школа, особенно знамениты), разработал свою теорию. Он ввел термин «мистическая партиципация», или «мистическое соучастие»: это, например, когда ваши родители бранятся без повышения тона, а собачка в ужасе под столом дрожит, мы в этих случаях иногда употребляем современное непонятное слово «телепатия». Карл Густав Юнг подхватил эту идею, называя это отношением влияния на партнера или собеседника, ну например, когда собеседник подхватывает мысль или продолжает ее за вас, предугадывая ваше желание и т. д. Так вот, Леви-Брюль разработал теорию такой мистической партиципации применительно к архаическому мышлению. А позже Клод Леви-Строс, ученый, оказавший исключительное влияние на гуманитарные общественные науки в 20-ом веке, доказал, что не жили дикари в невинной простоте и блаженстве добродетели, вдалеке от порочных соблазнов интеллекта, и свободы у них было меньше, а больше было всяких правил, и мыслили они, хотя и на свой лад, но очень строго. Интересна теория немецкого философа Эрнста Кассирера: согласно Кассиреру, мифическое сознание представляет собой код к которому нужен ключ. Специфика мышления диких, по Кассиреру, состоит, в частности, в том, что они не различают реальное и идеальное, вещь и образ, а весь космос или универсум, или мир у них базируется на различении священного и профанного. Для Фрейда мифы – это вытесненные в подсознание сексуальные комплексы. Идеи швейцарского психолога, мифолога и специалиста по средневековой алхимии Карла Густава Юнга тоже вещь увлекательная. Юнг создал аналитическую психологию (в отличие от фрейдовского психоанализа). Еще он называл ее то «западной йогой», то «алхимией двадцатого века». Он был учеником Фрейда, разошедшимся с учителем вовсе не в связи с политическими вопросами, как это любят изображать, а в связи с капитальными научными разногласиями. Юнг в отличие от Фрейда, не собирался все на свете сводить к сексуальности. Юнг обратил внимание на то, что в мифах, а также в снах, человеческих фантазиях и поэзии очень часто встречаются некие сходные, общие элементы, и эти элементы нужно как-то истолковывать, потому что они слишком невероятны для того, чтобы значить то, что они говорят непосредственно. Вот эти повторяющиеся во всевозможных человеческих фантазиях сходные элементы Юнг назвал архетипами, первообразами.
Это слово возникло в комментариях к философии Платона, сделанных еще в раннехристианскую эпоху Блаженным Августином («типос» по-гречески – отпечаток). Так вот мифы и сказки – это архетипы, и внутри мифов и сказок имеются тоже разные архетипы. Архетип можно представить как некую кристаллическую структуру, которая способна наполняться более или менее разным сюжетом (скажем, когда вы говорите о каком-то человеке, что он – Иуда, вы наполняете схему, имеющуюся у вас в голове (евангельский Иуда), реальным содержанием. Иуда – источник, прототип – это как бы инвариант, есть такое слово в лингвистике. Например, понятие лес – это инвариант, а варианты – реализации этого понятия в разных языках: forest, bois, foret, bosque. Или, например, идея враждебного существа – это система осей кристалла, схема, а ее конкретное заполнение: русалка, Кощей Бессмертный, чудо-юдо, домовой, леший и т. д. Вплоть до современных враждебных существ или тех, кого мы идентифицируем с враждебным существом. Или, например, тот же самый потоп, имеющийся у всех народов, образ, распространенный повсеместно и не объяснимый никаким заимствованием: в каждом случае это свое описание потопа, но это потоп. Или вот внутри мифа об Иосифе, архетипической истории Иосифа, есть еще один архетипический мотив: когда братья Иосифа пришли из Палестины в Египет, чтобы купить там зерна на время голода и уже собирались в обратный путь, Иосиф, бывший правителем Египта и неузнанный братьями, велел подложить потихоньку в мешок младшего, любимца отца Вениамина, свою серебряную чашу. Еще не успели братья как следует отойти от города, как Иосиф посылает им вослед своего управителя, приказав ему найти чашу и обвинить братьев в краже. Чашу находят, братьев приводят обратно, и Иосиф говорит им: «Разве вы не знали, что такой человек, как я, непременно угадает?»
Что значит эта фраза? А значит она, что Иосиф особенно гордится своим умением обнаружить вора, гадая по чаше. Гадание с помощью чаши было известно как в древнейшее, так и в новейшее время, хотя приемы этого гадания были неодинаковы. В одних случаях в хрустальную чашу наливали чистой воды и гадали по ее поверхности, в воде отражалось будущее того, кто просил погадать. Греки такой способ гадания называли гидромантией, иногда в воду бросали геммы, чтобы появилось отражение богов. В Египте такой способ гадания практиковался, по крайней мере, до начала века и назывался он «волшебное зеркало»: это ритуал, когда мальчику велят смотреть в чашу с водой, причем сама чаша расписана священными текстами. Под шапку мальчику засовывают бумагу с изречениями из Корана, заклинатель спрашивает, что мальчик видит, велит ему передать духу поручение или вызвать лицо, какое хотелось бы видеть. Когда, естественное дело, мальчик описывает это лицо невпопад, он оправдывается тем, что персонаж не хочет выходить на середину чаши и прячется в тени с краю. Иногда чашу наполняют не водой, а, чем-то другим, и не обязательно чашу. Соответствующий ритуал описан Хорхе Луисом Борхесом в притче «Чернильное зеркало», причем чернила наливались на ладонь гадальщика, но функционально это одно и тоже, да и вообще это борхесовское переложение сказок «Тысячи и одной ночи». В Скандинавии думают, что в четверг вечером в ведре с водой можно увидеть лицо обокравшего тебя. А на Таити, если обратиться к гадальщику, то он покажет тебе на это лицо в тыквенном сосуде, наполненном водой. А в Уганде знахарь берет сосуд с водой и бросает туда несколько кофейных зерен и по тому, как они всплывут и перевернутся, толкует волю богов. В Европе, чтобы предсказать течение болезни, смотрят на брошенные в сосуд с водой раскаленные угольки или опускают кусочек расплавленного свинца или воска и ответ дают по той форме, которую принимают брошенные вещества. Так же в Литве, Шотландии, Ирландии, Швеции. Известные слова Христа, сказанные им в Гефсиманском саду: «Да минует меня чаша сия» – метонимия, означающая: да минует меня жребий сей. Вот к одному из таких приемов, вероятно, прибегал Иосиф, гадая на своей чаше. Вот это и называется архетипический мотив, или архетип чаши.
Есть в романе и множество других архетипических мотивов, например, злой и добрый карлики, Дуду и Боголюб. Архетипами являются не обязательно мифологические мотивы, наша голова, а точнее, по Юнгу, наше бессознательное, просто нашпиговано архетипами. Кстати, особенно много их у сумасшедших, у них сознание очень архетипизировано, все наполнено такими значащими образами-формулами.
Для Юнга мир – психическая материя, не знаю, какое слово употребить, может быть, действительно, лучше не материя, а океан. И большая часть этого океана – бессознательное, а в нем, как острова, плавают участки сознания. Причем, у каждого отдельного человека есть свое сознание и свое бессознательное, но еще есть некое коллективное бессознательное, в котором мы все живем, нечто подобное океану из лемовского Соляриса, если читали или фильм Тарковского смотрели. Вот это коллективное бессознательное и является хранилищем архетипов, они всплывают время от времени в сознании отдельного человека, но живут вот в этом коллективном психическом начале или бессознательном. Только этим можно объяснить феномены парапсихологии и того, что мы часто именуем психическими аномальными явлениями, а Юнг называет синхронией: ты, например, видишь тяжелый тревожный сон, а потом узнаешь, что в это время умер знакомый. Юнг пытается объяснить именно такие вещи. И вообще сны, по Юнгу, это способ восстановить некий утраченный баланс, утраченное равновесие между сознанием и бессознательным, когда сознание вытесняет в бессознательное, в забывание некоторые неприятные для себя вещи.
Юнг очень долго был практикующим врачом, у него много на этот счет разных историй. Некоторые забавны: ну вот, например, у одного профессора случилось видение, он решил, что психически нездоров и обратился к Юнгу, описав ему видение. «Нет причин беспокоиться, – сказал Юнг, взяв с полки книгу четырехсотлетней давности, – они уже знали о вашем видении», и показал ему картинку, на которой было изображено то, что профессор видел в явившемся ему видении. Тут уж профессору сделалось совсем плохо. Шутки шутками, но случаи, когда люди во сне видят что-то такое, чего они по своему образованию и местоположению знать не могут, достаточно часты. Юнг и объясняет появление этих архетипов тем, что они хранятся в океане коллективного бессознательного и всплывают всякий раз по каким-то определенным своим причинам. Причем всплывает, повторяю, именно схема, всегда наполненная у каждого чем-то своим.
Человек, разговаривающий во сне более или менее регулярно с Наполеоном или Александром Македонским, – это тоже человек, утративший баланс, он очевидно в жизни подавлен и задавлен, что и компенсируется такого рода беседами с великими людьми. Или вот история: у одного бизнесмена, запутавшегося в большом количестве сомнительных афер, в плане компенсации развилась страсть к альпинизму, он все время искал, куда бы ему забраться «повыше себя». Однажды ночью во сне он увидел себя шагнувшим с вершины горы в пустоту. Когда он рассказал сон Юнгу, тот попросил его ограничить восхождения, он даже сказал, что сон предвещает смерть в горах. Через полгода он шагнул в пустоту, сорвался, упав на друга и оба погибли. Люди с грандиозными планами и нереальными целями видят во сне полеты и падения.
Сны зачастую производят сновидческий материал, который имеет целью восстановить ваш психический баланс. Это послание от бессознательного, имеющее целью вас предостеречь или указать на какую-то погрешность. При этом Юнг категорически отрицал любые сонники: сон имеет смысл только в конкретной ситуации конкретного человека, и значение имеют только символические сны. Разумеется, знакомство с архетипической символикой может помочь истолкованию сна. Так если кто-то из вас увидит во сне что-либо связанное с чашей, то теперь, представляя разные значения этого архетипического мотива, легче будет разгадать смысл того, что говорится непосредственно вам. Мы еще будем говорить о Юнге, когда речь зайдет о творчестве других писателей и художников двадцатого века, но сегодня вам достаточно представлять себе, что такое архетип, и что многие философы и художники в двадцатом веке как раз и полагали писателя и художника неким общественным сновидцем, в памяти которого всплывают архетипы, типовые схемы, которые художник интерпретирует по-своему. Этот общественный сновидец видит предостерегающие сны, указывающие на то, что мы, как тот бизнесмен-альпинист, можем свалиться в пропасть.
Вот потому-то и избрал Томас Манн миф, архетипическую историю, сюжетом своего нового романа, что она общезначима, что это не частный случай, но частный случай, сделавшийся всеобщим, частная история борьбы с судьбой, история хитрого и умного, и к тому же, достойного отстаивания себя. Поэтому миф может быть орудием борьбы. И задача, которую ставит перед собой Манн, это гуманизовать миф. Писатель говорил: если потомки и найдут в моем романе что-либо интересное для себя, так это именно гуманизацию мифа. А о том, как миф гуманизуется или очеловечивается, помните, Ортега говорил: искусство двадцатого века дегуманизовано, нормальный человек, обыватель, себя в этих продуктах не узнает, этот сад – не сад, дом не дом. А Манн как раз сделал наоборот: он облек суховатый библейский сюжет плотью и кровью, сделал его узнаваемым для людей, придвинул поближе к нам, выдумал детали, пустил в ход все средства языка – речь в книге стилизованная, шутливая. Вообще я уже говорила, что для внимательно читающего этот тяжеловесный немец – великий шутник, эти словесные плетения не имеют ничего общего с каким-нибудь дубовым историческим романом. Манн сознательно отстраняется от невменяемой серьезности, дистанцируется от нее, у него фараон Эхнатон, Аменхотеп Четвертый, чьей женой была известная дама Нефертити, в разговоре с Иосифом говорит по-французски: «Apres nous le deluge» – «После нас хоть потоп», фразу, произнесенную, как известно, маркизой Помпадур через тысячелетия. Или пускает в ход идеи суперсовременных философских школ.
Кстати, в советскую бытность имел место в печати смехотворный спор о том, каким может быть и каким не может быть исторический роман. Он может быть любым. Разумеется, это библейская история, но фактически, это не важно – историю в нашем сознании творят писатели. «Евгений Онегин» правдивее любого исторического труда. И так это у Манна во всем романе: добротно-достоверные исторические аксессуары вперемешку с совершенно невозможными и в результате очень смешными вещами. Но тот, кто смеется, не убивает. Лучше смеяться. И добро да будет вознаграждением за страдания. Да – всезначащему мифу, да – архетипам, этим константам и универсалиям человеческого мира, но долой кровавую и человеконенавистническую Валгаллу. Так создал Томас Манн свой гимн, свою 9-ую симфонию, я имею в виду симфонию Людвига ван Бетховена, ту самую, каковую увенчивает шиллеровская «Ода к Радости». Впрочем, речь о ней у нас еще впереди.
А вот еще один эпизод из той части, которую я просила вас прочитать, для того, чтобы представить себе, что это не что-то тяжеловесно-правдиво-псевдоисторическое, что это ироническая стилизация, шутка, в конечном счете. Я имею в виду тот эпизод, когда жена всевластного и бессильного царедворца Потифара принимает подруг, решив, наконец, поведать им о своей влюбленности в Иосифа. Но до этого несколько слов о самом Потифаре… Родители Потифара – брат и сестра Гуий и Туий, отвратительные ханжи – старикашки, изувечившие собственного сынка, кастрировавшие его в угоду официальной и отживающей свой век религиозности. Но пустопорожнее следование религиозной букве с точки зрения Манна, это никакая не религиозность, ибо истинная религиозность – это вдумчивое, только и обязательно вдумчивое послушание и прислушивание к духу времени, а не упорство тупого быка. Именно поэтому так отвратительны ничему не внемлющие меднолобые Гуий и Туий.
Итак, Мут-эм-энет, формальная жена Потифара, жрица-девственница, безнадежно влюбившаяся в красавца управляющего Иосифа и три года хранившая тайну этой влюбленности, не вытерпела и пригласила подруг, чтобы поведать им о своем горе-незадаче. К приходу приятельниц накрывается стол и исполняющий по хитрому замыслу Мут роль виночерпия Иосиф обносит вином заглядевшихся на красавца подруг. Восхищенные подруги, не в силах оторвать от красавца взора, забывают об осторожности, обрезываются фруктовыми ножичками и закапывают кровью свои белоснежные одеяния. «Да посмотрите на себя, дуры!» восклицает Мут в ответ подружкам, усомнившимся в возможности ее любви.
Это, конечно, не миф, не переписывание мифа, которое просто невозможно. Я уже говорила вам, что невозможно нынче писать, как Рембрандт, и не потому, что живописца такой мощи нет, а потому что ТАК больше писать нельзя. Зато как можно? Можно так, как сделал Манн. Это игра с мифологическим сюжетом. Я сегодня впервые ввожу это слово, этот термин «ИГРА», но нам предстоит еще не раз подробно о нем говорить, а сегодня я только скажу, что игра есть вещь очень серьезная притом, что веселая. Так вот Манн играет с мифом, он пародирует и обыгрывает его, потому что это единственный возможный к нему подход и способ обращения с архетипическим сюжетом в двадцатом веке.
И еще, последнее об Иосифе, хотя говорить об этом романе можно бесконечно много, не только потому, что он такой толстый, а потому, что он такой многосмысленный. Прозвание Иосифа – Иосиф Благословенный. У Иосифа, об этом много говорится в романе, особое двойное Благословение: свыше, небесное, и благословение бездны, лежащей долу. Вся история Иосифа – это история неопытного юнца, возвысившегося до роли спасителя и кормильца народов, и это следствие двойной одаренности, двойного дара, земного и небесного, как сказал бы Набоков, хоть и терпеть не мог Томаса Манна. Земная одаренность – это посюсторонние чувственные радости, кровная связь с поколениями предков, верность в определенной мере, потому что вдумчивая, традициям. Небесная одаренность – это творческое беспокойство и духовный поиск. Потому и не дает себя совратить Иосиф жене Потифара, благословенной только бездной, что у него есть благословение свыше, это оно не позволяет ему предать Потифара. И в самом конце говорит вещую фразу Иосиф: «Ведь смешон человек, который только потому, что у него есть сила, пускает ее в ход против права и разума. И если сегодня он еще не смешон, то в будущем он непременно станет смешон, а ведь мы смотрим в будущее».
Когда Манн отдал рукопись «Иосифа» машинистке, она, перепечатав ее, возвратила со словами, которые могут быть расценены как наивысшая похвала писателю, она сказала: «Ну, вот теперь, наконец, знаешь, как все было на самом деле».








