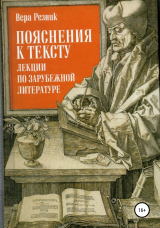
Текст книги "Пояснения к тексту. Лекции по зарубежной литературе"
Автор книги: Вера Резник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Вера Резник
Пояснения к тексту. Лекции по зарубежной литературе
…Учить видеть, учить думать, учить письму и речи. Цель у них одна – аристократическая культура. Учить видеть – приучать глаз наблюдать спокойно, терпеливо, выжидательно. Учить неторопливости в суждениях, учить рассматривать, охватывать каждый случай со всех сторон. Первая ступень на пути к духовности: никогда не реагируй на раздражитель сразу же, прежде научись распоряжаться своими сдерживающими, отстраняющими инстинктами. Учить видеть, в моем понимании, означает обучение приблизительно тому, что на обыденном языке называется «сильной волей». Самое существенное здесь – отказываться от волевых поступков, уметь не спешить с решениями. Все приземленное, все пошлое зиждется на неспособности противостоять раздражителям, пошлость не может не реагировать, не следовать всякому импульсу. Умение видеть имеет и практическое применение: в ученье становишься вообще несуетливым, нелегковерным, обретаешь внутреннее сопротивление. Все чуждое и новое, что бы это ни было, сперва со спокойной враждебностью подпускают поближе – не набрасываются с жадностью. Готовность настежь распахнуть двери всему, что ни привалило, бег вприпрыжку вослед кому угодно и чему угодно, хищная охота за всеми новинками – это дурной вкус, отсутствие аристократизма par exellence.
Фр. Ницше
От автора
Этот не притязающий на академизм и скромный по своим временным возможностям – один семестр – курс по истории литературы XX века читался автором в течение почти десяти лет преподавания на факультете истории мировой культуры в петербургском Университете культуры и искусства. Неизбежные ограничения по времени, а также неоднородный состав слушателей – лингвисты, страноведы, искусствоведы, менеджеры по культуре и т. д. предопределили в какой-то мере содержательные задачи курса, существенно трансформировав их. Иными словами, не имело смысла превращать лекционный курс по реальной и еще, можно сказать, «дышащей» литературе в «полет над гнездом кукушки», в россыпь имен, дат и литературоведческих терминов, совершенно непонятных нынешним недавним школьникам, с совершенно разным, мягко говоря, недостаточным уровнем подготовки. Одновременно никоим образом лектор не ставил перед собой задачу воспитания в течение пятнадцати лекций эстетического вкуса и понимания студентами того, что собой представляет эстетическое наслаждение, он опускал важнейшие вопросы поэтики, не вдаваясь в проблемы устройства конкретных художественных текстов. Лектор пытался в какой-то мере, очень неполно, проанализировать считанное число произведений считанного числа авторов, признанных классиками литературы XX века. Ввиду проблематичности перевода поэтического текста в принципе, поэзия в курсе не анализировалась. Короче говоря, автор книги преследовал одну-единственную, зато не формальную и вполне вменяемую цель, заключавшуюся в том, чтобы разбудить дремлющую мысль и заинтересовать далекими вещами.
Хотя автор курса разделяет точку зрения Хорхе Луиса Борхеса на духовную собственность, а он полагал, что никакого права на нее не существует, автор считает для себя обязательным признать, что лишь очень немногие соображения, высказанные в данном курсе, принадлежат лично ему. Припомним, Михаил Леонович Гаспаров говорил, что культура это додумывание чужих мыслей, их «переупаковка». К тому же происхождение некоторых мыслей сейчас уже трудно установить, но во многих случаях это все же сделать возможно. Автор сознает, сколь многим он обязан работам Мераба Константиновича Мамардашвили, Наума Яковлевича Берковского, Сергея Сергеевича Аверинцева, Лидии Яковлевны Гинзбург, Соломона Константиновича Апта, Александра Алексеевича Долинина, Николая Аркадьевича Анастасьева, Бориса Владимировича Дубина, Всеволода Евгеньевича Багно, Юрия Ивановича Архипова, Юрия Ильича Левина. И это, если иметь в виду только отечественных авторов, а еще в уме неизбежно всплывали идеи Ортеги-и-Гассета, Вальтера Беньямина, Делеза, Бланшо и многих других. Некоторые темы философского характера обсуждались с Александром Григорьевичем Погоняйло. Автор всегда с благодарностью будет помнить о том, что в очень трудные для себя дни первым прочитал и одобрил рукопись этой книги его неизменный интеллектуальный опекун Моисей Самойлович Каган. В конце концов, составитель этих лекций вовсе не ставил перед собой задачу произнесения некоего собственного слова. Ему важно было «достучаться до наших детей». Им руководил определенный пафос, который как раз и может быть признан его личным вкладом.
Маленькая увертюра
А сейчас немного о том, что по мере приближения к двадцатому веку дела начинают меняться. Вот, скажем, Генрик Ибсен. Как сейчас воспринимается драматургия Ибсена? Его современник Антон Павлович Чехов выглядит великолепно, меж тем Ибсен несколько старомоден, ибо быстро устаревает всякое произведение, ставящее себе публицистические злободневные задачи. Уходит время и с ним такое произведение. Кроме того, обратите внимание на существенную разницу… Мы можем исчерпывающе разобраться в том, о чем пьеса Ибсена. Мы не можем сказать, о чем пьеса Чехова… да так, о жизни… У персонажей Ибсена очень связные, передающие точно их мысли речи, их диалоги и монологи точно выражают те идеи, какие имеются в голове ибсеновских персонажей на какую-то важную для данной пьесы проблему. У чеховских персонажей связные мысли в голове – большая редкость. Потому что…в Москву, в Москву… или там доктор Астров говорит ни с того, ни с сего: «А жара в этой Африке – страшное дело». А к чему эта Африка? Ибсеновский персонаж никогда бы ничего такого пустого не произнес. Но чтобы понять, отчего бестолковые чеховские герои с их невнятными речами – это мы с вами, а очень логичные и складные ибсеновские картинки все же становятся достоянием истории литературы, и надо растолковывать, почему такое на всех произвело впечатление, что жена ушла от мужа (я имею в виду Нору из «Кукольного дома»), нужно кое о чем поговорить. Для того чтобы в этом разобраться, следует взглянуть на то, что случилось с культурой и людьми на пороге двадцатого века, какие перемены произошли в умах и душах.
Припомним, героев романов, о которых у нас шла речь, героев Стендаля, Бальзака, Достоевского: мир этих героев распахивается нам навстречу и мы узнаем, что истинный герой века – человек, воспитанный идеей Наполеона, ибо судьба Наполеона для этих молодых честолюбцев – синоним открывающихся безграничных возможностей.
Однако по мере продвижения от начала века к концу дела меняются: терпит крах наполеоновская концепция личности со всеми ее захватническими или освободительными устремлениями. Возможности оцениваются все менее оптимистически. Два великих русских романа посвящены развенчанию наполеоновского мифа. Кстати, даже раньше, у Гоголя, тоже есть мотив снижения и известной иронии по отношению к наполеоновской личности (подозрение жителей города N, что Чичиков – это не более и не менее как Наполеон, сбежавший с острова Святой Елены). Но как бы то ни было, именно в русле этих представлений о личности и формируется такая логика характера, согласно которой герой всегда равен самому себе. Эта логика сформирована соответствующими историческими и социальными обстоятельствами: и Болконский, и Люсьен де Рюбампре, и Сорель с его ужасным выстрелом ведут себя, как им полагается по логике их характера; например, Сорель – честолюбец и гордец и оттого и стреляет в свою бывшую возлюбленную. Обломов гибнет оттого, что не может одолеть барскую лень, у Диккенса все герои совершенно равны себе, я говорила ни со стези зла, ни со стези добродетели их не сдвинешь: или – или, или зло, или добро. Когда я в отчаянии говорю первокурснику, что он по возрасту почти сравнялся с Жюльеном Сорелем, когда тот пришел к Реналям, но по интеллектуальной и душевной зрелости, да вообще по уму, на версты от него, это значит, что я точно себе представляю, что такое в этом возрасте Жюльен Сорель. Когда мы говорим нашим детям: ну вот, Андрей Болконский такого бы поступка никогда не совершил, ведь это сразу бы разрушило весь роман, – это и есть равенство самому себе, это значит, у нас в голове четко запрограммировано, что такой герой не может и что может сделать. Вот эта определенность характера, повторяю, например, у Диккенса обретает карикатурные формы – злодеи безостановочно вершат злые дела, добродетельные герои – бесконечно добры, это наследие 18-го века.
По мере приближения к 20 веку дело меняется. Уже Эмма Бовари серьезный шаг на этом пути расшатывания жесткой определенности. Про Эмму трудно говорить с такой определенностью, в ней много разного, ее уже не подведешь под какой-то существующий в нашей голове эталон. Или, вот у Антона Павловича (в отличие, скажем, от Александра Николаевича Островского) их нет: ну какие, например, в «Вишневом саде» или «Чайке» характеры? Намек на что-то такое только у слуг.
Но посмотрим дальше… Как выражается в романе эта определенность характера, это равенство самому себе? Произносимыми словами, речами и осуществляемыми, видимыми поступками.
Но на пороге века начало усиливаться недоверие ко всему, что видно и очевидно. Это заметно даже по консервативному Ибсену; повторяю, смыслы многих его пьес – несоответствие внешнего облика, прилично-благополучного фасада и реального содержания жизни, ее глубинного неблагополучия. Внешность обманчива, она врет. Талейран некогда сказал: речь служит тому, чтобы скрывать то, что думаешь. Скрывать, а не демонстрировать. Внешний вид, речи, поступки не раскрывают человека, но утаивают его. Из речей человека мы не так уж много можем узнать об этом человеке, речения дешево стоят, гораздо важнее другое – то, в чем человек не отдает отчета ни нам, ни себе, что-то более глубинное, слой верований, если можно так это назвать. Не идеи, которые у нас в голове есть на какой-то счет, а нечто более основополагающее, то, в чем мы настолько живем, что его не замечаем.
В начале века была опубликована работа Ортеги-и-Гассета под названием «Идеи и верования», в ней как раз об этом и говорилось, что человек не таков, каковые идеи он имеет, а таков, в каких верованиях он живет, их не замечая. И что неправы те историки, кто, исследуя предыдущие эпохи, судят о них по идеям этих эпох, судить об эпохе возможно только по безотчетным верованиям, которые были у людей того времени. Потом, уже швейцарский психолог Карл Густав Юнг называл сходные вещи «коллективным бессознательным». За идеи можно бороться, ими можно обмениваться с соседом, они могут приходить в голову и уходить. Что касается верований, то это как подспудная уверенность, что, выйдя за дверь, не провалишься в дыру, и пол там есть. Очень маленькая часть общества сражается из-за разных идей, но большинство живет в верованиях: перемелется – мука будет, все мерзавцы, только я несчастен и т. д. Впрочем, это конечно шутка: с верованиями человеческими дело много сложнее обстоит. В России вообще коллективное бессознательное играет огромную роль в жизни. Это чувствует Кутузов у Толстого – то, к чему он прислушивается, и есть это коллективное бессознательное.
Так вот в связи с тем, что начинают различаться два таких слоя, разного уровня залегания, то, что имеют, и то, в чем пребывают, на все внешнее, явное начинает ложиться тень неподлинности. Повторяю, в конце века это еще происходит на уровне не теорий, а ощущений, только начинает чувствоваться. Позитивистская наука конца века, естествоиспытатели типа тургеневского Евгения Базарова, как вы понимаете, для роли исследователей глубинных психических процессов не годились. Для того, чтобы поймать неуловимое и таящееся больше годилось искусство. И вот, хотя ибсеновские сюжеты и свидетельствуют о двойственности: приличном фасаде при неблагополучной изнанке человеческой жизни, но во всем остальном он традиционный автор девятнадцатого века. У Ибсена все герои таковы, каковые идеи и поступки они имеют. Повторяю, связные и осмысленные речи ибсеновских героев передают те идеи, какие у этих героев на какой-то счет имеются. Ни о каких более глубинных слоях залегания здесь речи не идет. И именно в такт этим мыслям-идеям движется сюжет, он как бы ими подталкивается, стимулируется.
А теперь возьмите Чехова и доктора Астрова с его совершенно невозможной для Ибсена репликой о жаре. Для чего он это говорит? Географией и климатом африканским вроде никто вокруг доктора не интересуется. В том-то все и дело, что эту фразу доктора Астрова нельзя понимать, как прямое сообщение, но надо разглядывать, что стоит за ней – удушье и тоска провинциальной жизни, серость и бездарность. И Африка возникает по контрасту со здешним тоскливым серым миром – Африка это не здесь, Африка это другое дело. Африка приоткрывает то, о чем не говорится, что скрывается, она позволяет увидеть персонажа не с точки зрения идей, которые имеются у него в голове, – а у Чехова, у большинства его персонажей никаких определенных идей, как у большинства людей нет, к тому же, если у них какая-то идея и заведется, то они ее на публику в рупор, как герои романов Достоевского, никогда не выкладывают. Но от этого и сюжет чеховских пьес не движется: ну хотят героини «Трех сестер» в Москву, и потом тоже произносят какие-то бестолковые слова, и никуда не уезжают. Но за этим за всем встает второй план, которого у Ибсена не бывало, потому что у него все впрямую, и встает какая-то неуловимая радужная воздушная прослойка, в этом есть воздух, это отличает живую жизнь от схемы жизни.
У Ортеги есть в книге под названием «Дегуманизация искусства» такой пример: сад, на который художник смотрит сквозь оконное стекло. Ортега говорит, что реализм девятнадцатого века интересовался, когда писал этот мотив, садом и только садом. Не то в двадцатом веке: художник обратит внимание на радужное марево стекла, не собственно на сад, а на то, как сад в этом стекле преломляется, как пятна сада смутно проступают, а кое-где и вообще не проступают сквозь стекло. И именно так это, например, в импрессионизме, последнем большом стиле в искусстве конца века. Кстати, чеховские персонажи – тоже не умозрительные конструкции из речей, а некие живописные пятна. Ведь недаром, когда ничего не понимающие актеры спрашивали у Чехова, что за человек Лопахин, Антон Павлович, радостно улыбаясь, отвечал одно: у него желтые ботинки. Потому-то для него так важны всякие тихие звуки – лопнувшей струны, далекого стука топора. Для тех тернистых путей, по которым принялось скитаться головоломное искусство двадцатого века, Чехов в отличие от Ибсена, оставшегося по преимуществу как историческая веха, как факт истории литературы, очень важен. Естественно, я говорю не о ширпотребе, а о высоком искусстве.
И вот еще одна важная черта: если литература начинает пользоваться живописными приемами импрессионизма, то сама живопись в лице ведущих мастеров начала века как раз от былых живописных принципов отказывается… Вспомним, начиная с Ренессанса: живописец или скульптор – это, прежде всего, объективно наблюдающее око, видящий глаз. Художник, начиная с Ренессанса, пишет как видит, и чем зорче видит, тем лучше. Глаз – непререкаемый контроль, блюститель истины, граница, положенная замыслу. Как видим, так изображаем (в иконописи и в средневековом искусстве, вы знаете, другие законы). А после импрессионизма, в начале двадцатого века художники снова начинают переходить от того, что они видят, к тому, что они о видимом думают. Глаз и видимость – не более чем компонент работы художника. Таков кубизм, таков Пикассо.
«Любительница абсента» Пикассо – это еще фигуративная женщина, но в ней уже подчеркнута схема фигуры, так сказать, идея женщины, любящей абсент. Потому-то и говорит Ортега в «Дегуманизации искусства», что от писания вещей, как они видны художнику, художник переходит к писанию не того, что он видит, а того, что он о вещах думает – к писанию идей вещей. Что такое «черный квадрат» Малевича, если не идеал и абсолютное воплощение всех квадратов, первообраз, платоновская идея квадрата? Кубизм опоясал мир схемами вещей.
…И вот и получается, что и в литературе и в живописи двадцатого века художник слепнет для внешнего мира, обращая взор внутрь себя, стремясь не к внешнему, выражаемому идеологическими речами и внешним видом вещей, но к тому, что за этим скрывается, к глубинным смыслам. Повторяю, отсюда и доктор Фрейд, и все остальное. Таков путь от Ибсена через Чехова, скажем, к Самуэлю Беккету.
Но с этим связано еще и другое: в девятнадцатом веке писатель посвящал нас в личные чувства доброго буржуа, в его тоску, в религиозные убеждения, политические симпатии, стремился растрогать нас обстоятельствами его жизни. Широким массам в искусстве девятнадцатого века нравилась трогательная история Мани и Вани, или Жана и Мари, которой можно было посочувствовать, ибо она была узнаваема. Точно так нравился пейзаж с точки зрения – а хорошо бы туда отправиться погулять, а в музыке – почувствовать свои переживания. И это, в общем, нормально, но вот только для искусства двадцатого века этого мало. Эстетическое чувство в девятнадцатом веке не требует никакого специального органа для понимания искусства, его может понять всякий более или менее внимательный человек, в нем нет ничего специального. А вот для того, чтобы наслаждаться новым искусством, нужно принадлежать к элите, и широкая публика, переставая узнавать привычную историю Мани и Вани, теряется. Узнаваемость, жизнеподобные формы, характеры – всему этому искусство двадцатого века объявляет войну. Ему плевать на буржуазные добродетели, оно из девятнадцатого века любит больше всего «проклятых поэтов», оно антинародно в принципе. И оно, очевидно, унижает непривычных к нему и непонимающих, обращаясь к одаренному меньшинству. Оно больше не желает быть путеводителем масс, учителем жизни и наставником. Оно эгоцентрично и больше всего интересуется самим собой и может бесконечно описывать, как стакан падает со стола, или нюансы горлового смешка герцогини Германтской.
Такова позиция художника в двадцатом веке, и испанский философ Ортега-и-Гассет полагает, что это и есть позиция дегуманизации, некоторого приравнивания человека ко всем прочим вещам в мире. Так ли это, уравняли ли человека с вещью или произошло нечто противоположное, нам предстоит узнать из того курса, который мы начинаем. Конечно, я говорю о вещах принципиальных, осталось массовое искусство, которое следует самой примитивной традиции, остались некоторые традиционалисты, но в главном это совсем другое искусство.
Говорят, что по картинам художника семнадцатого века Терборха ученые определили, с какими странами торговала Голландия в те времена, потому что ковры на его картинах были изображены так, что можно понять, из какой страны они вывезены. Совершенно очевидно, что из искусства двадцатого века наши потомки никаких таких вещей почерпнуть не смогут: о том как мы ели, пили, одевались, работали это искусство расскажет мало достоверного. Но наиболее проницательным оно расскажет, как наши современники чувствовали себя изнутри, какими маниями мы страдали, какие страхи подавляли усмешкой. Многое утратив, многим пожертвовав, искусство двадцатого века научилось изображать незримые вещи. Впрочем, сказав такое вослед кому-то, я очевидно забегаю вперед и грешу бездоказательностью.
О писателе Томасе Манне и некоторых его произведениях (1875–1955)
Творчество писателя вовсе не всегда напрямую связано с его биографией, она необязательно это творчество предопределяет и обуславливает, хотя, как правило, писательские биографии принято рассказывать и именно в них стараться отыскать причины непохожести одного писателя на другого. А если исследователь, к тому же, правоверный поклонник Зигмунда Фрейда, то можно вообще при объяснении творческого своеобразия навеки застрять в пренатальном периоде, рискуя так никогда и не выплыть из околоплодных вод. Я думаю, есть писатели такие и этакие, у одних обстоятельства детства, происхождение, воспитание существенно повлияли на образ мыслей, у других роль таких обстоятельств невелика, и ими можно в известной степени пренебречь.
Жизнь человека, которого звали Томас Манн, сама по себе роман, роман сознательно и целеустремленно творимый писателем Томасом Манном в материи жизни, параллельно неиссякаемому потоку исторгаемых им слов. Если в чем-нибудь Манн и не сомневался, так это в безусловной и непреходящей значимости своей персоны в мире культуры. Это самоуважение, впрочем, тоже, как и все у него, подверглось описанию, и было характерологической чертой персонажа по имени Густав фон Ашенбах, отдаленного эхо самого Томаса. Но лучше все-таки по порядку.
Родился Томас Манн в городе Любеке, в семье добропорядочных бюргеров. Отец возглавлял торговую фирму. С матушкой, правда, дело обстояло не так добропорядочно в том смысле, что в ней была существенная доля южной крови, португало-бразильской примеси, она внесла в жизнь сугубо северного семейства южную страстность. Впрочем, страстность эта, о которой можно только догадываться, прекрасно сопрягалась у Томаса с сугубой респектабельностью и буржуазностью манер.
Семья была большой, но фигурой, о которой никак не умолчишь, был старший брат Томаса – Генрих, очень известный немецкий писатель, автор знаменитых романов, в частности, «Жизни короля Генриха Четвертого». К сожалению, у меня нет возможности говорить о нем подробно, скажу только, что это очень крупный писатель. Вообще прежде в России преимущественной любовью властей и соответственно большей популярностью – ибо больше печатали – пользовался Генрих Манн, он был по убеждениям левее, ближе к социализму, а, главное, после войны под конец жизни собирался переселиться из Америки в бывшую ГДР, но не успел, зато его прах туда перенесли. У братьев всегда были непростые отношения. Однажды в письме Генрих попал по больному месту, сделав это, конечно, сознательно, намекнул на то, что брак Томаса был продиктован расчетом, и в течение ряда лет братья не поддерживали отношений. Были еще две сестры, обе покончили жизнь самоубийством. Вообще этот вирус в семье гулял и свирепствовал: кончает с собой и сын Томаса Клаус, не лишенный таланта несчастный сын великого писателя, автор известного, довольно удачно экранизированного романа, наркоман с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Попробуйте, однако, выжить, если вы литературно не бездарны и, на беду, сын гения.
В юности оба брата ненавидели и презирали школу, но Генрих все же прилично учился, а Томас трижды оставался на второй год. Генрих и смолоду и позже был этаким богемным типом, а Томас более спокойным и солидным, и все же отец понимал, с кем имеет дело, и в завещании велел фирму ликвидировать и деньги между наследниками соответствующим образом разделить.
Вообще же начиная приблизительно с двадцати лет, пережив в течение нескольких месяцев опыт армейской службы, сбежав, или, прилично выражаясь, комиссовавшись, и не уставая говорить, что это был самый страшный опыт его жизни, Томас начинает целеустремленно заниматься тем, чем ему надлежит заниматься – писательством. Вся дальнейшая его жизнь – это писательство, писательство и писательство, и одновременно потрясающий случай сознательного театрального действа, непрерывной в течение всей жизни игры в себя в роли писателя.
Личная жизнь писателя Томаса Манна и творчество этого писателя – одно и то же. При этом вопрос, терзавший самого писателя и, естественно, его персонажей, лейтмотив многих его произведений, попросту можно передать так: быть художником значит обречь себя на аскетизм и самозабвение в самом что ни на есть непосредственном значении этого слова, а ведь, кроме творческих экстазов, хочется еще добропорядочной, добротной жизни, быть человеком, плотно и уверенно стоящим на ногах. Как совместить эти два столь противоположные начала? Именно поэтому идеалом для Томаса Манна стал Гете – величайший поэт, а с другой стороны, важный тайный советник фон Гете, веймарский министр и придворный. Это очень трудно совмещающиеся вещи. Манн был одержим образом Гете, у него есть повесть, посвященная Гете – она называется «Лотта в Веймаре». Когда Манна изображали на карикатурах, его чаще всего рисовали в облике Гете. Про историю женитьбы тридцатилетнего, уже сложившегося писателя, я буду рассказывать вам позже, в связи с романом «Королевское высочество», но хочу сказать, что и женитьба его, одна и на всю жизнь, в отличие от похождений Генриха, была связана с вполне буржуазным тяготением к дому и устоям. У него и дети родились, как он хотел, шестеро, три мальчика и три девочки. Он творил свою жизнь и свои книги согласно плану, и Генрих ошибался, когда говорил, что все это продукт расчета, это – продукт вдохновенного расчета. Томас Манн – человек редчайшей чувствительности и интеллектуальной тонкости, но сбить его с ног было нельзя, он имел продуманные убеждения и отлично знал себе цену. (Кстати, таким же был на дух Манна не переносивший Владимир Набоков.)
Когда к власти пришел Гитлер, Томас Манн относительно быстро разобрался в том, что этот субъект собой представляет. Естественно, его книги стали сжигать на площадях, его отрешили от всех почетных званий и принудили к эмиграции в Соединенные Штаты, где собрались в годы войны сливки немецкой интеллигенции. Позже во времена маккартизма и охоты на ведьм, Манн переехал в Швейцарию. В Германию он никогда не вернулся, хотя весьма представительная группа немцев выдвигала его на пост президента послевоенной Германии. А еще это был человек, которому писание давалось с флоберовскими муками, и каждое утро, садясь за стол, он корчился от болей в желудке. Это был человек, который одновременно до такой степени понимал, какова будет посмертная история его произведений, что не написал, в простоте души, непосредственно и необдуманно ни единого слова, он и все письма писал, прекрасно понимая, что они будут опубликованы. Исключение составляет огромный дневник, – некоторые тетради, впрочем, были самим автором сожжены – который начал публиковаться после смерти старшей дочери Эрики, по личным причинам препятствовавшей публикации.
Эпистолярное наследие Манна замечательно, особенно интересна переписка с Генрихом.
Когда в семьдесят лет Томас Манн заболел раком легкого и его прооперировали в швейцарской клинике – ему сказали, что это туберкулезный процесс, но он в общем-то и сам понимал, в чем дело. Впрочем, и тут сказался писатель: он подробнейшим образом описал историю пребывания в клинике и собственной болезни. И это очень увлекательное сочинение. А после удаления легкого Манн прожил еще десять лет, написал в восемьдесят лет, не успев закончить, самый свой веселый роман, «Приключения авантюриста Феликса Круля», очень неудачно экранизированный немцами, и умер от тромбоза бедренной артерии. Ему посвящена бездна исследований и даже есть кинематографические версии его жизни и жизни семьи, американские и немецкие. Кстати, известен был не только несчастный Клаус Манн, другой сын Голо, очень похожий на батюшку, был очень известным историком. Манн – одна из самых монументальных и величественных фигур всей немецкой литературы.








