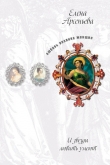Текст книги "Анна Павлова"
Автор книги: Вера Красовская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Пройдет десять лет – вариацию феи Кандид поручат танцовщице Павловой 2-й.
Балетоманы приготовятся по статьям разобрать новенькую...
Есть ли ей девятнадцать лет? Недавно кончила школу, а вот дают ей одно сольное место за другим.
И какая-то она от всех отличная. Чересчур худощава. Ножки, правда, прелестны: так круто выгнут подъем, так пластично обозначен каждый мускул, благородна лепка тонкой щиколотки, высокой икры. Зато руки еще чуть угловаты, картонная корона будто тяжела для маленькой головы на гибкой шее.
Но с первых тактов танца этой феи Кандид волшебный покой окутал дворец короля Флорестана. Невесомы были шаги, хрупкие руки плели чистый узор, доверчивая улыбка в темных, наивно-серьезных глазах сулила новорожденной принцессе безмятежное детство... Вот в финале танца фея склонилась, вслушиваясь в певучую фразу...
Тихо вздохнули руки, еще раз, еще... И с последней улетающей нотой она вдруг поднялась и на мгновение сохранила зыбкий арабеск на пальцах...
Арабеск Анны Павловой. Его загадку уловил потом Серов в плакате, написанном для русских сезонов в Париже.
Музыка павловского арабеска звучала но-разному: стремительно и сдержанно, напряжением воли и робким раздумьем. Здесь могли чудиться звон спущенной стрелы, шелест стрекозьего крыла, шорох опавших листьев. Сравнения возникали изысканные и все же словно впервые открытые. К тому же они буквально реализовались в образах ее танцевальных композиций. То, к чему прикасалась Павлова, становилось важным: вдохновение открывало исключительное в банальном, мастерство искупало непритязательность замысла, интуиция определяла строгий отбор выразительных средств.
К тому же искусство Павловой было академично. Недаром изо дня в день, из года в год отрабатывали в школе накопленные поколениями навыки. По сути дела эти навыки только здесь и сохранялись. Академия танца, основанная в Париже, давно уступила свои лавры Петербургскому училищу. Правда, тут французские термины произносили с сильным русским акцентом, иногда безбожно коверкали. Но это дела не портило: русский акцент в балете иностранцы давно признавать научились.
Еще бы, полтораста лет прошло с тех пор, как ловкий француз Ланде открыл в верхних покоях Зимнего дома с соизволения Анны Иоанновны русскую школу танцевания. Тогда появились первые Флоры и Венеры, Аквилоны и Марсы из русских крепостных. За кулисами они отзывались на клички Агашей, Анюток, Тимошек, а на сцене плясали под какую угодно стать. Просто удивительно, откуда бралось чутье! Приведут сопливую девчонку, а глядь, она уже танцует Медею или Дидону, соблюдая все правила классицизма, да так, что ахнул бы сам славный Новерр. Настала пора романтизма – и русская сцена наполнилась сильфидами и наядами того же крестьянского происхождения. Да и позднее крестьянские плясуньи перенимали у мускулистых итальянок новейшие фокусы балетной техники, вплоть до фуэте.
Стили и приемы танца сменялись быстрее жизненного уклада. Дедовских обычаев держались крепко. И пусть почти полвека протекло с отмены крепостного права, а без бумаги, справленной в волостном правлении, крестьянская жена не смела уехать от мужа. Мог при желании и по этапу вернуть...
1. Вероисповедания: православного.
2. Время рождения или возраст: 40 лет.
3. Род занятий: прачка.
4. Состоит ли или состояла ли в браке: состоит.
5. Находится при ней: дочь Анна (от первого брака).
Предъявительница сего Тверской губернии Вышневолоцкого уезда Осеченской волости деревни Бор солдатская жена Любовь Федорова Павлова уволена в разные города и селения Российской империи от нижеписанного числа по десятое октября 1899 года.
Дан с приложением печати тысяча восемьсот девяносто восьмого года октября десятого дня.
Волостной старшина М. Жуков.
Кто знает, каких трудов, может быть слез стоила эта бумажка женщине, хотевшей последний год дочернего учения побыть около своей Нюры.
Семь лет уже, как она, жена запасного рядового Матвея Павловича Павлова, привела дочку в школу.
Вот тогда Нюра выглядела довольно-таки неприглядным утенком: волосы прилизаны назад, и на темном шерстяном платьице две нитки фальшивого жемчуга.
И не чаяла, что возьмут. А взяли.
Каждый день поливали пол из проржавевшей лейки. Девочки в серых полотняных платьях (квадратный вырез открывает шею, юбка спускается до половины икры), взявшись левой рукой за палку, протянутую у трех стен, начинали мерно приседать, развернув ноги носками врозь: первая, вторая, пятая позиции. Плавные движения сменялись отрывистыми. Вытянутые пальцы ноги упруго вытягивались в пол – вперед, в сторону, назад или же, скользнув до колена другой ноги, устремлялись как можно выше в воздух в мягком батмане. Упражнения повторяли то с одной, то с другой ноги по восемь, шестнадцать, тридцать два такта. Потом выходили на середину. Гимнастика постепенно превращалась в танец. Позы адажио, следуя в разных комбинациях, сливалиеь в танцевальную фразу. Прыжки и скольжения аллегро набирали мало-помалу размах и силу. В конце урока выстраивались в шахматном порядке, чтобы каждая видела свое отражение в четвертой, зеркальной стене, и перегибались вперед, назад, из стороны в сторону, помогая округлыми взмахами рук.
Екатерина Оттовна Вазем, серьезная дама, неукоснительно следила за всеми:
– Не отрывайте в приседании пятку от пола. Поднимаясь на полупальцы, втяните колени.
И так десятки раз.
Сегодня ноги затекли от упорных повторов. Завтра, может быть, тело будет словно налито свинцом. Но пройдет неделя, и оно точно проснется по-новому свежим и легким.
Когда-то Вазем была балериной. Первая Никия в «Баядерке». Но будто и не помнит об ртом:
– Танцевать успеете после. А сейчас... И-и раз, повторим battements soutenus.
Тяжелее, чем многим, приходилось воспитаннице Павловой.
– У вас, милая, сил недостаточно. Я скажу доктору, чтобы прописал вам рыбий жир...
Сил действительно маловато. Зато есть воля, упрямство. Переодевшись в шерстяную синюю форму с белыми передником и пелеринкой, надо сидеть как ни в чем не бывало на географии, истории, законе божьем. Надо твердить на рояле гаммы. Надо, подвязав капор, натянув узкую шубку, вышагивать в парной шеренге на прогулке по двору, куда смотрят окна квартиры директора театров и двухсветного репетиционного зала.
7 ам, в зале, всегда полно актеров. На общие репетиции воспитанниц приводят заранее. Для них поставлена сразу у двери деревянная скамья.
После школьного однообразия в глаза ударяет пестрота пачек, часто подколотых двойными булавками (чтобы торчали, по ходкому словечку, «петухами»), богатых шалей, даже меховых накидок, в которые зябко кутаются иной раз самые последние кордебалетчицы. Уши и пальцы у этих переливают драгоценностями.
Кто-то «разогревается» у палки, кто-то повторяет финальную цепочку туров своей вариации, кто-то разучивает с партнером новую поддержку.
У стен стоят, облокотись на палку. Сидят те, кому незачем упражняться: дальше второй или четвертой линии в общем вальсе им все равно не выбраться. Есть и полные, домовитые дамы, на танцовщиц вовсе не похожие: они вяжут, вышивают, переговариваются шепотом. Им скоро на пенсию.
Нестройный говор смолкает, когда появляется репетитор.
Лев Иванович Иванов обычно проходит в правую дверь, поднимаясь по нескольким ступенькам в дал из помещений актеров. Поэтому сначала показывается лысеющая голова, добродушное одутловатое лицо с неуверенно сидящим на переносице пенсне со шнурком. А потом и весь он – тучноватый, ленивый, неповоротливый, одетый во что-то бесформенное горохового цвета.
Лев Иванович работает трудно. Прежде всего для самого себя. Он давно понял: за Петипа не угнаться. Тот может украсить танцем пустейшую музыку, зная притом разницу между Минкусом и Чайковским. А вот он, Иванов, не умеет расшивать узорами водянистые мотивчики. Сам мается и других мучает. Все тогда видится какое-то одинаковое, казенное, что вызывает у него отчаянную лень, у актеров насмешки. Они и передразнить могут: любя, но обидно. Однажды, репетируя в Красносельском летнем театре концертный номер, развел по сторонам сцены двух танцовщиц, задумался... Только открыл рот, а кто-то из кулис возьми и пропищи:
– Pas ballonne навстречу друг другу!
И ведь угадала, негодница!
Зато как работала труппа, когда ставил половецкие пляски к премьере «Князя Игоря»! Или танец снежных хлопьев в «Щелкунчике». Или вторую картину «Лебединого озера». Там музыка не только не мешала,– напротив, открывала в душе такое, о чем и сам не подозревал. Четко отбирала тогда мысль стихийный наплыв образов.
Мариус Иванович поморщился, когда на репетиции зал встретил аплодисментами половца-лучника. И не дал поставить «Лебединое» целиком. Пришел больной, посмотрел лебедей, помрачнел и объявил, что крестьянский вальс и праздник во дворце поставит сам. Смешно! Ему ли завидовать?
Хороша была Леньяни – Одетта. Непохожа на других гастролерш. Как влюбилась в русскую музыку, как угадала плавность русской повадки! Недаром просит называть себя Пьериной Осиповной. Вон стоит, дожидаясь начала. Щупленькая, маленькая, завернулась чуть ли не по уши в какую-то невзрачную кацавейку, а глаза живые, быстрые.
Спектакль репетируют для коронационных торжеств в Москве, На счету у Петипа уже не первый: в 1883 году сочинял к восшествию на престол Александра III балет «Ночь и день», сейчас, в 1896 году, к восшествию Николая II – «Прелестную жемчужину». Заняты будут лучшие актеры, из школы выбрали детей, наверно, сотню, в Москве еще из Большого театра прибавятся многие.
Главную роль репетирует Леньяни. А Кшесинская просто сама не своя от злости. Сегодня вошла в зал непереодетая. Горда, как герцогиня, и не то чтобы красива, а интересна очень: холеная, капризная и энергичная.
Будто бы ей в дирекции дали понять, что неудобно бывшей фаворитке танцевать перед молодой царицей. Ну, она, говорят, нажала на все пружины, и великий князь Сергей Михайлович, – нынешний ее,– уже ездил к государю с просьбой. Матильда Феликсовна своего добьется...
Левая дверь – дверь святилища, куда доступ открыт не всем,– торжественно распахивается, и на пороге встает худощавый, прямой, зоркий старик. Он идет между поспешно и почтительно расступившимися актерами, Сдерживая чуть заметную тряску головы. Он словно только что вымыт дорогим французским мылом: волосок к волоску расчесаны, бородка с густой проседью и завитые кверху усы. Костюм щегольски вычищен, ослепительно белый крахмальный воротник подпирает сухие щеки, манжеты спускаются на вздувшиеся голубыми венами руки.
Это Петипа.
Репетируя, он неизменно ровен. Даже когда пылко, по-галльски сердится. Если доволен, не без хвастовства приговаривает: «Bien, Ыеп», всматриваясь в хитро разведенную группу, в живописно раскинутый узор из стоящих, коленопреклоненных, лежащих людей. Он знает цену себе, бессменному хозяину балета северной столицы. Иные газетные писаки стали позволять себе намеки на то, будто он устарел. Абсурд! Его фантазия неистощима. Кто сумеет, как он, распорядиться массой, угадать талант, подать танцовщицу с выгодной стороны? Сколько он уже поставил спектаклей – египетских, индийских, черногорских, норвежских, испанских. Правда, он ни разу не тронул русского сюжета. Но рто тоже мудро. Уже все, по его мнению, сказал в 1864 году в «Коньке– горбуике» Сен-Леон.
О пустившись в кресло, Петипа кивает аккомпаниатору.
Репетиция началась. Леньяни танцует с Гердтом: она – Жемчужина, он – Гений земли.
Музыку сочинил капельмейстер Дриго.
Петипа позаботился заполнить ее гибкий рисунок непрерывно льющимся танцем.
Леньяни вносит покой в самые виртуозные движения, и партнер отпускает, ловит, подхватывает ее, нигде не нарушая кантилены адажио.
Поразительная точность. Поразительно выглядит Гердт даже в резком свете весеннего дня. Ему шестой десяток, а он юношески строен. Рыцарски благородный, мужественный...
Заключительная трель аккомпанемента возникает в кружевном плетении pas de bourree балерины. Упругий мягкий толчок, матовый перелив туров, и танцовщик удерживает партнершу в позе ныряющего полета.
Секунду поза длится в падающем из окна косом снопе солнца, полном пляшущей пыли. Потом все обернулись на прерывистый вздох из угла, где скучилась школа. И Гердт, заботливо оправив смятые тюники Леньяни, поставил ее на ноги и тоже с улыбкой туда посмотрел.
Уже сезон училась у него воспитанница Павлова. «Способной, но слабенькой» отрекомендовала ее Вазем.
Что ж, правильно. А сейчас девочка еще в невыгодной поре: в той, когда вытягиваются настолько, чтобы положить руку с нижнего ряда палки – для младших классов – на верхний, и с непривычки не знают, куда девать рти самые руки все остальное время.
К тому же она тонка, как спичка. Ноги хороши. Даже, пожалуй, слишком: при таком от природы выгнутом подъеме трудно сохранять устойчивость на пальцах.
И все же между учителем и ученицей сразу возникла симпатия. Собственно, он высмотрел ее еще на приеме и настоял, чтобы взяли рту серьезную девочку, не имевшую протекции.
В ней угадывалось то, что тогда называли талантом, а позже сухо: индивидуальностью. Тот дар, что, как философский камень, превращает в золото все, к чему бы ни прикоснулся.
Ради нее Гердт ворошил в памяти забытые образы романтического балета. Случалось, ей не давался виртуозный пассаж современной вариации, рассчитанный на крепкие мышцы. Тогда в конце урока учитель показывал танец с тенью из балета «Наяда и рыбак»: еще мальчиком он запомнил в нем Карлотту Гризи – волшебницу с фиалковыми глазами.
– Не надо отчаиваться, – говорил он. – Технике можно научиться, грации не приобретешь. Повторим-ка еще этот ход.
И Павлова, разбежавшись на пальцах, останавливалась в намеренно незаконченной позе: бесплотная Ундина увидела, что от ее ног протянулась тень, и задумчиво, удивленно всматривается в нее, сохраняя простертыми руками равновесие хрупкого тела.
Ясная фраза – и сколько в ней смысла: человеческое пробуждается в дремавшей душе.
«Когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то это грация», – писал как раз в те годы Чехов. Гердт прожил жизнь в искусстве движений, чтобы прийти к тому же выводу. Позже Энрико Чекетти научил Павлову секретам виртуозной техники. Но, овладев, казалось бы, невозможным, она сдержанно отказывалась or него.
Как о «странном капризе» Павловой рассказывал много лет спустя танцовщик ее труппы, анг– . личанин Альджеранов:
«Она увидела, что одна из девушек неуклюже пробует fouette.
– Вы хотите учить fouette? – сказала она на ломаном английском. – Я показываю вам.
Она стала в позицию, свертела тридцать четыре fouettes. На ходу подобрала сброшенную шаль и продолжила путь в свою уборную».
Чекетти понял потом, что la divina Anna имеет право, постигнув технические тонкости, вовсе не хотеть пользоваться ими. В школе он не занимал ее, чужую ученицу, в своих постановках. Зато рте делал Петипа.
В 1898 году Петипа возобновил между прочим анакреонтический пустячок на музыку Пуни «Две звезды», сочинения еще 1871 года. Для школы то была великая честь, хотя причину все хорошо понимали. На будущий год кончала одна из его дочерей – Любовь Петипа. Умный маэстро назначил ей третью по списку роль Венеры: тем более, что лентяйка и здесь едва ли была пригодна. Звездами были две ее сверстницы, предвыпускные ученицы – Станислава Белинская и Анна Павлова. Партию Адониса исполнял выпускник. Звали его Михаил Фокин.
Способные, прилежные подростки, Павлова и Фокин просто отличная пара. Конечно, выпускницы класса Чекетти – Любовь Егорова и Юлия Седова – посильнее, да и Белинская тоже. Но Павлова удивительно умеет поймать в партии поэтическую суть и придать ей свою окраску. Это Петипа заметил давно. Например, забавно: на репетициях, когда она танцует соло, Фокин смотрит не отрываясь, бессознательно помогая ей в трудных местах движением головы. А Павлова выпевает каждую ноту и, надо сказать, находит что-то свое в заигранной музыке Пуни.
Незаурядный лирический дар.
Лирический! Только ли?
Через год на сцене Михайловского театра, где вошло в обычай показывать балетные вечера учеников, Павлова танцевала уже в собственном выпускном спектакле. И Гердт решил всех удивить.
Сначала он провел несколько опытов в школьном театре. Репетиции там всегда праздничные. Вызывали туда в любое время, когда Павел Андреевич бывал свободен от своих обязанностей балетного премьера.
Сидя в классе, девицы следили за уроком рассеянно. Спрашивать последний год избегали. Знали: у всех не то на уме. И верно, слушали вполуха, поглядывали на дверь. Наконец она отворялась:
– Прошу извинить, – объявляла классная дама. – Павел Андреевич уже прошел в театр.
В ее сопровождении чинно шествуют мимо инспектрисы. А та будто закована до подбородка в глухое черное платье, неприступна, как памятник, на своем всегдашнем посту – у столика посреди широкого коридора, куда выходят двери всех классов. Даже встретив ее второй, третий раз на день, лучше поспешно присесть, лепеча:
– Bonjour, Варвара Ивановна!
А завернув за угол – бегом, минуя лазарет, и, по трем ступенькам, в кулисы небольшой, но глубокой сцены. Занавес раздвинут, и через оркестр видны ряды кресел. Здесь бывает отборная публика.
Случались вовсе закрытые спектакли. Тут-то и пробовал Гердт выпускать Павлову в самых неожиданных партиях.
Постепенно он убеждался: любой задаче она не ответит фальшью. Ее тело способно стать невесомым, утонченные линии – прозрачно светлыми, мягкими. Стоит ей посоветовать – движение заострится, засверкает. И вдруг ломкий, угловатый прыжок растает в плавном русском ходе, уступит упругой гибкости, дразнящей силе в испанской пляске, обернется новыми гранями в горделивой мазурке.
Гердт рад отдать все, что знает. Но в чем-то она уже мудрее. Да и никто в школе и театре не способен научить тому, что известно ей по странной догадке.
Покамест в русском балете царит уверенный и ясный академизм. Покоем овеяны классические пропорции созданий Петипа. Что изменилось за последнее десятилетие, незаметно протекшее от «Спящей красавицы» до «Раймонды»? Лев Иванов сочинил своих лебедей? Но он и сам не понимает, что шагнул в XX век, что, веруя в незыблемость балетных основ, сильно пошатнул привычное.
Откуда же берутся у девочки, ученицы, воспитанной в правилах строгого режима, в искусственной атмосфере оранжереи, все эти капризные смены настроений? Почему так тревожат, так будоражат и печаль ее и радость?
Балет – как заколдованный замок, где все пребывает в неподвижности.
В других искусствах все сместилось и понеслось.
Сколько поэтов! Среди них начинающий Блок. Сколько прозаиков! Не сегодня-завтра встретятся Чехов и Горький. Сколько художников! Им уже мало писать картины, они выпускают и журналы с увлекательными названиями, например «Мир искусства», судят обо всем, включая театр и литературу. Многие пришли работать в театр: у Мамонтова в Москве, в Русской частной опере первый человек – художник. Да и не у одного Мамонтова. Управляющий конторой московских императорских театров, господин Теляковский, пригласил в казенную оперу художника-станковиста Коровина.
Все перепуталось. Прославился Художественнообщедоступный театр: возглавляют его купеческий сын Алексеев, по сцене Станиславский, и литератор Немирович-Даиченко.
Но все циклоны и водовороты событий благополучно минуют балетный театр.
Здесь никто не принял всерьез «Клоринду»; Этот балет только что, в 1899 году, поставил для школы рядовой танцовщик, учитель средних классов Александр Горский.
Здесь никому не интересно, почему бегает по музеям, учится играть на народных инструментах, рисует, запоем читает танцовщик Фокин. Он прошлой весной кончил школу, получает сольные места. Другой бы доволен был, этот же все что-то ищет...

А. Павлова – ученица Петербургского театрального училища

А. Павлова и М. Фокин – серенада «Арлекинада». Мариинский театр

А. Павлова – Флора, М. Фокин – Аполлон «гПробуждение Флоры» Мариинский театр

Принцесса Флорина «Спящая красавица». Мариинский театр

Снег «Камарго». Мариинский театр

А. Павлова и М. Фокин «Камарго». Мариинский театр

Аспиччия «Дочь фараона» Мариинский театр

А. Павлова и Г Кякигт – pas de deux «Наяда и рыбак». Мариинский театр
А выпускной спектакль Павловой газетами не отмечен. О нем вспомнят потом, задним числом.
«В один из вечеров нашей бледной и вялой северной весны, когда периодически, через каждые пять минут, льет дождь и проясняется небо, когда холод и грязь одолевают петербуржца, – я попал в уютный уголок, в светлое, теплое и зеленое царство дриад».
Так описанием выпускного вечера Павловой начал очерк о ней известный балетный критик Валериан Светлов, горячий сторонник Петипа, что не помешало ему стать потом еще более пылким сторонником Павловой, Фокина и сурово иной раз выговаривать, скажем, Кшесинской за ее художественную консервативность, нечуткость к новому. Очерк о Павловой вошел в книгу Светлова «Терпсихора», изданную в 1906 году.
Спектакль состоялся 11 апреля 1899 года.
Гердт скомпоновал «балет-картинку» на сборную музыку Пуни и назвал ее «Мнимые дриады». Вполне старомодный опус в духе балетных комедий о «нечаянной любви», где вельможи и простолюдины процветают в завидном единстве.
«Был на сцене молодой граф с своим другом студентом,– вспоминал Светлов,– был старый дворецкий с своей молоденькой, юной дочерью была баронесса, ее подруги, ее воспитательница, крестьяне и крестьянки, которых прежде звали в балете пейзанами и пейзанками. Словом, самый обыкновенный ученический спектакль».
Действительно, обыкновенный. Незамысловатая интрига занимала ничтожное место, а после «мнимые дриады» – и баронесса, и дочь дворецкого, и все их знатные и незнатные подруги – соревновались в танцах, увлекая за собой графа, студента и молодого крестьянина. Танцы исполнялись на музыку из разных балетов. Тут Гердт ничего не сочинял. Важно было показать, что ученицам по плечу расхожий репертуар. Идиллическое зрелище завершилось общим галопом и вальсом.
«В первых рядах сидело жюри и ставило баллы дриадам». Scene de coquetterie, первая танцевальная сцена в «Мнимых дриадах», отозвалась в этих рядах словно легкая рябь в застоявшемся пруду. Головы склонялись одна к другой, экзаменаторы, перегибаясь через соседей, перешептывались, улыбались:
– Вот вам и лирическая танцовщица. Да у нее способности демихарактерного порядка.
Позади, в зале, шуршали афишками, разбирая:
«Дворецкий графа – в-к Иванов И.
Его дочь – в-ца Павлова».
Сияли огни рампы, нарисованная листва отбросила сквозную тень и зазвучала птичьим гомоном, неподвижный ручей заплескался с камня на камень. Такими увидела, услышала, почувствовала их «дочь дворецкого» и заставила поверить себе весь зал.
«Мимика ртой девочки в сцене с крестьянином была уже выразительна, и уже чувствовалось в ней что-то свое, а не затверженное, ученическое».
Ей было весело кружить голову крестьянскому пареньку, сознавая, что она неотразима в лукавой игре. Она испытывала счастливое волнение впервые услышанных признаний...
Условность балетного танца казалась тут естественным средством выражения чувств. Наверно, потому обтертые приемы профессиональной выучки будто рождались вновь, заражая искренностью.
«Я не знаю, сколько ученое жюри поставило воспитаннице Павловой, но в душе своей я тогда же поставил ей полный балл – двенадцать, а очутившись на улице, под холодным дождем, и вспомнив эту мнимую дриаду, прибавил великодушно плюс», – кончал рассказ Светлов.
Школа осталась позади, в XIX веке. В театре XX век понемногу что-то менял.
Скромно, как жил, умер Лев Иванов. Его хоронили за казенный счет, отметив в газетах «добросовестного труженика».
У Петипа начались неприятности. Он брюзжал и жаловался. Душа в душу работал он двадцать лет с Иваном Александровичем Всеволожским – ценителем изящных традиций, и теперь нелегко было мириться с новыми директорами. Князь Сергей Михайлович Волконский толковал о новых веяниях, сам не очень понимая, что ему надо. Завел дружбу с мирискусниками, потянул их в балет и тут же поссорился с Бенуа и Дягилевым. Но он хоть был вежлив...
А когда Волконский слетел по милости Кшесинской, директорское место прочно оседлал кавалерийский полковник Владимир Аркадьевич Теляковскяй.
С ним совсем не было сладу. В глаза говорил старому балетмейстеру, что тот устарел. Нимало не считаясь, предложил Горскому переделать «Дон Кихота», когда-то поставленного Петипа.
Горский уехал в Москву балетмейстером Большого театра. Все равно, в Мариинском спокойней не стало. Теляковский покровительствовал братьям Легат. Тем, правда, до Горского было далеко. Николай способный педагог, Сергей интереснее как исполнитель. Оба хорошие рисовальщики: в 1903 выпустили альбом весьма острых балетных карикатур. Но балетмейстеры они посредственные и дальше собственного носа ничего не видят, сражаясь с Петипа его же оружием.
Поэтому перемены, даже увольнение Петипа,– уж казалось бы! – на существе дела не отозвались. По-прежнему «Баядерку» сменял «Корсар», «Эсмеральда» шла в очередь с «Тщетной предосторожностью», «Жизель», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» оставались непревзойденными вершинами, а путь в сторону казался бессмыслицей. '
По-прежнему главные роли закреплялись за определенной балериной. Теперь труппа состояла только из отечественных талантов и, пожалуй, была сильна, как никогда.
Длинные нити тянулись из особняка в начале Кронверкского проспекта, где решались судьбы вовсе не одного балета. У прима-балерины императорских театров властности было, что у Марины Мнишек: непочатый край! Она могла снять с поста директора важного чиновника, что посмел оштрафовать ее, «как прочих», за самовольство в костюме. И могла просто так, ради минутного каприза, выхлопотать «высочайшую милость» офицеру, осужденному за дуэль.
Но, что бы ни делала, она делала все с азартом. Так и в балете: не уступая первенства, умела быть достойной его.
«Нет на свете царицы краше польской девицы», – сказано у Пушкина. И дальше, с усмешкой, словно прямо про Кшесинскую: «Весела, что котенок у печки, и, как роза, румяна, а бела, что сметана, очи светятся, будто две свечки».
Такой была она в лучшей роли – Лизы из «Тщетной предосторожности»: смышленой плутовкой, «Лизой – себе на уме», как было замечено в одной из рецензий.
Но она могла быть и холодно надменной. Знала как блеснуть, как ошеломить каскадом отграненных движений, очаровать неприступной повадкой, ну хотя бы в «Дочери фараона». А потом вдруг умиляла беззащитной женственностью Элмера льды. ..
Ольга Осиповна Преображенская тоже славилась силой воли. В труппе было немало красавиц. Еще больше было старательных. А немногие выбивались дальше вторых танцовщиц. Она же, невзрачная, даже, как выражались, корявенькая, без покровителя, без всякой протекции, добилась положения балерины. Заставила признать свой талант.
В газетах этот талант привыкли называть обаятельным. Избито, но верно. Случается, композитор напишет романс на плохие стихи и подарит им нечаянную поэтичность. Преображенская, взявшись за вариацию, где и танец и музыка всем навязли в зубах, могла наполнить ее особой свежестью.
Некоторые танцовщицы выделяются большим шагом: нога поднята в арабеск, в спине образуется изгиб, кончик ступни становится вершиной идеального треугольника – всей позы. Другие обладают природным прыжком. Третьи напористы в турах: неприметный зачин – и тело вибрирует натянутой струной, сливая несколько поворотов в один.
Преображенская ничем таким не отличалась.
Но вот выходила она в знаменитой фортепианной вариации Раймонды в grand pas последнего акта.
Скатным жемчугом рассыпались арпеджио рояля и нота в ноту отзывались в ее ходе на пальцах. Не музыка вела танцовщицу, а сами движения звучали музыкой. И, контрастно чеканному ходу, мягко плыли руки, не сбивая рисунка даже там, где движения ног все стремительнее подгоняли темп.
Музыкальна. Оттого вольной импровизацией отдавали порхания «капризной бабочки», внезапные скачки уличной танцовщицы, ее стремительные падения в руки тореадора. Охотно повторяла номера на «бис», импровизируя уже открыто и напоказ, под ту же неизменную музыку. На «ура» проходила в концертах ее матросская пляска...
Первых танцовщиц от балерины отделяло звание да жалованье. Балеринские партии кое-кто из них исполнял не реже Кшесинской. Особенно с тех лор, как та перевела себя на трехмесячную службу: начинала выступать с ноября, а в самый разгар масленой недели прощалась с публикой.
Трефилова Вера Александровна на сцене держалась строго, иногда чопорно. Выводила ладными ножками «колоратурные завитки» балетной техники – в прическе локон не шелохнется. Что Сванильда, что Аврора, что Одетта – все были у нее одинаково фарфорово-статуэтны.
Многим нравилось. Один Светлов набрасывался в каждой рецензии на «грамотные, но нехудожественные танцы». Наверно, изумился бы, скажи ему тогда кто-нибудь, что от ненависти до любви – один шаг. Пословица оправдалась вполне: свадьба Трефиловой и Светлова состоялась в 1916 году.
У Юлии Николаевны Седовой были все данные балерины. Природа наградила шагом, прыжком и сил дала с избытком. Партнеры предпочитали ее многим: на пальцах стояла уверенно и твердо – хоть не держи; при подъемах помогала прыжком, – а это в воздушных поддержках полдела.
И все-таки лучшего она достигала в классе. Там не надо ни выразительности, ни грации. Там правильность – мерило художественного. А у Седовой даже упражнения, рассчитанные на пользу мышцам, радовали глаз безупречной чистотой.
Публика ее скорее уважала.
Едва ли больше нравилась Любовь Николаевна Егорова, при том, что во всем была другой. Чекетти выучил ее не хуже Седовой, но техникой она не щеголяла; ей скорее давалась своеобразная благонравная лирика, как она ее понимала. Миловидно склонялась над коленопреклоненным кавалером и даже в фуэте умела сохранять невозмутимость. «Она посылает в театральной карете на спектакль одни лишь ноги, а сама остается дома и преспокойно кофеи распивает», – съязвил как-то рецензент.
Рецензент должен был ахнуть, увидев, какое чудо стряслось с Егоровой потом, в 1910-м, когда Павлова и Трефилова покинули театр и редкими гостьями сделались там Кшесинская, Преображенская. .. Сдержанность осталась, но – таков уж секрет замедленного развития – бездна чувства открылась под привычной миловидностью и одухотворила искусство Егоровой.
Зато Агриппина Яковлевна Ваганова сразу прослыла смутьянкой. Режиссеры то и дело штрафовали ее за «непозволительные» выходки и словечки. И самые танцы ее были дерзки.