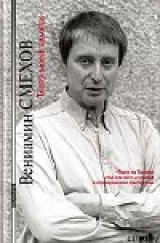
Текст книги "Театр моей памяти"
Автор книги: Вениамин Смехов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
Из Ленинграда позвонил Александр Володин: "Веня, тут приехали две девочки, не буду называть имен, они прямо с поезда вошли ко мне с письмом – подпишите, это о статье Смехова. Я говорю: с удовольствием, такая правильная, хорошая статья. Давайте сюда. А они не возражают, дают мне… И тут я пробежал их письмо глазами. Какая-то глупость, как это возможно? А кто еще, кроме меня, отказался? Они назвали одного, другого… И Святослава Рихтера назвали…"
Я стал записывать и собирать хорошие отзывы. Оказалось многие, кого А.В.Эфрос ценил, поддержали "Скрипку Мастера". В "Московских новостях" вышла статья А.Смелянского, одобряющая мою публикацию. Среди записанных мною: Натан Эйдельман, писатель-историк и друг А.Эфроса, критик Игорь Виноградов, выдающийся лингвист Вячеслав В.Иванов, актеры М.Козаков, В.Гафт, О.Табаков, М.Ульянов, театроведы Борис Зингерман, Алексей Бартошевич, Видас Силюнас, Майя Туровская, Инна Соловьева, Михаил Швыдкой…
Вскоре те из подписавшихся в "Советской культуре", с кем я был лично знаком, объяснились со мной: и Г.А.Товстоногов, и О.Н.Ефремов, и А.А.Аникст. Но самую большую боль своею подписью мне причинил Сергей Юрский – любимый актер, мой друг и ближайший свидетель горьких лет Эфроса на Таганке.
В эти же месяцы 1988 года Н.Губенко ведет хитроумную работу по возвращению в СССР Ю.П.Любимова. Ниже, в главе «Таганка» в Мадриде" я описываю первую встречу с "отцом семейства" в марте, все наши страсти и надежды. В мае Юрий Любимов прилетел в Москву, и эти 10 дней действительно потрясли мир. Он прилетел (так того требовали органы госбезопасности) как "частное лицо", гость Н.Губенко. Сегодня кажется глупостью вся возня вокруг такой простой проблемы. Но я был свидетелем нервных, сложных шагов Губенко, срывов и успехов – на пути к возвращению Любимова. Помню множество звонков и визитов в ЦК и в МИД. Помню, что помогали мидовцы А.Ковалев и А.Адамишин, а также референты М.Горбачева и А.Яковлева. Помню, что почти все члены Политбюро были против. Помню, что «за» были трое, но их авторитет тогда перевесил и М.Горбачев, А.Яковлев, Э.Шеварднадзе. Помню, тогдашний министр культуры СССР, сочувствуя усилиям Губенко и рассматривая подписи ведущих деятелей искусства и науки под обращением в ЦК, сообщил по секрету о другом письме – других ведущих деятелей культуры. Они сигнализировали, что приезд Ю.Любимова повредит «перестройке» в СССР.
Прошло много лет, и нет нужды ворошить старые печали. "Где-нибудь на остановке конечной" кто-нибудь поумнее меня разберется в этой театрально-политической интриге. Много ответов, конечно, хранится в архивах ЦК и КГБ. Кое-что уже известно о тех властных махинациях, которые лишили театр нормального развития, Любимова – гражданства, а Эфроса – жизни. Что же касается статьи "Скрипка Мастера"… Правы были те, кто услышал в ней голос взывающего о помощи. Но голос этот мне сегодня кажется петушиным, а тон статьи – излишне патетическим. Для этой книги я оставил ту часть, что меньше грешила пафосом.
Маленькое отступление. До событий 1984 года я был оптимистом и миротворцем. Мне доставалось – и от Любимова тоже – за «маниловщину» и добролюбие. От школы до 20-летия "Таганки", за три десятка лет, я составил свой список любимых режиссеров. Беда на «Таганке» сломала мне жизнь. Сегодня я перечитываю дневники, пересматриваю кино моей жизни. И Фоменко, и Эфрос остались на своих местах. Постсоветское искусство началось с фильма "Покаяние". И по сравнению с моим личным судом над собой всякий суд людей из близкого Эфросу круга оставляет меня равнодушным.
«ТАГАНКА» В МАДРИДЕ
Из дневника 1988 года.
13 марта. Семьдесят человек – актеры, постановочная часть, администрация – в самолете ТУ-154 вылетают в Испанию. Восьмой Мадридский фестиваль искусств почтил своим приглашением спектакль «Мать» по М.Горькому, поставленный в 1968 году Юрием Любимовым. Час ночи по Москве. Минус два часа и "плюс 15" по Мадриду. Еще час – и мы распаковались в номерах отеля "Плаза". Площадь Испании, центр города, памятник Сервантесу с примкнувшими к нему Дон Кихотом и Санчо Пансой. Четыре миллиона жителей и три – автомашин. Кажется, все эти миллионы шуршат всю ночь под нашими окнами.
14 марта. Завтрак общий. Информация руководства о монтировке декораций, о репетициях для восемнадцати испанских статистов (в роли роты царских солдат) и общих прогонах. Встреча с музыкантами из оркестра Евгения Светланова. Обмен новостями и советы опытных коллег, где и как расправляться с местной валютой в тех символических величинах, что получены каждым на недельное проживание. Знакомство с городом, солнце, возбуждение, изобилие черных тонов в костюмах испанцев, хорошие лица, нет суеты, достоинство и снова – потоки машин. За день отдохнули от московской зимы, устали от мадридской ходьбы, смонтировали декорации (художник Давид Боровский) и отрепетировали с «солдатами» (режиссер Борис Глаголин).
15 марта. Доброе настроение за завтраком разрушено новостью из газет: один из молодых актеров «Таганки» – Алексей Маслов – исчез в "чужом направлении". Небывалое для нашего театра событие омрачено тремя опасениями: кем его заменить в роли Рыбина, как защитить дирекцию от разносов в Москве и как скажется побег юноши на наших попытках вернуть «Таганке» Любимова.
16 марта. Две огромные репетиции. Губенко вместе с Глаголиным и Боровским соединяют воедино актеров, испанцев-"солдат", световую партитуру, музыку и оформление "Матери". Между двумя репетициями – пресс-конференция. Губенко рассказывает биографию "Таганки". Вопросы журналистов, как мы и ожидали, о Юрии Любимове, о романе Горького и о… Маслове. Утолить их любопытство мы могли лишь по двум первым пунктам. О разнообразии в советском театре известно на Западе примерно следующее: есть один на всех Театр Станиславского, а все остальное – незаконнорожденная самодеятельность. На словах развеять версию не очень удалось, признания и изумления появились в газетах позже, когда испанцы увидели спектакль.
Ночью после нервного прогона спектакля в номере у главного режиссера собрался актив театра. Сообщение: по приглашению фестиваля завтра в Мадрид прилетает создатель Театра на Таганке Юрий Любимов. Естественно его присутствие на представлении своего детища. Естественно, мы были единодушны, когда Губенко опросил наши мнения. Естественно, нормального сна ни у кого в ту ночь не было.
17 марта. День премьеры. Утро – репетиция с "солдатами", с Желдиным-Рыбиным, со светом и т. д. У меня в номере появился знакомый дипломат, он в Мадриде замещал посла. Два дня назад матерился и угрожал директору театра – за сбежавшего актера. Сегодня улыбается и смело машет рукой на "пустяковую историю": Москва подумала и дала инструкцию в духе "нового мышления" – "пусть его плывет". С 14 до 15.30 – ожидание вестей из аэропорта. Встреча состоялась, и ее описать невозможно.
За месяц до Мадрида я передал журнал «Театр» с моей статьей "Скрипка Мастера" немецкой студентке Биргит Боймерс. Она работала над книгой о нашем театре и несколько раз была «связной» между нами и изгнанником. Д.Боровский и Н.Губенко встречали Любимова прямо в аэропорту. Боровский позвонил в гостиницу: "Все в порядке. Едем к вам. Веня, между прочим, Петрович в руках держит твой номер "Театра", представляешь?" Когда такси остановилось у дверей "Плазы", мы с Машей Полицеймако первыми бросились обниматься: Маша – с "самим", я – с Катей Любимовой. И Катя мне немедленно сообщила: "Дорогой, ваша статья – это бомба, Юрий Петрович не мог поверить!" Уже позже, говоря о новостях в России, Любимов сказал мне о своей реакции: за 70 лет советской власти не было случая, чтобы о художнике, лишенном гражданства, в СССР вышла такая публикация.
Пять лет без двух месяцев длилась разлука. Юрий Любимов подробно общался с каждым актером, электриком, костюмером, радистом… Номер нашего директора Николая Дупака за два часа оказался сценой удивительного спектакля. Об эмоциях умолчу. Главное – вечером. Спектакль в 20.30. Перед этим распевка. И никто не ноет, как обычно: зачем так рано собираться, можно отдохнуть, походить по городу… Явка в срок. Театр жил как одна семья.
Композитор Юрий Буцко, один из очень известных в стране и в мире, впервые в жизни выехал за рубеж. Возле него, возле рояля – вся труппа. Распевка. Затем «Дубинушка» – песня, театральное воплощение которой давно описано советскими критиками и сотни раз отзывалось овациями и у нас, и на гастролях в Париже и Берлине… Итак, все внимание пятидесяти актеров на Юрии Буцко, звучат куплеты русской песни… Среди актеров – Юрий Любимов. Его дирижерская пластика, седая голова и молодое лицо, совместное пение и замечания Буцко – все это стирает испанскую реальность. Никаких пяти лет не было, никакого фестиваля нет и в помине, ибо мы – на Таганке, на дворе – московское лето, и ни разлук, ни холодов судьба нам не обещает…
Однако с 20 часов – активный прибой испанских зрителей к нашему милому берегу. Афиши, буклеты, билетеры, привратники с галунами, приветливая речь, корреспонденты и… зуд ожидания.
…Прошел час, и реакция на сцену «Дубинушки» была знаком для любого знающего наше дело: успех обеспечен. Конечно, нюансов предвидеть мы не могли. Например, того, как дружно взрываются над волной аплодисментов "чисто испанские" выкрики "браво". Например, того, что в антракте актеры будут переодеваться и перекуривать под несмолкаемый аккомпанемент оваций. Или того еще, например, что публика так славно никуда не спешит по окончании спектакля. Вроде бы отхлопали, вроде бы вышли из дверей и пора бы в поздний час – по домам? Однако мы выскочили на пустую сцену, чтобы сделать фотоснимок на память… и даже вздрогнули: зрители вернулись и снова хлопают…
Мы ездили на полдня в Толедо, гуляли по древним мостовым, поклонились следам Эль Греко, загорали под щедрым мартовским солнцем, фотографировались на фоне улочек и храмов, в обнимку с муляжами-рыцарями и на фоне витрин с толедским оружием… Мы обошли за три часа (это совсем немного) основные залы музея Прадо… Но точно так же, как возле рояля в театре, – в Прадо ли, на улицах Мадрида или Толедо – картина была одна и та же: актеры "Таганки", их глаза и жесты, их речи и ритмы общения были посвящены далеко не Сервантесу и совсем не Эль Греко…
Николай Губенко объявил о сборе труппы на замечания по спектаклю. Кажется, это было после второго представления. В 15.30 все как один сидели в зрительном зале, а Любимов, прислонясь к сцене, делился впечатлениями, редактировал увиденное через пять лет… Какие были лица у актеров… Вернее, какое было лицо у всех, кто сидел в зале и к кому обращался автор театра и спектакля…
В таверну ХVII века и ночную "дискотеку андалузского танца" зашли на минутку, а захвачены навсегда – музыкой, культурой танца, красотой и изобретательностью движений, страстью гордых кабальеро, не снимающих улыбок со своих лиц… В пять утра явились исполнители фламенко, и семидесятилетний Любимов выразил свои чувства ко всем событиям: включился в танец вместе с профессионалами…
Я запомню весь калейдоскоп работы и встреч на фестивале. Я не забуду ночных прогулок по Мадриду – и автоклаксонов в честь победы испанцев-футболистов над немцами, и голых пяток живописно укрытых бездомных у подъездов спящих офисов. Я не забуду жестокой красоты яркоглазых молодых испанок и добросердечия хозяев фестиваля, щедрых восторгов всей прессы Испании и наших симпатий к временным таганковцам, испанцам-"солдатам"… Все запомню, за добро благодарен и даже не обиделся на резкие скачки погоды, отчего у многих сели голоса. Слава богу, выдержала нелегкое испытание главная героиня, Зинаида Славина – Ниловна. Я не забуду и того, как все дни и ночи трудился, переживал и помогал своему дому тогдашний главный режиссер театра тогдашний Николай Губенко. Временный герой нашего времени… Но, всё запомнив в точности, как было, я дружно запутаюсь только в одном: сколько дней длились наши гастроли?
Директор утверждал, что восемь.
ЮРИЙ ЛЮБИМОВ
Портрет с натуры
Сегодня Юрию Любимову все льстят (в глаза). Красивый, гениальный, молодой, артистичный. Иногда не хочется льстить совсем, но встретишься взглядом, но попадешь в зону бог знает какого напряжения, и сам не заметишь, как заговоришь, а выйдя из зоны, припомнишь, чего наговорил, – и руками разведешь. Сплошная лесть. Оправдываемся друг перед другом – ученики и околотаганцы: возраст! Пережитое! Сколько добра сотворил! Пусть ему хоть с опозданием воздается благодарностью…
Кто не имел дела с такими величинами, тому трудно понять, что это за зона. Впрочем, российский человек сызмальства ее предчувствует. И хочет сказать независимое слово – учителю, директору, отцу, председателю, президенту – и не может, все мимо, силы сеются в песок. Попал в зону и готов: "чего изволите-с?", "ха-ха-ха, как вы верно заметили…", "я бы сам ни за что не догадался…"
В случае с такими величинами, как Ю.Любимов, эта зона – совсем другого происхождения. Любимов ведь – не "чин", и зона его – не источник страха. Это магия духовной власти. Поле притяжения таланта. Нет, в портретисты я, конечно, не гожусь. То есть в реалисты, в передвижники, что ли. А вот в импрессионизме себя попробую. Итак, вот вам блики, эскизы, кадры впечатлений, а вы хорошенько прищурьтесь, отойдите на шаг – глядь, и портрет сложится.
1990 год. Сегодня я веду репетицию «Самоубийцы» Н.Эрдмана – по просьбе Юрия Любимова. Репетиционный зал Театра на Таганке. Гулко звучат голоса. Актеры за столом: проходим текст второго акта. Мне показалось, что для этапа читки совершилась полезная работа. Сегодня никто не разыгрывал комедию, актеры держали ритм и лад эрдмановского слова, почти былинного белого стиха. И сочетание серьезной озабоченности персонажей с бредовой мещанской чепухой дает надежду на будущее трагикомического спектакля. Любимов завтра примет данный "нулевой цикл" и на три месяца займется самым главным делом нашей жизни – строительством дома, которого никогда не было. В конце репетиции, вдохновясь приличной работой моих товарищей, я встаю и заявляю следующее: "Господа, кажется, мы все-таки что-то полезное заложили, и совесть наша перед Петровичем чиста. Завтра он нас увидит и скажет: "Ну что, в 11 часов собирались и до двух трепались? Отдохнули, и будя. Работать с десяти и до трех – времени нам отпущено мало…" Это он скажет, но я скажу вам так. Мне кажется, изменилась мизансцена наших взаимоотношений. Раньше он тащил нас за собой. И вкалывал за себя и за нас, так? Ситуация совершенно новая. Сегодня мы его должны увлекать работой. Что толку, если я обижусь и начну тяжбу с Любимовым на репетиции? Неужели события вокруг имени Высоцкого нас ничему не научили? Забыть хочется, кто и как его честил… И какой честный склероз охватил все головы потом. Какими все стали умницами и друзьями… Как у страны последний шанс, так и у нас, мне кажется. Будем благодарными к отцу семейства, будем достойными своих будущих благородных мемуаров…"
Назавтра в 11 часов Ю.П. начал репетицию. Народу в репетиционном зале набилось вдвое больше, чем вчера. Плюс магнитофоны, плюс вспышки магния. Юрий Петрович в хорошем настроении. Несколько теплых слов о Японии – "с их знаменитой сакурой" и с тамошним успехом любимовского «Гамлета» (гастроли английской труппы). Много слов о нашей расхлябанности, о пьянстве некоторых и безответственности всех. И через каждые три фразы: "Ну, давайте работать, не будем отвлекаться на болтовню…" И снова – то про Кашпировского, то про пленум российских писателей – "расистов", то про экономику, а то про нашу разболтанность. За два часа читки прошли две странички пьесы. Но мы знаем – это разминка, через неделю он заведется. К концу первой репетиции говорит: "Ну что, вы без меня тут с одиннадцати репетировали? Отдохнули, и хватит. Теперь засучим рукава и – с десяти до трех, господа артисты". Дружный смех. Узнав, что мы эту фразу уже «отрепетировали» без него, Любимов посмеялся с нами, и жизнь продолжилась…
Во время репетиций спектакля «Самоубийца» изредка записываю за Юрием Петровичем:
"…Надо житейски наполнять пьесу, важна здесь уверенность всех персонажей – "так жить нельзя", вот это и есть актуальность…"
"Не попадают этой пьесой, потому что не чувствуют своего времени…"
"…Аппаратчики надеялись: народ испугается, привычка всего бояться всех удержит дома, а вышло на митинг 25-го около миллиона, и вот Травкин, умный человек, сказал: народ преодолел ступень страха…"
"Мы никогда не идем бытовым путем, надо чувствовать шире, играть шире, но на сцене должны быть конкретные, натуралистические детали – как петух и могила в "Гамлете", как яичница в "Часе пик", как еда в "Деревянных конях"…"
"Сейчас все ищут виновных, и это совпадает с пьесой: вот почему Эрдман – настоящий драматург. Пьеса ложится на любое время… Природа человека всегда одна… человек в обществе… сейчас все хватают, все норовят схватить и смыться… и все ищут виновных… да нечего искать – все виноваты, надо искать только выход!"
1958 год. В курилке между этажами Театрального училища им. Щукина студенты терзают вопросами мастеров… Красивый, крепко сбитый Ю.П.Любимов, хоть и торопится от театра к уроку, но откликается на наши призывы. К своему и нашему удовольствию изобразил Бориса Щукина – на сцене и за кулисами. Ничего, мол, ему в жизни не было интересно, кроме ролей, и этим самым он без конца заражал молодых.
Репетируем Эрдмана:
"Ночная сцена, сон – и все доведенные: ах, ты спишь, ах ты сволочь, а я тут как лошадь или муравей целые дни… Вот они, советские отношения: ах ты сволочь! У нас неповторимый свой стиль за 70 лет… «Там» все шарахаются от нашего стиля – откуда же мы грубые такие, что нас могло довести до такого стиля…"
"Запретите себе бытовой тон – под себя… Говорить надо, как Николаша покойный, – чтобы каждый звук был ясен – это же стихи!"
1964 год, зима, дом отдыха ВТО. Обожаемый вахтанговец Николай Гриценко отдыхает в Рузе вместе со своей женой, она же – моя однокурсница Ира Бунина. И, гуляючи дорожками зимнего парка, я зову его посетить наш младенческий театр, сулю ему удовольствие, вопрошаю об их совместных трудах с Юрием Любимовым. На спектакли, хоть и собирался, Гриценко так и не сходил, а на вопрос ответил так: "Я Юру не видел год, как он ушел от нас, а тут застукал его возле машины и кричу: "Юрка! Я такого о тебе наслушался, понять не пойму! Чтобы Юра Любимов, дотошный станиславщик, самый прожженный правдист – и вдруг сделался ярым формалистом! Говорят, Брехта поставил так, что Станиславский во гробе перевернулся! Говорят, песни поют, пантомиму играют – и никакой психологии! И я не пойму – это тот Юрка Любимов или другой?" А он мне: "Тот, тот", – и укатил на Таганку!"
1966 год. Московские "физтехи", поселок Долгопрудный. В битком набитом зале МФТИ – студенты и профессура. Объявлена публичная дуэль между тремя лучшими театрами Москвы. Олег Ефремов ("Современник") сказался больным, хотя никто в это почему-то не поверил. Вечер вышел – то, что надо. Интеллектуальный уровень зала – высочайший. Сражались двое – Ю.Любимов и А.Эфрос, лидеры «Таганки» и "Ленкома". Особо восхищал студентов театровед А.А.Аникст, он блистал в «третейской» роли. Мой друг, физик Саша Найвельт, был организатором встречи. Какой был диспут! Правда, выводы студентов мне не понравились. Оказывается, Эфрос описал свою будущую постановку «Чайки» так роскошно, что студенты были потрясены. Любимов же всех разочаровал. "Жизнь Галилея" Брехта, пьеса о великом физике (казалось бы – в лицее российских физиков!) – и вдруг такая приблизительная лексика, столько актерской жестикуляции и общих слов… Публика единодушно «приговорила» следующую премьеру «Таганки» к первому, увы, провалу, а чеховскую «Чайку» – к безумному успеху. Через пару месяцев физики сверили результаты. Оказалось, что те, кто прорвался на "Чайку", остались при своих воспоминаниях о давнем рассказе Эфроса: ни постановка, ни актеры до рассказа недотягивали. Зато свидетели нашего «Галилея» тут же решили прорываться еще и еще раз.
Репетируем Эрдмана:
"Как мы все спешим живое угробить! Кооператоры, говорят, всего каких-то четыре процента занимают от общего хозяйства, а крику на них! Нашли обманщиков, нашли виновников! Посадили что-то новое – ну дайте ему вырасти. Нет! Оно еще не выросло, а они уже на росток – фу! Не растет, гад, тьфу! Не растет (лупит по воображаемому саженцу, очень рассмешил всех вокруг), не растет, сволочь! Бить его! Теперь давайте выберем президента! Во, идея!.."
"Почему Чехова нашего на Западе играют лучше, чем у нас, вы не задумывались? За семьдесят лет в России уничтожили это духовное устройство, у нас играют самоуверенно и упоенно персонажей из чужой, неизвестной жизни. Вот неизвестно что и получается…"
Два полюса в театре – сцена и зал. Прошло лет двадцать со дня премьеры спектакля "Час пик". Мой приятель вспоминает репетиции, на которых он сидел как стажер-театровед и которые запечатлелись в его мозгу как сплошной праздник. Я же, сыгравший главного героя, возражаю сегодня ему от всей души: "Ты все путаешь! Любимов издевался надо мной, я был прибит и бездарен, я еле ворочал языком! Блеял текст, а он меня только пугал, как и остальных актеров!" Но приятель твердит то, что помнит: "Ничего похожего. Вы работали чудесно! Дым коромыслом! Все ходуном ходило от ваших фантазий! А Юрий Петрович вас так заводил, а вы его в ответ так заражали, что глаза разбегались на репетициях – за кем следить? За ним или за вами. Ах, какая дружная семья – вот что каждый думал, сидя в зале…"
1966 год. После «Галилея» – работа над "Послушайте!". Юрий Петрович зовет меня в свой кабинет, и я читаю ему – «заказчику» – и еще двум или трем актерам, в том числе и Вл. Высоцкому, первый вариант композиции. Все громко ахают и хвалят. Режиссер кивает энергично: "Да, молодец, хорошо помог будущему спектаклю, завтра почитаешь Эрдману, Вольпину и Марьямову, они сделают кое-какие замечания, ну и – вперед, на сцену". Выражение лица у Ю.П. уверенное и сомнений не допускает.
Назавтра я читаю упомянутой «тройке» тот же текст, меня прервали, раскритиковали, чуть утешили малюсенькой похвалой, я с надеждой обернулся на Любимова… О ужас! Юрий Петрович качает головой с укором. Выражение лица угрожающее и обжалованию не подлежит.
Репетируем Эрдмана:
"Почему Подсекальников так заговорил… по-другому, с многоточиями?.. Растерялся… Потому что страшно оставаться одному – и это уже никакая не комедия, это – человек, и ему страшно оставаться одному…"
1968 год. "Пражская весна" и сразу – стужа… Прогрохотало эхо взрывов "нашей идеологии". Любимова обвиняли, оскорбляли, валили, как валят медведей. Удержался. Действовал он в те самые тяжкие для театра годы так же, как и в работе: внимательно слушал советы, складывал и множил мнения по законам собственной арифметики, а потом совершал поступок – спектакль или выход "на ковер" – решительно по-своему.
Я помню наши страхи и растерянность, когда за час до спектакля "Послушайте!" была оцеплена Таганская площадь, по театру заходили чужие "в штатском", и нам стало ясно, что сегодня – последний вечер, ибо ожидался приезд во второй ряд партера не кого-нибудь там, а члена Политбюро Петра Шелеста, одного из главных вдохновителей бронетанковой стужи "пражской весны". Спустя сутки мы узнали, что этот случай – абсурдное совпадение, и соратник генсека Брежнева просто решил отдохнуть с семьей, а не убедиться в тлетворности антисоветского Театра на Таганке. Но это узнается завтра, а пока мы все в отчаянии: как быть, как играть и что, по совпривычке, вырезать, удалить? Мы-то хорошо знали, какие места в спектаклях возмущали власти и в Москве, и в ЦК, и лично тов. Фурцеву – министра культуры… На наше смятение ответил отец "Таганки". Он собрал своих трепещущих детей за кулисами, выслушал наши предложения о сокращениях и решительно постановил: "Не будем давать им карты в руки. Если они чего решили – какая разница, что резать, а что не резать. Мы же уверены в том, что играем? Вот и давайте играть без сомнений. Я считаю, надо наоборот: не скрывать и не темнить перед ними. Если это последний раз – пускай хоть себе и нормальным зрителям в радость. Ничего не надо сокращать, ничего не надо скрывать – играем в полную силу, вы меня поняли?" Так и играли.
Репетируем Эрдмана!
"Играют "Самоубийцу", как легкую комедию – про "те времена" – а время у нас сегодня очень страшное. Что изменилось? Разрешили трепаться, а система осталась – и создается более страшное положение… Урвать и убежать – психология временщиков…"
В те годы бывало не раз: очередной разгром "Павших и живых" либо "Послушайте!" – и сразу вакуум вокруг Юрия Петровича. Когда назревала драма, в доме Любимова замирал телефон, никто не терзал просьбами о билетах. Это говорило о самом худшем. Но крепка поддержка дома и его своенравной хозяйки (тогдашней жены Любимова Л.В.Целиковской), на эти времена принимавшей образ декабристки. И дом становился крепостью.
Я помню, из кого состоял самый близкий круг друзей театра, друзей Юрия Петровича. На защиту "Товарищ, верь!" или «Живого» на расширенных художественных советах подымались и говорили (под запись стенографисток!) Петр Капица, Владимир Тендряков, Натан Эйдельман, Сергей Параджанов, Петр Якир, Мария Мейерхольд, Альфред Шнитке, Булат Окуджава… Рядом с Ю.П. часто видели В.Войновича, В.Аксенова, Г.Владимова, Л.Копелева, В.Максимова, М.Ростроповича, А.Галича. Р. и Ж.Медведевых, Е.С.Гинзбург… К пятидесятилетию Александра Солженицына Любимов с Карякиным сочинили телеграмму и отправили ее в Рязань – от всего театра. Когда потекли на газетные полосы дрожащие подписи послушно разгневанных деятелей культуры и науки, некоторые, как известно, уклонились от греха. В науке – такие, как П.Л.Капица. В искусстве – такие, как О.Ефремов и Ю.Любимов. Юрий Петрович вежливо объяснял настойчивым предлагателям: "Напечатайте его романы, дайте почитать то, что нам предлагаете обвинять! Как я могу возмущаться тем, что мне неизвестно? Кто не верит? Кому? Вам? Партии? Конечно, верю, если вы искренне против Солженицына. Но вы требуете, чтобы я от себя подписал, правда? Вот и дайте мне почитать…" Ю.П. сообщал гостям своих спектаклей: "Вы слыхали? Говорят, Фурцева вызвала Рихтера и зашумела о Ростроповиче – как, мол, вы терпите такое, вы гордость советской музыки, а этот ваш коллега, который месяц греет у себя на груди Солженицына! На что Рихтер невозмутимо изрекает: понял, Екатерина Алексеевна, я, мол, исправлюсь, а то и вправду засиделся писатель у Славы в гостях, завтра я его к себе приглашу на дачу, пусть живет!.. Ну и видок, говорят, был у мадам министерши!" А Олег Ефремов встретил писателя на улице Горького, обнял и зазвал к себе во МХАТ на премьеру.
С одним из самых своих близких друзей-академиков Любимов порвал сразу и навсегда, узнав, что тот подписался под анафемой Андрею Дмитриевичу Сахарову. Но своим отношением к Сахарову, к Солженицыну или к арестованному Сергею Параджанову Юрий Петрович, конечно, не бравировал. Чувства не скрывал, но и не афишировал. Время было такое, что надо было беречь собеседника, если тот боится, хотя втайне и разделяет твои чувства.
В конце мрачного шестьдесят восьмого года мы ехали вместе поездом в город Дубну к академику Г.Н.Флерову на какой-то юбилей. В поезде Ю.П. без конца отвлекается от насущного разговора по поводу "Часа пик" (о замысле, о распределении ролей) – то есть от всего, что меня близко касалось по работе. Отвлекается постоянно – угнетавшим его мотивом: Прага, танки, Александр Дубчек. Никогда не забуду выражения лица Юрия Петровича и его слов: "Ах, какой мужик! В самый разгар событий Дубчек говорит на весь мир – "не забудьте о нас тогда, когда мы сойдем с первых полос ваших газет".
И второе. Мы сдаем паспорта в гостинице города Дубны. Нас ищут в списке брони. И администратор произносит: "Есть! Любимов с супругой. Пожалуйста, ваши документы…" Его прервал гневный голос Людмилы Васильевны Целиковской: "Что-о-о-о?! Перепишите у себя в бумажке – не Любимов с супругой, а Целиковская с супругом!"
Репетируем Эрдмана:
"Это все разговоры: старые спектакли, новые спектакли… новые часто уже рождаются старыми, а то, что давно, но крепко сделано, – оно держится. Искусство не измеряется временем, оно временем проверяется. И я восстановил «Живого» и "Преступление", потому что зачем терять хорошие вещи?.."
"Там на Западе – все наоборот. Театры доходов не приносят. Там артисты специально на стороне зарабатывают, чтобы иметь право поиграть в театре…"
"Ему стыдно, Шопен!* Это – стыд! Советский человек чаще всего бесстыден и лжив… извините меня, я сам советский человек, это и меня касается… Идешь по Японии, сакура цветет ихняя, и видишь сразу советских людей, ото всех отличаешь моментально: наш идет, "главный", а вокруг холуи наши…"
"Николай Робертович жизнь свою в грош не ставил, и его рассуждения о самоубийстве были очень особенные…"
"Что? Берию? Конечно, видел, да я сто раз вам рассказывал. Да бросьте, не слыхали, вы хотите, чтобы я байки трепал, а не работал… И Сталина видел – как он раков ел… а Мао – нет, не видел, я в тот день не был в "Метрополе", что? Чего вы ржете, я часто в «Метрополе» бывал…"
"У них у всех поднабобело!" (Все смеются, а Ю.П. удивлен: разве нет такого слова?)
"Здесь ты правильно выдал, но это мастерство, а мне не надо мастерства, надо по-настоящему слезы почувствовать, а изображать и дурак может…"
Вопреки всеобщему правилу, Любимов в плохие минуты никогда не был растерян, вел себя прямо и твердо. А если где вызывал досаду или раздражение – так только в дни благополучия, в эпоху культа своей личности. Впрочем, он сам это себе напророчил, когда поучал таганковских звезд: "Пройти огонь, воду и медные трубы – никому не дано. Огонь и воду настоящие мужчины могут еще как-то преодолеть, но медные трубы – никто пережить не в силах…"
Парадокс времени в том, что власти, испытав Любимова огнями и водами, на последний свой шанс тогда не решились! А решились бы – и не пожалели бы. Отсутствие медных труб весьма продуктивно для отечественной культуры: продлевает активную творческую жизнь, высветляет портрет художника. Вот таков парадокс. И самые яркие примеры – Эрдман и Высоцкий.
Репетируем Эрдмана:
"Я могу сейчас поставить "Собачье сердце" – и его запретят! Булгакова неправильно ставят! Там такое написано про них – они же по глупости напечатали. И "Венецианского купца" могу поставить так, что его закроют…"
"Эрдман – это ритм, а за этим – точнейший подтекст, и конструкция тщательнейше выписана, он любую халтуру писал так же, как делал свои шедевры – это кропотливейшая нюансировка, как у гениального Шнитке… но этой кропотливости не видно, вот в чем эффект…"








