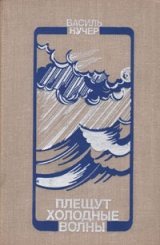
Текст книги "Плещут холодные волны"
Автор книги: Василий Кучер
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
– «Санитарно-курортная справка для господ генералов, офицеров, унтер-офицеров и низших чинов немецкой армии! – огласил Прокоп Журба торжественно и напыщенно. А потом откашлялся, нацепил на нос где-то раздобытую оправу от очков и давай говорить, как настоящий эскулап: – Подступы к Севастополю прекрасно помогают. Двоеточие. А! От головной боли. Достаточно только показаться в зоне советского обстрела – и боль головы сразу как рукой снимет... Вместе с головой. Бэ! От ревматизма, подагры и прочих невыносимых болезней, решительно и навсегда ликвидирует боль в суставах вместе со всеми суставами. Вэ! От болезней сосудисто-сердечной и нервной системы, а также кишечно-желудочного тракта путем введения в фашистский организм железа в виде штыка, пули, осколка и так далее. Все абсолютно жалобы прекращаются немедленно после введения в организм этих универсальных советских средств...»
Раненые хохотали, а Прокоп хоть бы улыбнулся и поучительно продолжал:
– «Наиболее действующие лечебные процедуры. Новинка сезона. Две точки. Первое. Ванны! А! Холодные – морские и дождевые. Бэ! Грязево-лежачие, полулежачие и сидячие. Сидячие – в окопах. Второе. Уколы. Штыковые. Третье. Термотерапия. Лечение холодным и влажным воздухом. Чудесно приводит в порядок умственную деятельность. Четвертое! Горячие припарки. Артиллерийские. Пятое. Свинцовые примочки из первоклассных советских пуль. Шестое. Массажи. Прикладом. Седьмое. Компрессы из разрывов советских мин и шрапнели. Восьмое. Отрезвляющие души. А! Пулеметный душ Шарко. Пехотинский! Бэ! Восходящий и нисходящий. Работают высококвалифицированные советские летчики. Вэ! Душ пулеметный и автоматный. Веером. Душ кольцевой. На окружение. Душ фланговый и тыловой. Партизанский. Всем пациентам обеспечены палаты (в земле). Лечение проводится по всему фронту днем и ночью...»
Крайнюк посмотрел на пустынное море, в ту сторону, где лежал Севастополь, отрицательно покачал головой. Нет. Такое начало для романа о матросах тоже не подходит. Надо что-то более величественное, что-то героическое, романтичное, овеянное лаской моря. Этот эпизод с рецептами можно использовать где-нибудь в середине как бытовой. К чему тут врач Заброда? Он со своим хирургическим искусством выше грубоватого матросского юмора. Но и без этого нельзя. Ведь именно эта жизнерадостность, эта неугасимая сила и бодрость духа, этот острый, крутоватый юмор скрашивали тяжелую, невыносимую порой действительность, которая окружала героических защитников Севастополя. Куда девалась прежняя романтика моря – чайки, корабли в дымке и сказочные рассветы над морем, чудесный восход солнца на Ай-Петри? Все то, что было до войны, пока первая бомба еще не упала на Севастополь... Огонь и смерть господствуют в небе, на суше и на море. Вот так-то!
Но что ты будешь делать завтра, Крайнюк, когда тебя выпишут из госпиталя? Куда денешься? Твой дом в немецком тылу давно разграблен и сожжен. Твоя библиотека давно уничтожена. У тебя и одежды нет на зиму. Этот китель ж вся изрешеченная осколками шинелишка – вот и все твое богатство. Дадут тебе, безрукому, инвалидность, а там иди на все четыре стороны. Куда пойдешь?
«Ну-ну! Ты не очень ной, – пригрозил Крайнюк своему двойнику, который стал, после того как отрезали руку, пессимистом. – Слышишь? Не очень-то распускай нюни! Видишь, как людям тяжело? Так чего же ты скулишь? Замри и не дыши! Я тебя не признаю и не слушаю. Крайнюк все-таки Сядет за стол и напишет роман о матросах, о грозном море. Напишет безо всякой там морской романтики, а так, как оно было, каким он все видел. Вез приукрашивания, без выдумки. Крайнюк сядет на голодный паек, забудет о детях и жене, а все-таки напишет. Ох, нет... Наверное, о детях и жене не забудет. Разве такое забывается? Шутишь, человек хороший».
Так, в тревоге и нерешительности, проходили дни, а Крайнюк все не начинал писать книгу. Негде было. В палате восемь раненых. Какое тут писание! А сам он каждый день сидел то возле Мишка Бойчака, то возле других матросов, которые последними прибыли из Севастополя. Его интересовало все, и он жадно расспрашивал моряков. А потом сидел ночами в приемном покое и записывал услышанное в новую, купленную в военторге тетрадь.
Мишко рассказывал скупо, и из него приходилось буквально по зернышку вытягивать все подробности о Горпищенко, о тех последних днях и часах, которые сам он провел в Севастополе и на Херсонесском маяке, возле тридцать пятой батареи.
– А врача нашего, Заброду, неужели ты не видел? – спросил Крайнюк и не выдержал – закурил, пряча папиросу в рукав.
– Да ну вас! – рассерженно бросил Мишко. – Что я, в театре был, где в антракты люди толпятся возле буфета, пиво пьют? Как будто и не маленький, а такое спрашиваете... Заброда же возле раненых был, а туда снаряд попал. Вы же сами, наверное, видели.
– Да, видел, – горько вздохнул Крайнюк.
Мишку стало жаль его. Он выругал себя за то, что нагрубил человеку, и сказал Крайнюку:
– Вы вот что запомните, – может, когда-нибудь пригодится. Прикрывая отход армии из Севастополя, погибла вся Чапаевская дивизия. Только одно Знамя и осталось. Под этим Знаменем еще Чапаев ходил. Все простреленное, обожженное в огне. Вы его видели? Оно стояло в штольнях, в Инкерманском монастыре, где был штаб Чапаевской...
– Видел. Под ним фотографировали Нину Онилову, их пулеметчицу, – вспомнил Крайнюк,
– Так вот, – перевел дыхание Мишко, – Знамя это вынес из боя шофер из той дивизии. Я уже забыл его фамилию. Знаю только, что звали его Ваня. Да вы должны помнить его. Такой бесшабашный, всегда ворот у него нараспашку, чтобы тельняшку было видать. Ничего не боялся. И снаряды возил под обстрелом, и раненых, и сухари, и воду. И всегда был веселым. Никогда не ругался, а только кричал, бывало: «Полундра! Побей тебя гром!» Так вот этот шофер Ваня, когда уж нам пришел конец, выскочил на высокую скалу, обвязал Знамя вокруг груди по голому телу и ринулся головой в море, закричав на прощание: «Полундра! Побей тебя гром!» И пошел со Знаменем на Дно. Фигу с маслом, а не чапаевское Знамя поймали фашисты... Вот о Ване этом стоит написать, а я что? Наше дело адъютантское. Куда пошлют, туда и бежишь... Обо мне лучше и не вспоминайте. Не повезло мне в этой войне. И девушка там осталась, и бригады нашей уже нет. Только номер полевой почты еще есть. Да командир...
– Будет бригада. Не волнуйся. Вон уже комплектуют, – попробовал успокоить его Крайнюк.
– Я знаю, что будет. Только уж не та. Где они наберут севастопольских орлов? Да еще и горных? Теперь салага идет. Желторотая, необстрелянная. Поведешь ее в атаку, а она маму зовет... Таких, как Прокоп Журба, в местном военкомате днем с огнем не сыщешь... Вот это был разведчик... И о нем не забудьте написать. Его я тоже больше не видел... Они бросили на нас тысячу самолетов, десять лучших своих дивизий, подтянули невиданную до сих пор по калибру артиллерию на шестьсот десять миллиметров, которая еще нигде и никогда не стреляла. А Севастополь держался наперекор всему. Наперекор военной теории, опыту, наперекор неслыханному натиску врага. Один матрос стоял против десяти. Вы напишите об этом, Петро Степанович, чтобы молодежь, которая идет к нам в пополнение, знала, с кем имеет дело...
Крайнюк ничего не ответил Мишку. Он вышел из его палаты хмурый и угнетенный. Трагический и суровый рассказ адъютанта не только обжег его сердце, он осветил душу писателя каким-то гордым внутренним огнем. Расставаться с моряками Крайнюку очень не хотелось, а этого, видимо, не избежать.
Но однажды его вызвал к себе командующий флотом.
– Мы тут посоветовались с членом Военсовета, – сказал вице-адмирал, – и пришли к выводу, что вам нет смысла бросать службу в газете. Вас, конечно, демобилизуют, но вы ведь можете остаться в редакции по вольному найму. Там есть такие должности. Я прикажу, чтобы вас демобилизовали с правом носить военную форму. Севастопольская эпопея еще не кончилась. Мы имеем с Севастополем радиосвязь через партизан, живую – самолетами, которые ходят в горы... Я слышал, что вы начали писать книгу о Севастополе?
– Еще не начал, но думаю, – пояснил Крайнюк.
– Хорошо. Мы поможем, если что-нибудь будет нужно, – продолжал командующий. – Я хочу, чтобы вы были свидетелем того, как мы будем брать Севастополь. Ну, еще год пройдет. Может, полтора. Севастополь снова будет нашим. Я дал указание немедленно связывать вас с каждым матросом и солдатом, который прибудет к нам морем из Севастополя. Расспрашивайте обо всем. Для книги пригодится.
– Спасибо. Я давно хотел просить вас об этом.
– А потом дадим вам отпуск, поедете в Москву, встретитесь с литераторами. Побываете в Генштабе, где есть интересные документы. Я позвоню туда. Ну, и попытаетесь узнать о своей семье... Только не загуливайтесь. У нас скоро снова начнется горячая пора...
– А когда бы я мог поехать в Москву? – спросил Крайнюк, сдерживая волнение.
– Я думаю, что скоро, – ответил командующий. – Вот подождем, пусть придут из Севастополя последние моряки, кто еще в море бродит, и тогда поедете...
– А разве есть еще такие?
– Да. Я имею некоторые данные.
Вице-адмирал говорил тихо, даже ласково, хотя был до предела утомлен событиями, происходившими в Севастополе, на море и в Керчи.
– Если вы согласны, я прикажу оформить все это, – сказал командующий.
– Согласен. Я не только согласен, а уж и не знаю, как благодарить вас, – вскочил Крайнюк, пожимая вице-адмиралу руку.
– Благодарить будете своей книгой. А как вы думаете ее назвать?
– Еще не знаю. Один вариант, правда, уже есть...
– Какой?
– «Матросы идут по земле»...
– Интересно. То они ходили и воевали на море, а теперь сошли на землю и идут с боями по земле. Ну что ж! Желаю вам удачи...
Петро Степанович формально стал штатским сотрудником военной газеты, а по сути – еще ближе сошелся с военными. Он поселился на квартире старшего боцмана Зотова, у подножия горы, почти возле самой военной гавани, и принялся за роман.
Ежедневно, до того как идти на работу, он успевал написать несколько страниц книги. Это было трудно. Работа в редакции мешала работе над романом, но другого выхода не было. Днем – будничная и иногда скучноватая редакционная жизнь, а вечерами и на рассвете – творческая, интересная и трудная, не дававшая ему теперь покоя ни днем ни ночью. Однажды утром в дверь постучал офицер связи от командующего.
– Прошу прощения, командующий приказал вам прибыть на пирс. Немедленно. Они уже подходят.
– Кто?
– Шестивесельный ял, и на нем двенадцать моряков. Идут из Севастополя своим ходом. На веслах. Только что получена радиограмма,
– Это невозможно! – вскочил Крайнюк и стал быстро надевать китель, ботинки.
– Я тоже так думал, – немного грубовато продолжал офицер связи, – но факт есть факт. Против него не попрешь. Их заметил в море наш сторожевик и хотел принять на борт. Отказались. С ног валятся, а хотят подойти к берегу своим ходом.
– Сколько ведь дней прошло, как Севастополь сдали... Это же просто неслыханно! – восхищенно выкрикнул Крайнюк, надевая мичманку на поседевшую голову.
– А они плывут. Их ведет капитан третьего ранга Никульшин. Вы его раньше не знали?
– Нет. К сожалению, не знал.
– И я не знал, – вздохнул офицер связи.
Они сели в мотоцикл с коляской, и офицер привез Крайнюка в военную гавань.
Тут уже стояли две санитарные машины, врачи в белых халатах, комендант порта и вице-адмирал.
Вице-адмирал пожал Крайнюку руку, тихо сказал:
– Ну, что я вам говорил? Наверное, и не верили?
– Верил, но не очень, – признался Крайнюк.
– Ну так убеждайтесь на фактах. – Вице-адмирал, взяв Крайнюка за локоть, подвел к пирсу, к самой воде. – Они подняли на воздух порт, телефонную станцию, потопили боновое заграждение. У них был катер. Но где он? На ялике идут...
На глубоком рейде малым ходом шел сторожевик, а впереди него направлялся к берегу облезлый, потрепанный морем ялик, в котором с трудом и вяло покачивались на веслах матросы. Все они были истощенные, заросшие, почерневшие от солнца и голода, серые от морской соли, покрывавшей их одежду.
У берега они на мгновение остановились и надели бескозырки, не спеша достав их из какой-то корзины, стоявшей на дне ялика. Капитан 3 ранга, сидевший на корме возле руля, сорвал с головы грязный платок, заменил его мичманкой.
Моряки заметили командующего, но реагировали на это вяло, только снова налегли на весла. Молчаливые, хмурые, словно сонные. Давно не бритые щеки ввалились, нос у каждого заострился, шеи были тонки, как былинки. Только поблескивают исподлобья воспаленные глаза. Механически, как заводные, покачиваются вслед за веслами, словно кланяются родной земле.
Ялик глухо стукнулся носом о каменный пирс, и гребцы, повалившись на тяжелые весла, так и застыли, положив головы на колени. Словно вдруг обессилели и уснули глубоким, страшным сном. Только один из них, не поднимая головы, простонал:
– Воды!
Капитан 3 ранга поднялся с кормы и, пошатываясь, медленно побрел вдоль ялика. Он шел долго, боясь упасть, и потому хватался за плечи неподвижных и безмолвных, словно окаменевших матросов. Он шевелил пересохшими губами, что-то, наверное, говорил, но его слов никто не слышал.
– Не давайте им спать! Не давайте! – крикнул врач.
Вице-адмирал спрыгнул в ялик и поддержал Никульшина за плечи.
Тот выпрямился и, пересиливая горькую дурноту в горле, козырнул, но рука сразу упала и закачалась, как чужая. Тихо и медленно, словно учился заново говорить, Никульшин прошептал:
– Товарищ командующий, приказ выполнен...
Командующий обнял его и, не давая договорить, крепко поцеловал, чувствуя, как непослушно и безвольно шатается голова моряка.
– Не смейте давать воды! Чай! Только чай! – снова крикнул врач.
И снова госпиталь. И снова та же палата, в которой лежал Крайнюк. Здесь теперь расположились моряки с шестивесельного яла вместе с капитаном 3 ранга. Только Крайнюк сидит у двери и ждет, пока их снова напоят чаем с мелко накрошенными сухарями. Он ждет долго и терпеливо. Наконец за дверью начинается тихий, приглушенный разговор и слышится голос Никульшина:
– Бритва. Где у вас бритва?
– Потом. Попейте чаю, – улыбается врач.
– К чертям чай, – набирает мощи голос капитана. – Или бритва, или спирт...
– Эге, батенька, чего захотели! Рановато, – весело бросает врач и приглашает Крайнюка в палату. – Вот гости к вам пришли. Писатель Крайнюк... Прошу, Петр Степаныч.
В окнах алеет солнечный закат, слепит глаза морякам.
Крайнюк слегка кланяется на все стороны, каждой койке, и садится на табурете возле капитана 3 ранга. Никульшин недоверчиво оглядывает его глубоко запавшими глазами. Взглянув на пустой рукав, сурово, словно на допросе, спрашивает:
– Где это вас так?
– Под хутором Дергачи, – спокойно ответил Крайнюк.
– Под каким таким хутором? – удивляется Никульшин.
– Под тем самым, севастопольским. За несколько дней до сдачи, – еще спокойнее объясняет Крайнюк.
Койки под матросами заскрипели, и они повернули к нему головы, изучающе глядя на писателя широко раскрытыми, удивленными глазами. Так вот он какой, этот писатель Крайнюк!
– Ну, тогда добро, – улыбнулся Никульшин. – Что же вам нужно от нас? Материал в газету?
Первый раз в жизни Крайнюку изменяет его профессиональная выдержка газетчика. Кусая пересохшие губы, он неожиданно спрашивает:
– Я хирурга своего ищу, того, что от смерти меня спас под Дергачами. Он был начальником санслужбы в третьем батальоне бригады Горпищенки. Заброда. Павло Иванович Заброда. Может, вы его случайно видели или хотя бы что-либо слышали о нем там, в Севастополе?
– Какой же это Заброда? Не тот ли случайно, которого матросы хирургом Пироговым прозвали? – спросил Никулыпин.
– Тот самый. Он. Павло Иванович Заброда, – горячо подтвердил Крайнюк.
– Нет, не видели, – сказал Никульшин. – Слыхать – слыхали, да не видали. Наш катер сгорел от снаряда, и остались мы, как воробышки, выпавшие из гнезда и не умеющие летать. На ялике вышли в море. Без карты. Только компас был и звезды в небе...
– Это хорошо, что компас был.
– Все и было бы хорошо, да скоро анархия началась, – вздохнул Никульшин. – Только это не для прессы. Ясно?
– Ясно, – улыбнулся Крайнюк и показал на пустой рукав. – Где уж мне теперь в прессу? На фронт путь заказан. Больше по тылам приходится.
– Жаль, – сочувственно сказал капитан 3 ранга и, взглянув на крайнюю койку у двери, прибавил: – Вон видите Жоржика? Он, голубчик, из Одессы родом и давай на ялике свои порядки заводить. Стал морскую воду тайком пить. А ведь это смертельно! Ну, я его чуть не расстрелял. Еще бы какое-то мгновение – и все. Матросы поручились, и сам поклялся, что в рот больше не возьмет морскую воду...
И, сам того не замечая, капитан 3 ранга скупо, но четко рассказал Крайнюку, как все произошло, как они совершили этот героический подвиг, переплыв Черное море на обыкновенном ялике.
Матросы даже приподнялись на койках и затаили дыхание, они впервые слышали рассказ о своей отваге в море. И потому, что слышали впервые, удивлялись. Неужели это о них идет речь? Неужели это они перенесли такую невыносимую тяжесть? Смотрели друг на друга, словно видели впервые.
– Да вы спросите первого встречного врача или даже профессора, – говорил капитан 3 ранга, – и каждый вам скажет, что пить морскую воду, да еще при голодании, опасно, даже смертельно. Я про это слышал давно, еще в военно-морском училище, а потом и в академии. Она парализует сердце, отравляет весь организм. А они мне не верили. Ну что же!.. Может, теперь поверят?..
Матросы понуро взглянули на командира и опустили глаза. Никто не ответил ему, хотя его вопрос касался каждого из них.
– Молчите? Молчите, бурлаки, молчите и думайте, какое оно, наше море, когда кишки марш играют, а жажда сжимает горло.
Он немного передохнул, наверное поняв, что менторский тон и укоры тут ни к чему, и, подождав какое-то мгновение, заговорил спокойнее, словно рассказывал сон:
– Все кругом горело. На нас стала воспламеняться одежда. В огне обгорели брови и ресницы. Я уж не говорю о волосах. Счастье наше, что мы эту шлюпку нашли, когда сгорел наш катер. Где уж тут было думать о хлебе и воде? Так и отплыли, вырвавшись из самого пекла. Что у нас было с собой? Может, забыли, так я напомню, братишечки. На двенадцать уже тогда голодных ртов мы имели в своем балансе: сухарей – десять килограммов. Раз. Сахару-песку – полтора килограмма. Два.
Каждый раз он загибал пальцы – такие худые и костлявые, что казалось, они гремели.
– Конфет – пятьсот граммов. Это вам три. И три фляги пресной воды по три четверти литра. Это четыре. И все. И точка. Больше ничего не было, хоть волком вой среди пустого моря. А солнце жжет, словно вокруг разлился расплавленный металл, когда домны дают плавку. Все так и горит. Мне казалось, что у меня под черепом стал таять мозг. Жажда. Страшная, смертельная жажда. Пить и пить. А вокруг воды целое море, да, как говорят в народе, ею скотина не напьется, не то что человек. Не убило бомбой, так солнцем стало добивать. Я выдавал каждому по тридцать граммов воды в день. А потом сократил и эту норму. Стал выдавать по столовой ложке. Я берег воду как зеницу ока. Вот и слова такого не найду, чтобы сказать, как я ее берег. А морскую пить категорически запретил. Но кое-кто из них не выдержал и исподтишка стал похлебывать морскую воду. И что с ними случилось? Не забыли еще? Стало тошнить, все внутренности выворачивало. А потом – страшный понос. Все были похожи на сумасшедших. Я снова категорически повторил свой приказ о запрещении пить морскую воду, угрожая расстрелом каждому, кто к ней прикоснется.
Взглянув на матроса, лежащего у двери, Никульшин спросил:
– Что, стыдно теперь, Одесса-мама? Глаза прячешь? А тогда почему не прятал, когда не слезал с борта? Ты мне брось эту свою одесскую анархию. Приказ командира есть приказ. Война еще не закончилась, и ты это заруби себе на носу... Жажда была такой невыносимой, что я приказал всем полоскать морской водой рот, обливать голову и одежду. Потом мы стали купаться в море. Это немного утоляло жажду. А голод брал свое... Так брал, что даже в глазах темнело, голова шла кругом и ясный день временами казался глухой ночью. А плыть еще далеко. А берега все нет и нет. Да они молодцы, мои матросы. Это я для порядка покрикивал на них. Чтоб лучше запомнилось. Никто не повесил носа, ни единый не пустил цикория: и водичку над губой не вытирал. Все стали как каменные. А врача вашего мы там не видели. Просто не могли видеть, он, наверное, на другом курсе был. Не на тех румбах, что мы...
Снова пришла сестра с чаем и сухарями.
Никульшин горько поморщился, спросил:
– Девонька, а когда же колбаса будет?
– Врач не велит. Ждите и чаевничайте себе на здоровьице. Сейчас будем температуру измерять...
Крайнюк боком стал продвигаться к двери, виновато спросил:
– А можно мне и завтра к вам прийти?
– Приходите. Просим, – сердечно сказал Никульшин.
– Хорошо. Я зайду, – поклонился Крайнюк и выскочил из палаты. Ему вдруг стало так дурно от услышанного, что сразу захотелось чистой и холодной воды из горного подземного источника.
А прямо перед ним сияло и играло бескрайнее море. И невольно припоминались строчки из старинной английской матросской песенки. Крайнюк не знал мотива, но слова помнил: «Вода кругом, вода близка, но нет! Не выпьешь и глотка». Значит, еще тогда, в древности, мореходы знали о вредности морской воды... Значит, капитан 3 ранга Никульшин хорошо сделал, что под страхом смерти запретил матросам пить ее. Хорошо. Теперь и Крайнюк твердо уверен в этом.
Но скоро он узнал и о другом. Как-то на рассвете снова поднял его из-за рабочего стола офицер связи, и они полетели в район Сухуми на скоростном катере.
В седом тумане, что уже таял под первыми лучами солнца, Крайнюк сошел на сторожевик, который возвращался с ночной патрульной службы. Командир сторожевика, молоденький капитан-лейтенант, рассказал ему о том, что произошло этой ночью далеко в море.
Сторожевик патрулировал в заданном квадрате, матросы внимательно несли вахту на боевых постах. И вдруг около двух часов ночи чистый экран радара стал мигать, поймав в море какой-то посторонний предмет, медленно дрейфующий по течению. Командир приказал включить дополнительные прожекторы, и скоро их слепящие лучи выхватили из темноты одинокую шлюпку, покачивающуюся на легкой волне.
В шлюпке, содрогаясь от ночной прохлады, страшные какой-то нечеловеческой худобой, лежали четыре матроса. На корме, закутав полотенцем плечи, лежал их командир, безвольно свесив руки в море. Их немедленно подняли на палубу и еле привели в сознание. Ни один из них не мог стоять на ногах. На судне у них началась морская болезнь, которой они не испытывали до сих пор в шлюпке. Это были последние защитники Севастополя, вышедшие на шлюпке в море от Херсонесского маяка почти без запаса воды и пищи под командованием Михаила Белого. Они находились в плавании шестнадцать дней и ночей. Им удавалось ловить в море медуз, которыми до некоторой степени можно было утолить голод и жажду. Обессилевший и измученный, командир Михаил Белый путано, то и дело теряя сознание, рассказал, как они пили морскую воду. Правда, понемногу, но пили. Ели медуз и пили морскую воду.
Корабельный врач сделал им необходимые процедуры, напоил сладким чаем и положил в отдельном кубрике, тщательно закутав каждого двумя одеялами.
Крайнюк осторожно вошел в кубрик. На подвесных койках лежали худые (кожа да кости), желтые, как мертвецы, матросы. Здесь же находился корабельный врач, настороженно прислушиваясь к их дыханию. Они дышали как-то прерывисто, порой всхлипывая.
– Еле успокоил, – объяснил врач.
– А что? – спросил Крайнюк.
– Очень просили есть. И все бросались с коек, словно в воду. Каждый бормочет страшные слова: «Добей, браток. Не мучай... Пусти на дно... Полундра!.. Воды!..» Видно, натерпелись беды.
Сторожевик стал на рейде, ожидая, когда спасенные матросы проснутся. Их напоили чаем с галетами, но давали всего понемножку. Крайнюк поехал с ними в госпиталь и, надев белый халат, просидел возле них до вечера. Моряки думали, что он врач, тем более что расспрашивал их о враче из бригады Горпищенко, о каком-то пышноволосом хирурге, не боявшемся смерти.
Нет. Они не видели этого хирурга и на Херсонесском маяке. Разве там можно было что-нибудь увидеть? Земля горела вокруг. Они и сами уже не помнят, как им посчастливилось вырваться в море. Может, он видел картину Брюллова «Последний день Помпеи» или хотя бы копию с нее? Вот это и есть что-то подобное. Где уж тут было видеть батальонного врача Заброду, будь он трижды хороший человек!
Крайнюк написал и об этих отважных моряках в газету. Но ему по-прежнему не верилось в гибель Павла Заброды. Время от времени он наведывался в партизанский штаб. Однако там ничего утешительного ему не могли сообщить. На шифрованный запрос по радио крымские партизаны ответили радиограммой, в которой точно указывали, сколько к ним в горы пробилось матросов и солдат. Командиров даже перечислили по фамилиям. Но Павла Заброды среди них не было. Он словно в воду канул. Значит, погиб в бою, вечная ему память и слава.
Через несколько дней пришел ответ из Москвы, из Генерального штаба, который еще раз подтвердил, что капитан медицинской службы Заброда Павел Иванович погиб под Севастополем в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
* * *
А в Севастополе вдруг все утихло, словно оборвалось. То гремело и невыносимо гудело, как в гигантском корабельном котле, который заклепывают со всех сторон сотни мастеров. И вдруг эта тишина! Даже слышно впервые после долгих дней оглушающего гула, как жалобно плачет чайка над морем. Бьется возле мертвого маяка и кричит. Ольга поднялась на узенькую площадку верхней башни, и чайка всполошилась, полетела прочь от берега в морскую даль.
Над морем, у самого обрыва, стояли тупорылые немецкие танки с черными, похожими на пауков крестами. До сих пор Ольга видела их только на фотографиях, а теперь они были совсем рядом, уставясь в небо черными жерлами орудийных стволов. Немного поодаль, подковой, тоже выстроились танки. Они навели свои пулеметы на изрытую бомбами и снарядами землю, где умирали измученные и голодные раненые матросы. Немецкие солдаты ходили вдоль окопов и воронок, властно требовали, чтобы моряки сами переходили за вторую линию танков, где уже набралось много народу. Тяжелораненых они пристреливали так спокойно и методично, словно гуляли по полю и от нечего делать сбивали прутиком головки придорожных цветов. Чванливые, самодовольные, они, сбросив мундиры и засучив рукава сорочек, с хохотом забрасывали гранатами ямы, если тесно прижавшиеся друг к другу раненые были не в силах выбраться из своего убежища.
Ольга в ужасе зажмурила глаза.
А со всех сторон неслось и неслось, словно бешеное рычание пса, ненавистное и пронзительное: «Хальт! Цурюк! Ахтунг! Век! Капут!..»
А голоса все громче, все ближе. Сейчас раздадутся в высоком пролете маяка. Девушке нельзя больше прятаться. Она выхватывает из рефлектора треснутую линзу и, прижав ее к груди, бежит по крутой винтовой лестнице вниз. Эх, была не была! Немецким языком она немного владеет, платье на ней старенькое, поношенное; линза от маяка в руках, а сам маяк она знает как свои пять пальцев – спасибо за науку дяде-покойнику, не один год прослужившему здесь и не раз приводившему сюда Ольгу.
На последних ступеньках Ольга замедляет бег, сдерживает дыхание, чтобы успокоиться, и медленно выходит из маяка навстречу двум немцам. От неожиданности те отшатнулись, загалдели, наведя на нее автоматы. Чего они так орут? Глухая она, что ли? Вояки вы неотесанные. Ольга поднимает вверх руки, с трудом удерживая линзу. Не давая фашистам опомниться, она кричит:
– Ахтунг! Ахтунг!
Ольга показывает глазами на линзу, а потом на высокую башню немого маяка. Молниеносно припоминая немецкие слова, она то фразами, то мимикой объясняет, что служит на маяке уборщицей. Немецкое командование должно благодарить ее за то, что она, простая девушка, спасла для них маяк. Красные матросы заложили в маяке страшные мины, чтобы те взорвались, как только немцы войдут сюда. Она вынула мины, скатила их в море, вон под ту скалу. Можно пойти и проверить, они там лежат до сих пор. А вот это главная линза, без которой маяк не сможет работать.
Немцы наконец поняли ее, но им удивительно, что именно в Севастополе у них нашлась такая помощница. Рыжий что-то шепчет белобрысому, тот выхватывает из кармана свисток и что есть мочи свистит, выпучив глаза. Мигом появляется молодой, хлыщеватый офицер. Рыжий докладывает ему, показывая глазами то на Ольгу и линзу в ее руке, то на маяк. Офицер прерывает его и начинает сам расспрашивать девушку.
Ольга слово в слово повторяет все то, что только что говорила солдатам. Офицер велит им вести Ольгу в маяк и идет вслед за ними. Девушка подводит их к нише, где лежат несколько противотанковых гранат и тол в ящиках, уверяет, что здесь якобы лежали мины. Ольга смело прикасается к ним, показывая офицеру, как она вытаскивала мины, как носила их к морю и сбрасывала с высокой скалы в воду. Потом объясняет офицеру и солдатам строение рефлектора.
Офицер все еще сомневается. Тогда Ольга решается на последний шаг: она живет с мамой и сестрой Оксаной в собственном домике на Корабельной стороне. У них в доме нет мужчин, которые могли бы воевать на фронте. А брат Грицько еще мал, всех забот у него – гонять голубей.
– Таубе! Таубе! – радостно выкрикивает Ольга, вспомнив наконец, как по-немецки «голубь».
– Молодец! – довольно хохочет немец. – Немецкое командование совсем не трогает тех людей, которые оказывают помощь солдатам великого рейха. Пусть фрейлейн Ольга это хорошо запомнит и всем расскажет. Здесь, в Севастополе, люди какие-то бешеные. Немецкие солдаты не звери. Офицер придет к Ольге вечером в гости, и она убедится в этом. А что она хочет в благодарность от немецкого командования?
– Я хочу к маме, – горячо просит Ольга.
Подыскивая немецкие слова, она объясняет офицеру, что третий день ничего не ела, а только пила грязную, вонючую воду из воронок. Ей нужно немедленно к маме, чтобы хоть немного отдохнуть и приготовиться к приходу господина офицера. На маяке все будет в порядке. Правда, господину офицеру нужно поставить часовых, не то солдаты, ничего не понимающие в механизмах, могут нечаянно все испортить.
– Хорошо! Хорошо! – поддакивает офицер.
И тогда Ольга, чтобы окончательно развеять его сомнения, мигом поднимается по крутой лестнице и устанавливает линзу на пустое место в большом зеркальном рефлекторе, красочно переливающемся всеми цветами солнечного спектра.







