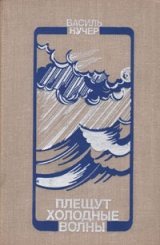
Текст книги "Плещут холодные волны"
Автор книги: Василий Кучер
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Офицер после некоторого колебания решает: нет, она не диверсантка. Это просто обыкновенная девка, с которой русские матросы развлекались тут, на маяке. А почему бы и ему не иметь ее в своем распоряжении?
– Хорошо, – похвалил офицер и протянул ей зеленый пропуск сроком на один день. – Иди и всем расскажи о нас, фрейлейн Ольга. Пусть видят русские фанатики гуманизм солдат великого рейха!
Девушка пошла, не оглядываясь, навстречу крику и плачу, повисшему над горячей землей, над телами убитых и умирающих от ран и жажды матросов.
Ольга в бессильной злобе кусала потрескавшиеся губы, возмущение клокотало в груди. Ну как она могла так спокойно с ними говорить? Почему не вцепилась этому офицеру в горло и не задушила его? Живые фашисты стояли перед ней, и она не выхватила у них автомат, не пришила их навеки к земле. Проклятый враг стоял рядом, а она забыла святой завет: убей фашиста! Более того, стала перед ним изворачиваться, даже кокетничать. Стыд! Какой стыд... А что же она могла сделать? Ну, убить немца, бросить ему под ноги гранату и погибнуть сама. О нет! Они еще дорого ей заплатят за все, за все. Она для того и спаслась, чтобы смерть их была еще мучительней и страшней.
Среди убитых и раненых, словно зловещие тени, бродили почерневшие от горя женщины с маленькими детьми, разыскивая своих отцов и мужей. Они склонялись над мертвыми, подолгу разглядывали их, узнавая, а потом накрывали их тела шинелями или бушлатами.
В глубокой воронке над телом могучего матроса в разорванной на груди тельняшке голосила простоволосая женщина, ломая руки:
– Ой, хозяин наш, голубчик сизокрылый, на кого ты нас покинул? Почему же не пришел хоть попрощаться с нами, соколик родной? Да они же теперь вырастут, как тот чертополох, твои деточки ненаглядные. Ой, почему ж ты нас не позвал, муж ты мой верный? Да мы б тебя от проклятой смерти грудью своей заслонили! Да мы б тебе белые руки под головку подложили, а сердце твое от огня упрятали! Ой, отец ты наш родной, сокол наш дорогой! Да посмотри на своих малых деток, да услышь их голосочек! Ведь и пушки уж не стреляют, и пули не свистят, а тебя, бедняжечки, уже нет... Ой, люди добрые, что ж нам, сиротам, делать? К кому голову прислонить, у кого правды искать?..
Матрос лежал головой к Севастополю, выбросив вперед крепкие жилистые руки, в которых намертво был зажат пустой, без единого патрона автомат. Раскрытый диск валялся рядом. Двое малышей собирали расстрелянные гильзы, единственную память, оставшуюся им от отца. Их почерневшие ручонки дрожали, из глаз горошинами катились слезы.
Ольга тихо и осторожно обошла осиротевшую семью и, не помня себя от торя, побежала к Севастополю, прижав к ушам платок, не отрывая глаз от земли. А горестный плач и отчаянный стон женщин, повисший над полем, все равно доносился до нее.
Вдруг среди этого тоскливого рыдания ей послышалось, что кто-то зовет ее. Ольга остановилась, сняла платок.
– Оля-я-я-я! Оля-я-я-я! – неслось откуда-то издали, словно со дна морского.
Ольга огляделась вокруг и побежала на этот зов к морю, остановилась у самого края глубокого обрыва. Внизу пенилась и шумела теплая морская волна, смывая с камня свежую кровь.
Там по колени в воде стояла Оксана. Длинная и тяжелая коса ее расплелась, и волосы рассыпались по плечам.
– Оксаночка! – бросилась к ней по крутой тропке, спускавшейся к морю, Ольга. – Что с тобой? Зачем ты тут?
– Не нашла, – чуть слышно проговорила Оксана. – И там не было, и тут нет... А ты его не видела?
– Кого? – тревожно заглянула ей в глаза Ольга.
– Павлика. Все кого-нибудь находят. Одна – живого, другая – раненого. Только его, бедного, нигде нет. Сколько я прошла уже, Оля, сколько всего повидала, а его все нет и нет. Хоть бы раненого, только бы найти. Что же это творится, Оля? Ты меня слышишь или не слышишь, Оля?
– Слышу, милая. Слышу. Но его и там нет, – кивнула Ольга на маяк. – Я оттуда иду. Наверное, уплыл ночью на Кавказ. С моряками уплыл. Не волнуйся, Ксана...
– Ох, нет! Он где-то здесь, – вздохнула Оксана.
– Кто тебе сказал? Не может быть, – пробовала успокоить ее Ольга.
– Он тут упал. Снаряд ударил в воронку, где были раненые. А он возле них стоял, мой Павлик. Мне санитары передали. Ты ничего не знаешь, – шептала Оксана, со страхом глядя на убитых моряков, лежащих под скалой. Их руки тянулись к морю, словно люди умоляли его подойти поближе и унести их на волне с этой страшной, окровавленной земли.
Оксана тоже протянула руки к морю:
– Будь она проклята, эта война! Навеки проклята!
– Оксана? Опомнись! – прижала ее к груди Ольга, словно боялась, что сестра сейчас бросится в море. – А как же мы здесь останемся, в неволе?
– Мы? – удивленно спросила Оксана и после паузы вздохнула: – А что мы? Война мне искалечила молодость... Кто мне его вернет, Павлика? Кто? Помоги мне хоть мертвого его найти, Оля. Помоги...
Они брели вдоль берега, потом по холмам все ближе и ближе к Севастополю, но Павла Заброды среди убитых не находили. Не было его и среди раненых, истекавших кровью в разрушенном полевом госпитале, где какой-то врач и две медсестры еще боролись за жизнь моряков. Поили их водой, перевязывали раны, давали какие-то лекарства.
Сколько трагического и в то же время героического происходило на этой сожженной каменистой земле в последние минуты обороны Севастополя!
Вот из блиндажа выскочил генерал и пошел на немцев под охраной десяти автоматчиков. Он был при всех орденах и медалях, в парадном мундире, и гитлеровцы расступились и закричали от радости: советский генерал добровольно идет к ним в плен. Генерал шел медленно, высоко подняв голову, а матросы с автоматами плотно окружили его со всех сторон, словно боялись, чтобы к нему никто не подкрался внезапно. Генерал подал короткую отрывистую команду – и автоматчики ударили во все стороны по врагам, а генерал на ходу бросил фашистам под ноги одну за другой две гранаты. Он шел, как на параде, не сводя взгляда с синей дали, где виднелась Балаклава, шумели в горах партизанские леса. Наконец фашисты опомнились и ударили по этой группе из крупнокалиберных пулеметов. Генерал упал, громко вскрикнув. Упал головой к Балаклаве, далеко вперед выбросив черные, обожженные порохом руки. Его добили в спину, словно из-за угла. Матросы залегли вокруг генерала. Вмиг их накрыли густым огнем минометов, а потом туда приполз танк и раздавил гусеницами мертвые тела.
...Пленных гнали через пылающий город. На узкое Лабораторное шоссе густо высыпали женщины, старики и дети. Немецкие конвоиры с трудом сдерживали озлобленную, возбужденную толпу севастопольцев. Люди бросали раненым хлеб, сухари, подавали воду, которой и у самих не было вдоволь.
Оксана все глаза проглядела, но Павла и здесь, среди пленных, не было. Вот и все. Вот и исчезла последняя надежда.
Боцман Верба, с перевязанной головой и залитым кровью глазом, шел с краю в колонне военнопленных.
Вдруг в толпе промелькнуло знакомое лицо, и, была не была, он тихо позвал:
– Ой, мама родная! Спасите!
И тут какая-то женщина кинулась к нему, заломив руки:
– Сыночек мой!..
За ней бросились девушки, женщины, дети. Боцман Верба мгновенно растаял в толпе, а через минуту он перебежал узенький дворик, и крышка погреба, грохнув, захлопнулась за ним.
Часовые даже не заметили этого – они шли далеко друг от друга. Удача подхлестнула людей. Вслед за боцманом Вербой женщины выхватывали из колонны то одного, то другого пленного. Раненые, кто не мог идти, валясь от боли и усталости, падали у ног севастопольцев, и люди сразу же перешагивали через них, заслоняли, а стоящие сзади уносили раненых во дворы и прятали их где только было можно.
Женщины выбежали за колонной в поле, умоляя конвоиров:
– Господин! Там сын мой. Пустите...
Не пускали. Но они все бежали и бежали, подбирали тех, кого не успели пристрелить фашисты.
Солнце жгло немилосердно, земля растрескалась так, что кое-где можно было в щель засунуть ладонь. Выгорели все травы. Листья на деревьях увяли. Только море синело, слепящее и безмолвное, словно и оно затихло, затаило дыхание.
Оксана уже не плакала, только горько всхлипывала, упав грудью на стол. Ольга стояла возле нее, не зная, что делать дальше. На столе лежал пропуск, который ей дал на маяке немецкий офицер. Варка еще раз взглянула на пропуск, в сердцах бросила:
– Уйдите с глаз долой! Куда хотите, туда и идите. Я сама с ним поговорю, когда придет...
– Куда же мы пойдем, мама? – спросила Ольга.
– Куда хотите. К тетке на Слободку. На хутор Дергачи или в совхоз. Идите, чтобы глаза мои вас не видели. Там и ночуйте, раз такое натворили. И где совесть твоя была? Немца в гости пригласила, бесстыдница...
– Он же меня отпустил, – пыталась оправдаться Ольга.
– Отпустил... Чтоб его с берега спустили, проклятого, – ругалась Варка. – Чтоб его в люльке задушили вместе с этой войной...
Грицько дергал Ольгу за юбку, тянул за рукав Оксану, подмигивал испуганными глазами, чтоб они не упирались, а немедленно удирали из дому, раз мать сердится. И сестры молча вышли; даже не простившись с матерью. Грицько обрадовался, что они так быстро послушались его совета, заискивающе попросил:
– Мама, я побегу в порт. Там склад разбили и можно сухарей набрать...
– Что? – вскинулась Варка. – Я тебе покажу сухари, балбес!
– Так все же бегут, – упрашивал сын.
– Пусть бегут, а ты сиди дома. Сиди хоть ты со мной...
Грицько насупился, засопел и поплелся в угол, где лежали его самодельные яхты и рваные брезентовые паруса.
К вечеру пришел офицер с двумя солдатами. Одного он оставил во дворе, у порога, со вторым вошел в дом. Вынув разговорник, он кое-как стал объясняться с Варкой, и она поняла, что он и есть тот самый офицер, которого Ольга пригласила в гости.
Она показала ему Ольгину фотографию, висевшую на стене, и, пожав плечами, невинно сказала:
– Нету, господин. Нету. Ушла по воду с сестрой. Далеко. К тетке в Дергачи. Теперь вода только там есть.
– Вассер? Танте? Пошла? – переспрашивал офицер.
– Ага, – продолжала Варка. – А вот этот пропуск велела вам передать. Она у меня честная! Возьмите пропуск, господин, и не думайте, что она его кому-нибудь передала...
– Гут, гут! – офицер схватил пропуск и спрятал в планшет.
Он долго листал потрепанный разговорник, наконец отыскал нужную фразу, проговорил:
– Я хочу к вас приходить... Очень хочу... Гут?
– Приходи... Вольному воля, – пожала плечами Варка.
Грицько выбрался из угла и смело прохаживался по комнате, словно совсем не боялся немца. Офицер легонько дернул его за чуб и засмеялся. В ответ Грицько показал язык и тут же спрятался за материну юбку...
– Слава тебе господи, – с облегчением вздохнула Варка, когда непрошеный гость покинул дом.
Наутро был объявлен первый приказ фашистских властей. Все севастопольцы должны были явиться по месту своей прежней работы. За неявку – расстрел.
И они пошли. Оксана к разрушенной типографии, где ее встретил какой-то немец и, записав в список, заставил разбирать вместе с несколькими старыми печатниками каменные завалы. Ольга побрела к руинам Морского завода. Несколько ее прежних подруг уже носили ржавые и погнутые от огня железные балки. Всех их тоже записал немец и велел ежедневно сюда приходить. Боцман Верба явился в порт и сказал немцам, что он работал мотористом на водолее, развозящем по кораблям воду. Водолей большевики затопили, а его, раненного, бросили в порту на произвол судьбы. Он работал у них по вольному найму. В армии не служил. А это его маленький помощник, Грицько Горностай. Неважно, что мал, зато многое умеет. Куда угодно пошлите, все выполнит. Так Грицько стал работать вместе с Вербой в порту.
Явился в полевую жандармерию и Момот, заявив, что он врач, а кроме того, учитель физики и математики. Его тоже поставили на учет.
Все начиналось как будто хорошо. Сестры Горностай должны были встретиться с боцманом Вербой и врачом Момотом.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
А полевой хирург Павло Заброда еще жил и боролся. Взрывная волна от снаряда, ударившего в самую гущу раненых, швырнула его с высокой скалы на мягкий песок, к самому морю. Тихая волна пробудила его от контузии. Павло пришел в себя, когда на небе уже высыпали большие южные звезды. Он шевельнул руками и ногами, почувствовал в них былую силу. Медленно поднялся на ноги, огляделся вокруг и побрел вдоль берега наугад, разыскивая какую-нибудь тропку, чтобы подняться к Херсонесскому маяку. Но тропки нигде не было. Над его головой на этой огненной, истерзанной земле все громче и явственнее слышалась лающая, отрывистая немецкая речь и отчаянный стон раненых матросов.
– Добей, браток!
– Ох, добей, чтоб я не мучился...
Потом немецкие выкрики стали удаляться, и Павло, перебираясь с камня на камень, пошел вдоль моря в сторону мыса Фиолент; ему казалось, что там еще идет бой наших арьергардных частей. Может быть, туда подойдут этой ночью и советские корабли.
Но корабли так и не подошли. Хирург Заброда остался один. Собственно, он уже перестал быть хирургом. Его сумка с инструментами пропала, когда разорвался снаряд. В пистолете остался последний патрон, врач берег его для себя. Над спокойным морем прозвучит еще один одинокий выстрел, которого на земле никто уже не услышит в этом грохоте и громе. Останется море, черная ночь и большие звезды на небе. И еще там, где-то под Млечным Путем, его Сухая Калина, а в ней грустная и заплаканная мать. Все обещал приехать к ней Павло, да так и не собрался. Взглянул на Млечный Путь и горько вздохнул. Расстегнул кобуру, холодная ручка пистолета неприятно защекотала ладонь. Павло даже вздрогнул, зябко поежился...
Вдруг он увидел у берега шлюпку и возле нее троих. Они быстро вычерпывали из нее воду, как видно собираясь отплыть в море. Павло подбежал к ним, спросил:
– Братцы, куда вы?
– Ты что, не видишь? – глухо сказал усатый. – К партизанам, под Балаклаву...
– А там, наверху, что?
– Там каюк. Конец, – бросил тот, что копался на носу шлюпки.
– Вам будет трудно втроем, шлюпка же на четыре весла. Возьмите меня с собой, братцы, – попросил Павло. – Я врач.
– Врач? – удивленно протянул усатый, сталкивая шлюпку в море и становясь в нее одной ногой.
– Да, врач. – Павло подошел ближе.
Усатый заколебался, но тут прозвучал молодой голос:
– Полундра! Стой, говорю! Пусти врача! Это тебе не ярмарка.
Усатый пожал плечами и протянул Заброде жесткую, мозолистую руку. Обрадованный Павло прыгнул в шлюпку так, что она закачалась на воде.
– Осторожно, – послышался сдержанный и какой-то укоризненный третий голос. – Пошли.
– Пошли! – облегченно выдохнул усатый, оттолкнувшись от берега длинным шестом, похожим на катерный шток.
Шлюпка быстро шла в море, послушно обходя острые камни, торчавшие из воды. Павло присел на корточки у кормы, усатый, почти упираясь ему в грудь коленями, правил. Двое других сидели на веслах.
– Давай, давай! – прикрикнул на гребцов усатый. – Скоро рассвет. Они же засекут нас.
– А вот это видели? Пусть теперь соли на хвост насыплют, – бросив весло, сложил фигу один из гребцов.
– Не хвались, еще напророчишь, – остановил его усатый, и тот сразу умолк, только прерывисто задышал, налегая грудью на весло. Видно, грести ему было тяжело. Его напевный голос с мягким полтавским «эль» словно подтолкнул Павла, он обрадованно вскрикнул:
– Прокоп, дружище!.. Неужто ты?
На скамье, которую матросы называют банкой, рядом с гребцом белел в темноте деревянный костыль.
– Так точно, товарищ капитан медицинской службы, – выпалил единым духом Прокоп Журба, не прекращая грести.
Усатый резко подобрал ноги под банку и уже не так напирал на грудь Павла коленями.
– Да вы перейдите на нос. Тут неудобно, – уже мягче и теплее сказал он.
– Переходите, – протянул из темноты руку Прокоп Журба.
– Да, это дело, – поддержал и третий, отодвигаясь в сторону.
Павло быстро перешагнул обе банки, удобно устроился на носу шлюпки.
– Дайте и мне весло.
– Ха! Весло! Было бы оно, – горько откликнулся усатый. – Сидите уж за пассажира, а утром будет видно, что нам дальше делать...
– А почему за пассажира? – вмешался Прокоп. – Пусть будет как тот моряк на корабле. Он у нас называется впередсмотрящим.
– И ясновидящим? – пошутил третий.
– Нет. Такого у нас нет, ясновидящего. Это у штундов так называются пророки, – хохотал Прокоп. – И у христиан тоже...
– Давай греби, пророк, не трепи языком, – остановил его усатый.
– Даю, папаша, даю, чтоб того Гитлера на вилах подали, – плюнул не в море, а себе под ноги матрос Журба и осатанело налег на весло.
Шлюпка, ведомая усатым, наконец вышла в открытое море. Приближался рассвет, теперь было отчетливо видно, что они обходят Херсонесский маяк, направляясь дальше к мысу Фиолент и Балаклаве, которая чуть виднелась на фоне моря и неба.
На последнем клочке крымской земли еще шел жестокий и неравный бой. Немецкая артиллерия и минометы не стреляли: им негде было развернуться на этом пятачке матросской отваги и смерти. Осколки могли задеть и тех, кто стрелял в горсточку матросов, оставшихся со своим генералом. На море были отчетливо слышны яростные и отчаянные выкрики «полундра» и крепкая матросская брань. И еще был слышен тихий голос баяна, доносивший, словно из-под земли, заветные слова:
Плещут холодные волны,
Бьются о берег морской.
Наверное, кто-нибудь из раненых случайно увидел баян возле себя и, забывшись, заиграл среди огня и смерти любимый напев, и тот прозвучал как прощальная песня:
Миру всему передайте,
Чайки, печальную весть...
В окопчик полетела связка гранат – и баян замолк...
А Павлу навек запала в душу эта песня: «Плещут холодные волны...»
Занималась заря. Солнце еще было за горизонтом, и на море только-только легли первые сероватые отблески света, но на западе начало сильнее и сильнее разгораться багровое зарево, окрасившее зловещим кровавым цветом море, небо, клочок земли у Херсонесского мыса и даже рыжий дым, клубившийся над маяком.
И тогда в свете этого зарева четверо в шлюпке увидели матросов, последних защитников Севастополя. Павло даже сосчитал их. Сорок девять. Они стояли по пояс в воде в одних тельняшках, с автоматами в руках, лицом к фашистам, которые залегли на высокой скале. Матросы медленно отступали все дальше и дальше в море, яростным огнем прижимая врагов к земле. Фашисты неистовствовали в бессильной злобе, но матросов взять живыми не могли. Враги даже выкатили орудийную батарею, но расстояние было слишком близким, и орудия и минометы не могли вести прицельный огонь. Матросы же не сдавались. Били и били из автоматов, отходя в море, – вот они уже стоят по грудь, по шею в воде, кое-кто начинает захлебываться, но огня не прекращают, высоко вскинув над головой автоматы.
Не в силах сломить их волю, враги ударили кинжальным огнем из крупнокалиберных пулеметов. С двух сторон, с высоких скал. Море стало красным от крови, и легли матросы на каменистое дно, головами к берегу. И никто из них не закричал о спасении, никто не попросил о помощи. Море сомкнулось над их головами, тихо зашумело...
Павло опустился на колени, сорвал пилотку и низко склонил голову. Прокоп Журба и третий, молодой капитан, стояли на коленях спиной к Заброде, и он не видел их лиц. Только по низко опущенным плечам почувствовал их великую печаль и горькую скорбь. Усатый тоже тихо сполз с кормы на колени и все оглядывался, чтобы увидеть гибель последних севастопольских матросов. Время от времени он повторял:
– Вечная память, сыночки... Вечный покой...
Глаза его бегали по лицам трех спутников, словно он спрашивал, можно ли ему перекреститься. Те молчали. И он зашептал себе в усы тихие и неразборчивые слова, словно творил среди моря горячую молитву за упокой погибших матросов.
Павло присмотрелся к нему внимательнее и узнал. Это был тот самый техник-лейтенант, который прятался в порту от бомбардировки вместе с ранеными, доставленными Оксаной. Как же его фамилия? У него тогда было с собой двадцать тысяч рублей – зарплата для всех авторемонтных мастерских. Он, кажется, из Саратова родом? Да, именно так! Его и зовут странно, как персонажей в пьесах Островского. Фрол. Да. Фрол Каблуков. Где же они встретились с Прокопом Журбой?
Фрол заметил внимательный взгляд врача, смущенно кашлянул, крикнул Прокопу:
– Эй там, на веслах, шевелись!
Гребцы снова взялись за весла, тяжело покачиваясь в такт. На худых спинах заходили острые лопатки. Павло опять не видел их лиц, но угадывал, что они напряжены и болезненно перекошены от усталости. Он только теперь заметил, что в руках у них были не весла, а какие-то неуклюжие палки. Прокоп орудовал дубовым поручнем, какие бывают на лестницах в многоэтажных домах. Его напарник греб какой-то дубиной, которая смахивала на огромную оглоблю. Усатый правил куском узенькой шалевки с выбитым сучком. Так вот почему им так трудно грести! Так вот почему шлюпка так медленно идет от берега! Павло горько покачал головой.
На дне шлюпки, лежали три солдатские каски, пустая камбузная кастрюля и три банки рыбных консервов. У ног Фрола лежал чем-то плотно набитый противогаз, винтовка, кобура с пистолетом и на корме – свернутая плащ-палатка.
«А где же вода? Где хлеб?»
Павло невольно вздрогнул и тронул себя за бок, где висела солдатская фляга, наполненная вонючей солоноватой водой, которую он набрал в воронке возле Херсонесского маяка.
Под банкой, вдоль шлюпки, лежали еще два шеста, которые должны были служить веслами.
Сорвался пригретый солнцем ветер. Под носом шлюпки сразу же заплескалась волна, и Павло, тревожно озираясь, заметил:
– Ветер с моря! Нас несет обратно к берегу...
– Твою дивизию! – выругался усатый Фрол. – Что же нам делать?
– На весла! Всем на весла! – твердо бросил Павло, словно скомандовал.
И первый схватил огромную дубину, которая лежала на дне шлюпки, сел рядом с Прокопом Журбой. Слева от него, рядом с третьим гребцом, прихватив доску, устроился Фрол Каблуков, горячо взявшись за работу. Но вскоре бросил доску, дубинкой грести было сподручнее.
Они напрягали последние силы, пот градом катился с их почерневших лиц, а шлюпка, казалось, стояла на месте. Их опять стало нести к берегу. И тут они увидели в море одинокую веху, которая показывала кораблям фарватер. Погнали к ней шлюпку, с трудом борясь с бортовой волной.
– Эй, налегай! Ох, давай, браточки! – тяжело вздыхал Фрол Каблуков, умываясь горячим потом.
– Раз-два! Раз-два! – цедил сквозь зубы Прокоп Журба, зло поблескивая большими, полными горечи глазами.
Его нога была разбинтована и лежала на деревянном костыле, туго обтянутая резиновым чулком (чтобы не замочила вода). Рана, наверное, еще не совсем зажила. Павло должен осмотреть ногу, сделать свежую перевязку. Хорошо, хоть бинты с собой прихватил и вату. Перевязки с морской водой должны помочь. Метод давно проверенный...
Только третий гребец, капитан войск связи, молчал, кусая потрескавшиеся от солнца и ветра губы. Павло вглядывался в его бледное лицо, пытаясь узнать капитана. Где-то и его он уже встречал, но где именно и кто он такой – никак не мог припомнить. Павло хотел было спросить его об этом, но тут закричал Фрол:
– Эй, доктор, лови ее, проклятую!
Заброда кинул на дно шлюпки дубину, схватил обеими руками веху и словно прикипел к ней.
– Есть! Теперь она не убежит, – обрадованно сказал он. – Теперь отдохнем, ребята...
– Швартуйся, моряк! – бросил Прокопу Каблуков.
Тот сорвал с себя пояс с медной бляхой, привязал им шлюпку к вехе.
Павло еще раз внимательно взглянул на связиста и наконец вспомнил, что это Алексей Званцев, капитан из Ленинграда, который тянул кабель, когда Павло строил первые укрепления под Севастополем и познакомился с Варварой Горностай, матерью Оксаны.
– Вы? – спросил он.
– Я, – тихо и как-то виновато ответил Званцев.
– Алексей?
– Да, Алексей...
– Давно с ними?
– Нет, недавно. Ночью встретились.
– Что же будем дальше делать?
– Вперед! Только вперед, в море! – решительно сказал Прокоп Журба.
– А твоя нога? – спросил Заброда.
– Зажило как на собаке. По песку – ничего. А как на камни станешь, болит пятка. Вот он и в шлюпку не хотел меня брать из-за этого... – Прокоп показал глазами на Фрола Каблукова, который уперся локтями в колени, склонив на руки тяжелую голову.
– Странно, – заметил Павло.
Фрол Каблуков медленно поднял голову, утомленно сказал:
– А что тут странного? Вы должны меня благодарить, а не обижаться. Я первый нашел эту шлюпку и весла достал. И каски, и кастрюлю. Мне жаль тебя стало, как увидел твой костыль. И боязно немного. Какой из тебя пловец на костыле? Доходяга – и все тут. Будет мне морока в море. Но, говорю, жаль мне тебя стало, вот и принял в команду. Теперь уж знай себе помалкивай!
– Ого! – тихо хохотнул Прокоп.
– Вот тебе и «ого», – буркнул Фрол и опять склонил голову на руки.
– Что же будем делать? – еще раз спросил Заброда.
– Надо старшего выбрать, – сказал Прокоп Журба. – Как можно без старшего на шлюпке?
– Тут войны нет, – отозвался глухо Фрол, не поднимая головы, – отвоевались.
– Э, нет, папаша, – обернулся к нему Званцев. – Еще будут у нас бои. Ох будут...
– Я предлагаю, чтобы командование шлюпкой принял капитан Заброда, – вдруг предложил Прокоп.
– Согласен! Пусть будет капитан Заброда, – поддержал его Званцев.
Фрол поднял голову, внимательно посмотрел на всех воспаленными, усталыми глазами:
– Но имейте в виду, что у меня казенные деньги. Двенадцать тысяч. Зарплата на весь покойный батальон...
– Неужели? – деланно удивился Прокоп. – Разве до сих пор не сдали?
– Кому?
– Ну мало кому можно сдать? Сколько времени прошло, как вы прятались с деньгами в порту во время бомбежки. Помните?
– Да ну тебя к бесу! – огрызнулся Фрол. – Хоть ты не кори. Это деньги другие. Те я давно роздал. Тогда еще жив был мой батальон...
– Значит, согласны?
– С чем?
– Ну чтобы командование шлюпкой принял капитан медицинской службы Заброда.
– Медицинской службы? – удивленно спросил Фрол и хотел уж было возразить, но Журба сразу нашелся:
– Да. Капитан медицинской службы будет нашим командиром, а вы, папаша, его заместителем... По финансовой части, значит, раз у вас казенные деньги... Согласен?
– Пусть. Это не шутка, ребятки, если четверо в море и больше никого нет... Так я говорю или нет?
– Так, папаша... – ответил ему в тон Заброда,
– Фрол Акимович меня зовут, – проговорил Каблуков.
– Очень приятно, – продолжал Заброда, – я буду в первую очередь врачом, а врачи, как вы знаете, Фрол Акимович, не очень крутые командиры. На этом и помиримся. Компас и карта у вас есть?
– Нет, – глухо сказал Фрол.
– Запасы пищи?
– Три банки рыбных консервов, – доложил Прокоп.
– Хлеб и сухари?
– Нет.
– А вода?
– Нет и воды...
– А как же вы плыть думаете? – с отчаянием спросил Заброда.
Все молча взглянули на занятый врагом берег. И в этом взгляде стояла грусть и невыразимая боль.
– Что же вы думаете? – опять тихо спросил Заброда. – Ну, я захватил флягу воды. А дальше что будет?
Он хотел кричать и возмущаться. Но вовремя сдержал себя и только махнул рукой.
– Наш выход в море был настолько неожиданным, что некогда было думать, товарищ капитан, – медленно выговаривая слова, объяснил Фрол Каблуков. – Я хотел уже стреляться, но тут нашлась эта шлюпка. Какая-то добрая душа оставила ее на моем пути! А потом они оба под руку подвернулись. Тоже собирались пустить себе пулю в лоб. А ты разве не хотел, товарищ капитан?
Павло вынул пистолет, разрядил его, показал последний патрон.
Над морем выкатилось большое горячее солнце. Зной становился все нестерпимее по мере того, как солнце поднималось в зенит, затопляя жаром все вокруг: и море, и землю, и воздух.
На берегу бешено застучал пулемет, словно кто-то загремел тяжелыми сапогами по железной крыше. И еще не утих его грохот, как первые пули длинной очереди зловеще засвистели возле шлюпки и вокруг нее выросли фонтанчики вспенившейся воды.
– На весла! Вперед! – громко скомандовал Павло и, схватив палку, что есть мочи начал грести.
Пулеметные очереди с берега ложились все ближе и ближе, но и шлюпка не стояла на месте, а быстро шла вперед, разрезая задранным носом свежую волну. Гребцам хорошо было видно пламя, вылетавшее из пулеметного дула, ясно слышны выстрелы, но пули ложились теперь от них все дальше и дальше, и скоро шлюпка вырвалась из смертельной зоны обстрела.
Сильно утомленные еще там, на земле, не имея во рту ни крошки хлеба, ни капли воды вот уже второй день, гребцы тяжело дышали, не в силах разогнуться. Перед глазами замелькали желтые искры, а им показалось, что это залитое солнцем море слепит их. Кровоточащие ладони невыносимо горели, моментально вскочившие большие волдыри тут же лопнули. Намокшая за ночь одежда дымилась на солнце.
– Может, весла подсушить? – спросил Фрол. – Жарко...
– Отставить радоваться! Они засекли нас, – бросил через плечо Заброда, не разгибаясь. – Теперь в покое не оставят...
И не успел он закончить фразу, как на берегу заговорила пушка, и большой снаряд, просвистев над их головами, разорвался в море перед шлюпкой, прямо по их курсу. Высокий столб воды вырос на гладкой поверхности моря, взмахнул вверху белым султаном.
– Лево руля! – крикнул Заброда.
Шлюпка качнулась и резко изменила курс. Но новый снаряд нагнал ее, разорвавшись совсем близко. Гребцов сбросило волной на дно шлюпки, и водяной столб накрыл их с головой. Солнце вдруг закружилось в небе и стало падать в какую-то мутную пропасть. Словно его подхлестнули кнутом и оно превратилось в гигантскую юлу, которая в бешеном темпе начала свой стремительный бег по небу.
Жалобно вскрикнул Званцев, схватившись за грудь:
– Кровь! У меня кровь...
Шлюпка была до краев залита водой, и Фрол Каблуков крикнул:
– Шлюпка пробита. Мы тонем... Спасите!
– Замолчи! – крикнул на него Заброда. – Где каски? Вычерпывай воду!
Прокоп пошарил руками под водой, подал ему каску, вторую – Фролу, себе выхватил кастрюлю. Стали выплескивать воду за оба борта. Тупо, бешено, уже и не поглядывая на берег. Шлюпка ушла далеко в море, и желтые скалы только чуть виднелись в сизом тумане.
Званцев стал бледен, вял и все ниже оседал в воду на носу шлюпки, словно его клонило ко сну. Осколком снаряда его ранило под лопатку, и он чувствовал, как горячая кровь течет по спине, заливая поясницу. Чувствовал, но терпел, стиснув зубы.
– Крепись, браток, – просил его Павло. – Вот вычерпаем воду, и я тебя перевяжу. Мигом перевяжу, не волнуйся, голубь...
Вода в шлюпке больше не прибывала.
– Значит, цела? – спросил Заброда.
– Цела! – радостно выкрикнул матрос Журба, стирая мокрой ладонью густой пот со лба.
– Я боялся, что ее пробило, – вздохнул Павло. – А она, вишь, цела.
– Слава тебе господи, – тихо отозвался Фрол, кусая мокрые усы.







