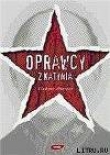Текст книги "Белое пятно"
Автор книги: Василий Козаченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
– И кто же это сделал?
– Кго его знает, – покосился куда-то в сторону Микита.
– Ну, кто не кто, а уж что "Молния", так наверняка! – вдруг спокойно сказала старуха.
– Много вы знаете! – недовольно буркнул Микита. – Лучше бы помолчали.
– А чего мне молчать? Кому же еще, как не "Молнии"?
– То есть, как – молния? – ничего не понял я.
– Да-а... – протянул неохотно Микита. – Есть туг якобы в наших краях такая "Молния". Партизаны или подпочыцики, кто его знает!.. Где бы что ни случилось, все сразу же: "Молния" да "Молния"! Вот как в сорок первом было: Калашник да Калашник, так теперь "Молния".
– Мне бы сейчас напасть хотя бы на какую-нибудь искорку от этой "Молнии"...
Микита промолчал, будто не расслышал. Потом пожал плечами и заговорил совершенно о другом:
– Про вас тоже уже знают... Оксанка слышала, как полицай Гришка Распутин хвастал, будто где-то утром нашли парашют. Только не здесь... Где-то дальше, аж возле Подлесного, туда, к Зеленой Браме. Теперь, говорят, облава большая собирается.
– А людей? Не слыхал, никого не задержали?
– Нет, об этом не было слухов.
"Эге, вот оно, выходит, как, – думал я. – Пятно, пятно, да не такое уж и белое!.. Есть и тут к чему руки приложить. Вот только бы ниточку какую-нибудь..."
Достаю из планшета карту и, развернув ее на столе, ориентируюсь, время от времени обращаясь с вопросами.
– Выходит, сейчас я вот здесь... Ага!.. Совсем неподалеку Новые Байраки...
– Да до Новых Байраков рукой подать... Но только ты обходи их за версту! Жандарм там – что лютый тигр.
И староста Макогон – собака из собак! – добавляет старуха.
– Дальше, чуточку в сторону, и опять-таки недалеко,
Терногородка, потом Скальное...
– Тоже местечко, прости господи! Есть, говорят, там такой Дуська! Начальник полиции. Детей им стращают.
Сотни людей собственной рукой перестрелял.
А Подлесное и Зеленая Брама, оказывается, аж вон где! Далеко же кого-то из моих занесло, если это и в самом деле наш парашют найден. Видать, безвыходное положение было, если даже и припрятать не успел...
Сразу же, как только будет возможно, разведать все в той местности. Быть может, и не один, быть может, и еще кто туда попал... Думаю я обо всем этом, но в то же время и бабусиных слов мимо ушей не пропускаю. Запоминаю на всякий случай и названия сел, и фамилии, и ее характеристики. И жандарма Бухмана, и того Дуську (какое-то странное для мужчины имя! Или, может, прозвище?), и того старосту, собаку из собак, Макогона. На веку, говорят, как на долгой ниве... гора с горой, говорят... Однако у меня уже голова, кажется, кругом пошла. Да и неудивительно. Вторые сутки не сплю, не ем, да и обстановочка, сказал бы, не очень уютная... "Молния", значит. Неплохо сказано: "Молния"... Старуха о чем-то перешептывается с Микитой возле печки. О чем это они?.. Заставляю себя сосредоточиться, но это не совсем мне удается... Так и клонит в сон...
– ...Послушай, сынок! – трясет меня за плечо женщина. – Малость передохнул, и хватит! Если уж просишь, чтобы помогли, то слушай нас. Уходить тебе пора. Потому как место у меня такое, сам видишь... Долго не насидишься... Собирайся, Микнта, и айда!.. Прямо через обрыв к Соленой балке, а там левадами вдоль посадки...
Возле "Незаможника" будьте внимательнее. Пройдете.
? там уже и до Панька рукой подать... Есть тут такой Панько, свой человек...
И вот я снова в степи, снова лунная ночь. Только путешествую уже не один, а с этим еще вчера совершенно неизвестным мне одноглазым парнем. Двигаюсь уже не наобум, а словно бы зная, куда и как. Идем большей частью молча, придерживаясь балок, левад и лесополос.
Только иногда переговариваемся шепотом.
– ...Это твоя мать? – спрашиваю парня.
– Нет! – сразу отвечает мне Микнта. – Бабушка...
Я сирота... Отца бандиты убили в двадцатом. Грызло тут такой был, атаман. А мать в тридцать третьем от голода...
Долго обдумываю, а потом все-таки решаюсь.
– Ас глазом у тебя что? – спрашиваю.
– С глазом? Да... ничего! Теперь без глаза еще лучше... В Германию не возьмут. – И, так и не ответив на мой вопрос, торопливо спрашивает сам: Скажи, а наши близко?
– На Донбассе, – отвечаю. – Миус, Кальмиус, слыхал?
– Не приходилось... А как ты думаешь, наши тут скоро будут? Наши говорят, что осенью могут быть...
– А кто это "наши"?
– Ну, так... хлопцы, девчата. Есть такие, наше радио, Москву ловят.
– А из этой самой "Молнии" ты хоть кого-нибудь знаешь? Только говори правду.
Мы идем вдоль какой-то молодой посадки по заросшей пыреем меже. Под ногами шуршит трава, еле слышно потрескивает сухой бурьян. Микита долго-долго молчит, тянет почему-то с ответом, обдумывает. Потом бросает скупо:
– Да... так, разве догадываюсь малость. Расспрашивать же о таком не будешь. – И снова переходит в наступление: – Скажи, а это правда, что наши теперь все в погонах, как когда-то?.. А автомат у тебя тоже новый?
Да?.. Я такого еще и не видел... А "катюши"? Видел ты их хоть раз? Ох и боятся же их немцы! Только услышат– "катюша", так сразу и драпают... А там, справа, видишь, темнеет?.. Солонецкпе хутора были. В мае немцы сожгли дотла. Бой был. Чуть ли не всю ночь стреляли.
Облава. Из наших так никого и не поймали и убитых не нашли. А немцев убитых аж четверо... "Молния" даже мотылька такого, листовку, значит, пустила...
– А та девушка, Оксанка, которая ефрейтора дрянью называла, чья она?
– Оксанка? Соседки нашей, бабушки Ганны, внучка.
Она не здешняя, из Киева. Ее отец майор. Может, теперь уже и генерал. Приехала в гости к бабусе, а тут война, немцы. Вот и застряла...
– Боевая, видать, девчонка. Сколько ей?
– Да, пожалуй, около пятнадцати будет. А так, чего же, боевая! Они с бабкой Ганной обе боевые. В сорок первом от немцев нашего раненого командира спасли и выходили. Да и так...
Что "так", Микита уже не закончил, умолк надолго.
Уже, вероятно, перевалило за полночь. Низом широкой балки мы вышли к старой разреженной лесополосе.
Взобрались на высокий бугор, и там Микита велел остановиться.
– Ты тут присядь, подожди, а я сейчас, – шепотом сказал он и сразу же легкой тенью перемахнул через межу, исчез бесшумно в темных кустах.
Садиться я побоялся. Земля под ногами была мягкая, будто нарочно распушенная цапкой, и теплая. Присяду – и сразу же засну... Встал за кустом бересклета, оперся плечом на ствол старого, скрученного степными ветрами абрикоса. Напротив, за межой, вниз по косогору сбегали, теряясь в серой мгле, какие-то кусты. В самом низу, в широкой балке, сверкал в лунном свете плес.
Еще дальше, за плотиной, виднелось высокое белое здание, вероятно, мельница. За ним вверх и направо четко распланированные ряды яблоневого сада и черными пиками на звездном фоне неба с десяток тополей. А тут, на этой стороне, куда сбегают темные кусты, в которых исчез, затерялся Микита, в сумерках деревьев – дом под железной крышей и силуэт высокого колодезного журавля.
Микита появился неожиданно, как и исчез, вынырнул передо мной, будто из-под земли.
– Пошли, – сказал шепотом.
Кусты за межой оказались крыжовником и смородиной, посаженными несколькими рядами вдоль огорода.
Между ними картофель. Ноги увязают в мягком черноземе, запутываются в картофельной ботве. Но через минуту шагаем уже по узенькой, хорошо утоптанной тропинке. Сад – яблони, груши, вишенник. Сколоченная из жердей ограда, невысокий перелаз, большое подворье.
Хата с крыльцом, на две половины, хлев, амбар, колодец с выдолбленным корытом возле.
Посредине двора бричка. Пара серых коней, головами к передку, жуют, аппетитно похрустывая. А возле калитки невысокая коренастая фигура в белой неподпоясанной рубашке, в темных штанах, заправленных в сапоги. На голове широкий брыль. Лицо затенено. Виднеется из-под брыля лишь клинышек короткой бородки.
Встретив нас, мужчина молча поворачивается и направляется через двор к крыльцу. Мы следуем за ним.
Две деревянные ступеньки, темные сени, дверь налево.
Освещенная лишь призрачным светом луны огромная комната. Шкаф, еще какая-то мебель, высокий, под самый потолок, с большими листьями фикус.
– Хотите перекусить? – приглушенно, будничным голосом спрашивает мужчина.
– Благодарю... сейчас не хочется, – отвечаю тоже приглушенно.
Он не настаивает.
– Дядя Панько, – шепотом говорит Микита, – так я, пожалуй, побегу.
– Давай, – спокойно, даже равнодушно соглашается дядька Панько.
– Спокойной ночи, – шепчет Микита.
– Спокойной ночи, – говорю я, ловя в темноте его руку. Нашел, пожал. До свиданья. Спасибо, Микита.
Передай бабусе мое огромное спасибо.
Не ответив, Микита исчезает. Так тихо, что за ним даже и дверь не скрипнула.
Дядька Панько тянет меня куда-то направо.
– Прошу теперь сюда...
Отгороженный простыней темный закуток с однимединственным, прикрытым занавеской окошком.
В углу топчан, на нем постель.
– Можете раздеться и спокойно отдыхать, – гудит где-то за стеной дядька Панько. Через минуту, помолчав, добавляет: – Я буду спать здесь, рядом, за стеной на диване. Без меня ни ночью, ни утром на дворе не показывайтесь. На той половине ночуют новобайрацкий комендант и начальник полиции. Побоялись на ночь глядя домой возвращаться.
"Да, да, – с каким-то удивительным равнодушием, сквозь непреоборимую сонливость, ломоту во всем теле и шум в голове лениво думаю я. – Соседство снова – ничего не скажешь. Действительно, можно спать спокойно. Нащупываю узенький деревянный топчанчик, присаживаюсь на краешек, а потом, наткнувшись на высокую подушку, падаю навзничь. Складываю руки на автомате. – Нужно обдумать, сориентироваться, что к чему...
В это крохотное окошко не пролезешь никак. Не лучше ли присесть возле стенки у входа и подождать до утра?
Ну да, так и сделаю", – думаю и... сразу же проваливаюсь, будто под воду, в глубокий, неодолимо глубокий, без сновидений сон...
Дядька Панько, невысокий, приземистый, с рыжей бородкой и ясными синими глазами мужчина лет под пятьдесят, будит меня около девяти часов утра.
За окном весь мир залит ослепительными, сверкающими лучами солнца. За окошком в кустах бузины яростно спорят о чем-то воробьи. Комендант и полицай уже давно уехали по своим делам. Дядька Панько побывал на мельнице, – он, оказывается, мельник, – извлек из вентеря на пруду большую щуку и ждет меня к завтраку.
На столе шипит только что поджаренная яичница с салом, лежит непочатый душистый каравай и стоит кувшин с простоквашей.
О парашютистах дядька Панько еще ничего не слыхал. Ни от своих людей, ни от кого-либо другого. О том парашюте в Подлесном, правда, между комендантом и полицаем шла речь за ужином. Но чего-то большего и они пока не знают. Если же что-нибудь будет, кто-нибудь объявится, его люди обязательно сюда сообщат. Ведь это же не иголка в сене. От немцев, возможно, и спрячешь, а от своих ни за что! Ему же покамест приказано укрыть меня здесь. Место, дескать, совершенно безопасное. Пересижу до вечера, а там уже кто-то, кому положено, явится за мной и поведет куда следует. В Новые Байраки или еще куда... Этого он уже не знает... Да и вообще больше ни о чем не расспрашивает и не рассказывает... Будто и не догадывается... кто я... Странный человек. На самом деле не интересуется мною и тем, что в мире происходит, или же прикидывается?.. Или, быть может, знает больше меня?!
Так или иначе, в моей судьбе его роль ограничивается тем, что продержит день и передаст кому-то другому.
Очень, очень хорошо! Большущее спасибо ему и за это!
Но... впереди еще один трудный, невыносимо трудный день бездеятельности и неизвестности. И можно только представить себе, что думают сейчас о нас там, за линией фронта, как приникают к приемникам, напрасно вылавливая в эфире наш голос. А я, командир группы, даже и приблизительно не представляю, где теперь мои люди, что с ними происходит. Быть может, кого-нибудь уже и в живых нет!.. Невыносимая, усугубленная тоской и нетерпением неизвестность, от которой хоть головой о стену бейся...
Поскорее бы уж встретиться с кем-то таким, с кем можно было бы повести серьезный разговор о розысках десантников и о том, ради чего я сюда прибыл. А что такие люди тут есть, у меня уже не было никаких сомнений.
На всякий случай дядька Панько все-таки велел мне забраться в амбар и спрятаться ка чердаке. Там, под соломенной крышей, было довольно просторно. Света, пробивавшегося в небольшое отверстие между стропилами, тоже хватало, особенно когда глаза уже привыкли к сумраку. В углу, вероятно именно для такого случая, была постелена солома и брошены сверху рядно и подушка. Рядом корзинка с яблоками и грушами и кувшин с водой. Создавалось впечатление, что до меня здесь уже бывали и, вероятно, не раз.
Короче говоря, устроился я довольно комфортабельно. Не было, к тому же, ни малейших сомнений или предчувствий и в отношении дядьки Панька. Но день, который снова тянулся для меня на этом чердаке целую вечность, оказался еще более трудным, чем вчерашний. Вот только осточертевшего запаха конопли не было...
В отверстии, у которого я простаивал часами из осторожности, тоски и просто из любопытства до невыносимой ломоты в пояснице, открывались передо мной часть пруда, плотина, мельница, противоположный бугор и часть дороги, теряющейся где-то за редкой лесополосой, за подсушенными солнцем кленами, ясенями и вязами.
Хозяин меня не беспокоил, надолго исчезая со двора.
Казалось, жил он здесь одиноко. Потому-то лишь благодаря отверстию в крыше имел я в тот день возможность "развлекатьcя".
Примерно около двенадцати часов из-за пригорка на той стороне плотины послышались далекий топот и перестук колес. А через минуту на дороге показалась и подвода, спускавшаяся вниз к плотине. На подводе сидели, свесив ноги, несколько человек. Все с винтовками. Сердне мое, признаюсь, еккуло: конечно, полицаи, кто же еще! Невольно оглянулся в сумрак чердака. Что же делать? Оставаться здесь пли выйти во двор? Со стороны мельницы, вероятно, совершенно не видно того, что происходит во дворе. И, пока они пересекут плотину, можно еще успеть спуститься вниз, а потом через сад и кусты смородины перебраться в лесополосу. У меня оставалось еще несколько минут ка размышления. Поэтому преждевременно решил не паниковать. А тем временем из-за лесополосы на дорогу выкатила вторая подвода.
За нею третья. И когда первая была уже возле мельницы – четвертая. На двух средних, груженных большими рыжими мешками, полицаев не было. Только по одному ездовому. На задней, тоже груженной мешками, рядом с ездовым сидел еще и полицай с винтовкой. Мешки действовали успокаивающе, и с побегом я не торопился...
Вот если они проявят какие-нибудь подозрительные намерения, направятся на плотину...
Подводы остановились на утоптанной площадке возле мельницы. Полицаи соскочили с телег и сразу же разлеглись под стеной в холодке на травке. Один подошел к пруду, оперся на заставки и начал энергично бомбардировать воду камешками. Ездовые, ослабив на конях сбрую и привязав к оглоблям торбы с овсом, начали вносить мешки на мельницу. Работали неторопливо, отдыхая и перекуривая. А закончив дело, тоже прилегли в холодке под каменной стеной. Потом напоили коней, сами перекусили, развязав узелки, и, наконец оставив в карауле одного из полицаев, отправились в обратном направлении. Тянулось все это примерно часа два. И все это время я неотрывно следил за ними из своего укрытия, Но вот наконец подводы скрылись за лесополосой и я, несмотря на одного оставленного полицая, который, кстати, вошел в мельницу, решил немного отдохнуть, прилег на солому, закрыл глаза. Лежал, размышляя, стараясь осмыслить свою странно-неожиданную тревогу и...
не заметил, как задремал...
Разбудил меня какой-то внезапный грохот. Я вскочил на ноги и бросился к стрехе. Со сна и от неожиданности сердце у меня неистово стучало, глаза слепило солнце.
Лишь через какой-то миг, освоившись, увидел: в широко открытые ворота, у которых стоял в своем брыле дядька Панько, въезжала во двор, приглушенно шумя мотором, легковая немецкая машина. Проснулся я, вероятно, тогда, когда она газанула, взбираясь с плотины на каменистый косогор, уже возле самого дома.
Остановилась машина посреди двора, на том самом месте, где вчера ночью стояла бричка. Из нее вышло двое немцев. Один – толстый, с большим животом. Таким, что полы коричневого широкого френча не сходились. Другой – худощавый, длинношеий, в обычной немецкой форме пехотинца У обоих на поясах большие черные кобуры. У толстого на голове пилотка, у армейца большая, с высокой тульей фуражка. Толстый потянул за собой с сиденья автомат. А с переднего места, из-за руля, тем временем выпрыгнул еще и третий – БОдитель. Хотя, наверное, по профессии и не шофер, потому что одет был слишком уж нарядно: хорошо подогнанный серо-голубой мундир, новенькая фуражка и на плечах новенькие небольшие серебристые погоны.
Немцы разгуливали по двору, разминая ноги. Толстый что-то кричал дядьке Паньку, который закрывал ворота, или же полицаю, который торопился к воротам снизу, со стороны плотины. Я невольно подумал: "Теперь бежать уже некуда... Теперь придется повоевать". В том, что уложу всех троих при первом же их подозрительном действии, я был абсолютно уверен. Вот только что будет потом... это уж другое дело...
Однако гитлеровцы (какие-то, вероятно, чины из района или области) вели себя мирно. Размявшись, все, кроме полицая, вошли в дом. В комнате они долго, очень долго, если учесть мое положение, обедали. Полицай все это время торчал с винтовкой у ворот.
Снова на подворье немцы вышли с шумом, возбужденные, с расстегнутыми френчами, из-под которых белели нижние рубашки, с раскрасневшимися (даже издали видно), лоснящимися мордами. Весело перекликаясь, они некоторое время расхаживали по подворью и саду.
Рвали с деревьев сливы, груши, трясли яблони. Лениво лакомились созревшими плодами, иной раз лишь надкусив яблоко или грушу, с хохотом швыряли ими друг в друга.
Чуточку позже они вышли на берег пруда, принялись раздеваться. Толстый, в коричневом мундире, разоблачился совсем, догола, шагнул в воду, блаженно, по-женски писклявым голосом заохал и захлопал себя широкими ладонями по отвисшему тяжелому животу. Двое других остались в трусах. Подкравшись, они внезапно обрызгали толстяка водой. Тот взвизгнул, подпрыгнул и с хохотом и криками помчался вдоль берега. Опьяневшие, они долго и весело гонялись друг за другом, хохотали так, что зхо звонко раскатывалось над прудом. Полицай, все стоявший с винтовкой у ворот, хохотал угодливо, по-холуйски, хотя они его и не видели.
А у меня чесались руки. Меня оскорбляла вся эта суета, то, как они весело развлекались и безнаказанно резвились на нашей земле, возле нашего пруда. Особенно возмущал толстяк. И я еле сдерживал острое, почти непреоборимое желание полоснуть по ним очередью из автомата.
Набегавшись и накричавшись, они искупались и, наконец, утихомирились. А через час, приказав бросить в машину два мешка муки, уехали.
Уже совсем под вечер из мельницы во двор вышли полицаи (их там оказалось трое), поужинали, покурили и, как только зашло солнце, возвратились на мельницу, вероятно, на свои посты.
Наконец все вокруг – пруд, голые бугры, сад и дорога на той стороне-окуталось синими, густыми вечерними сумерками. И дядька Панько разрешил мне выйти из моего укрытия.
Затемно, перед самым восходом луны, дядька Панько молча повел меня по тропинке мимо хаты вниз, к плотине. Тихо было вокруг. Мельница над нами, вверху, призрачно белела, словно бы совершенно безлюдная. Лишь в лотках пенилась, клокотала вода, срываясь с колес, несколькими упругими струями падала на огромные плоские камни, разбросанные вдоль речушки.
Речушка эта бурно вытекала прямо из-под мельницы и затихала, входя в низкие ровные берега в двадцати – тридцати шагах от плотины. Пробираясь в густых зарослях аира и чернотала, прикрытая сверху высокими вербами, текла дальше, в темноте неслышимая и невидимая, давая знать о себе лишь влажностью и прохладой ночного прибрежного воздуха.
Мы шли по узенькой, хорошо утоптанной тропинке.
Через некоторое время остановились под раскидистой, с молодыми ветвями и старым стволом вербой.
– Теперь идите прямо за этим вот парнем и не суылевайтесь, – сказал дядька Панько.
Я присмотрелся внимательнее. Парень в чем-то темном, из-под чего светилась бе тая рубашка с расстегнутым воротником, без головного убора, коротко остриженный, стоял, прислонившись спиной к вербе. Оказался он мальчишкой лет четырнадцати. Услышав слова дядьки Панька, он сразу молча повернулся ко мне спиной и направился в сумрак скрытой кустами тропинки.
Я не удержался, спросил:
– А куда идти?
– Не сумлевайтесь, – ответил мне уже где-то за спиной дядька Панько. Придете куда следует...
И исчез, неслышно растворился в ночи.
Шли мы, наверное, около трех часов, а то и больше, все время молча. Чем дальше, тем светлее и светлее становилось вокруг. Где-то у нас за спиной взошла и неторопливо поднималась вверх по крутому косогору звездного неба огромная, преступно беспечная и ясная луна.
Мальчишка шагал по-взрослому широко, не оглядываясь. Коротко предупреждал: "Ров. Камень. Пенек..." Лишь в одном месте произнес несколько слов:
– Здесь у нас родник. Вода очень вкусная. Напейтесь, если хотите.
Воспользовавшись этим приглашением, я растянулся, на холодной траве и приник губами к источнику. Вода и в самом деле была удивительно вкусной, словно бы сладкой, и такой холодной, что зубы заломило.
После меня напился и мой провожатый. Тронулись дальше. Из балки в балку, с пригорка в ложбину. Берега пошли преимущественно голые. Лишь кое-где темнели лоскуты притоптанной скотиной осоки и торчали низкие ободранные кустики. Под ногами сухой бурьян, стернище. Порой на тропинку склоняло тяжелые метелки просо.
Повстречались две скалы. Выступали, выразительно темнея, еще издалека видные, выпирали над самой речкой округлыми крутыми гранитными лбами. Перед тем как обойти такую скалу, мальчик останавливался, выжидал и прислушивался.
Пересекли небольшой луг с несколькими копнами сена. За ним тропинка снова нырнула в левады, в заросли верб, лозы, лопухов, чернобыла и конского щавеля.
Острознакомо, тревожно ударило в ноздри запахом конопли.
Мальчик остановился. Оглянулся.
– Тут будем переходить улицу. Присядьте, а потом поодиночке.
– А где мы? -спросил я, приседая.
– В Новых Байраках.
Он пригнулся, сделал шаг, шмыгнул куда-то за кусты и исчез.
Через минуту после этого издалека донесся тихий свист. Приняв его как сигнал, тронулся и я. Перешагнул через неглубокий ров и вышел на дорогу. Справа, на открытом месте, речушка разлилась широким плесом. Над этим плесом деревянный мосток, далее колодец с высоким журавлем, вербы. Из-за старой вербы подошла к нам высокая женщина.
– Ты? – спрашивает мальчика, не называя имени.
– Я, – тихо отвечает мальчик.
– Все в порядке?
– Ага.
– Хорошо. Возвращайся домой. А вас прошу за мной.
Идем теперь куда-то вверх. Кусты остались позади, начался огород. Картофельная грядка, по ней то тут, то там высокие подсолнухи, несколько старых деревьев, вероятно груш. Впереди в лунном свете выступает какое-то огромное приземистое здание... Рига? Да, рига. С низенькими, утопающими в лопухах стенками и высоченной, но провалившейся крышей. Навстречу нам выходит мужчина. Рослый, плотный.
– Иди, Парася, поспи, – слышу шепот. – Ничего уже больше не нужно.
Женщина, не задерживаясь, идет дальше. Мужчина молча и сильно стискивает мой локоть... И ведет. Мимо риги, по картофельным грядкам, по густой высокой ботве кабачков. Переступаем через белую жердь и входим на подворье. Большая, с крытым крыльцом хата. Темные сени. Узенькая дверца в кухню завешена еще и плотным одеялом. Она закрывается за нами, и я оказываюсь в сплошной, непроглядной темноте.
– Одну минутку, – доносится откуда-то сбоку густой спокойный бас. Сейчас я ее, проклятую, разыщу...
Легкий шорох. Стук. Потом вспыхивает зажигалка.
Мужчина засвечивает керосиновую лампу и пристраивает ее в закутке. Из темноты выступают просторная кухня, печь, стол. На столе что-то горбится, прикрытое полотняным рушником. Окно наглухо закрыто чем-то темным.
Возле печи, повернувшись ко мне лицом, мужчина.
Ему лет под сорок. Высокий, статный, хотя уже и чуточку грузноватый. Бритое, полное, спокойное лицо с крупными четкими чертами, негустые, опущенные усы, умные, внимательно-спокойные глаза. Хотя взгляд их тоже какой-то тяжеловатый, твердый. На голове темная суконная фуражка военного образца; темный, с накладными карманами китель, синие широкие галифе и хорошо начищенные новые сапоги.
Стоит, рассматривает меня и, наконец, произносит низким, густым басом:
– Ну, а теперь... здравия желаю, капитан... капитан Сапожников, если не ошибаюсь? – Он широко улыбается и, не дожидаясь ответа, продолжает: Чудесная, скажу я вам, фамилия для конспирации. При случае и необходимости можно назвать, например, и по-нашему – Чеботаренко. Все остается так, как и было. А вместе с тем звучит как совершенно новая фамилия... – Не переставая улыбаться, подходит ближе ко мне. – Но прежде всего познакомимся... Я староста села Новые Байраки Макогон...
Последнее слово для меня как неожиданный удар.
Око внезапной и неудержимой дрожью пронизывает все мое существо. Вероятно, и на лице ч го-то такое отражается– улыбка на его г"бах ггснет...
Он неторопливо протягивает мне руку, а я подсознательно тянусь к своему карману. "Неужто совпадение?
Неужели тот самый?.. Тот самый, "собака из собак"?
Макогон?.." Фамилия такая нечастая, что сразу, как только произнесла ее Микитина бабушка, засела в моей памяти...
– О-о-о! Да вы уже, вижу, успели кое-что прослышать, – сразу же меняет тон мужчина, и лицо его становится замкнутым. – Только прошу вас, не нужно... – добавляет он поспешно и не без иронии. – Я говорю, не нужно выстрелов. В конце концов черт не так уж страшен, как его малюют.
Макогон грузно опускается на стул, так и не дождавшись моего рукопожатия.
– Хорошо... Садитесь вот сюда, – указывает рукой на топчанчик. – Нам, вероятно, и в самом деле следует сначала объясниться.
Он хмурит густые брови, морщит высокий лоб, собираясь с мыслями. А я так и стою на месте, не зная, как себя вести дальше. Не понимая, как же это так случилось, что привели меня прямо в руки тому самому "собаке из собак", от которого предостерегали.
– Дело такое... – наконец неторопливо, тяжело начинает он. – О себе ничего не буду говорить. Не уполномочен, понимаешь, – переходит он на "ты". – А вот о тебе... Дело в том, что там очень обеспокоены вашим молчанием. Не знают, где вы и что с вами. Прошлой ночью снова сбросили человека на Каменский лес к пархоменковцам... К розыскам подключили и меня. Имею приказ разыскивать и, если что, связать с"обкомом или хотя бы известить его. Обо мне же отныне и в дальнейшем будешь знать только ты. Раскрываюсь, понимаешь, лишь перед тобой в связи с вашими непредвиденными обстоятельствами. Ни один человек из твоих ничего обо мне не должен знать.
– Т-так, – крайне обескураженный, бормочу я, неуклюже усаживаясь на топчан. С острой тревогой, страстной надеждой и страхом оттого, что сразу же могу утратить эту надежду, спрашиваю: -А вы?.. Есть у вас какие-либо сведения?.. Хотя бы о ком-нибудь из моих людей...
Спрашиваю, а у самого все еще не выходит из головы– Микнта, бабуся, ее слова о "собаке из собак"...
– Нет... покамест... Да и вообще, вероятно, этим будете заниматься, по крайней мере в ближайшее время, без меня. Но... сначала я все-таки должен удостовериться... Ты же, наверное, сможешь дать мне какие-то доказательства того, что ты настоящий капитан Сапожников? А чтобы поверил мне, скажу, что родился ты на Курщине, посылал вас сюда триста двадцать шестой, в твоей группе, кроме тебя, шестеро.
И он одну за другой называет фамилии моих товарищей, а я...
– Собственно... – медленно тяну я, учитывая все, что произошло со мной за эти двое суток.
Твердо взвесив все "за" и все "против", прихожу к выводу, что не поверить этому так обстоятельно информированному человеку все равно что не поверить уже теперь, задним числом, Мпкитиной бабушке... И вот староста села Новые Байракн внимательно рассматривает подол моей солдатской рубашки.
Осмотрев мою "справку", Макогон помолчал, потом сказал:
– Ну что ж, капитан Чеботаренко, думаю, что этот документ тебе тут больше не понадобится. Снимай во избежание лишних хлопот рубашку, а я найду тебе какую-нибудь другую... А эту, думаю, лучше всего просто уничтожить. Хотя... можно, конечно, и припрятать гденибудь в надежном месте, чтобы потом внукам показывать. Лучше всего – вырезать этот лоскут, в бутылку да в землю. Хороший, проверенный способ. Сто лет будет храниться... Великий будет подарок внукам, если... конечно... доживем. Макогон теперь улыбнулся скупо и как-то грустновато. И, немного помолчав, начал уже о другом. – О твоих покамест нигде никаких слухов. Кроме того, подлссненского, парашютиста. Однако где-то они есть. Живые или мертвые, но на свободе. В руки гитлеровцам, по крайней мере в ближайших районах, не попал ни одни. Гитлеровцы, найдя парашют, организовали облаву чуть ли не по всей области. Несколько дней каждый уголок будут прочесывать. Ну а мы свое: всем группам и организациям "Молнии" велено быть на страже днем и ночью, разыскивать, укрывать, спасать. Особенно в направлении Каменского леса. Не исключено, что твои, сориентировавшись, будут пробираться все же к месту сбора...
Макогон закурил, расстегнул ворот кителя и, сдерживаясь, чтобы не зевнуть, закончил:
– Ну что ж... утро вечера мудренее, как говорят умные люди. Давай поужинаем чем бог и моя Парасочка послали – и на боковую. Живому человеку положено хоть малость поспать не только в мирное время.
Ночевал я в той самой риге, мимо которой недавно проходил. В уголке, на свежей соломе, настеленной за ворохом ржаных снопов. Спалось мне, откровенно говоря, плохо. Не выходили из головы товарищи: где они сейчас, что с ними? Не совсем к тому же укладывалось в голове и все то, что творилось сейчас со мною. Как же это так?.. Неужели же эта старушка или, по крайней мере, внук ее Микита так и не знают, к кому меня спровадили?.. Ибо, если бы знали... Тогда к чему бы было говорить о "собаке из собак"? Одним словом, было о чем подумать в этой риге. Да и времени хватало. Вся ночь, да еще и предстоящий день!..
Только уже под вечер, возвратившись со службы домой, Макогон, отпустив ездового, поставил коней головами к бричке, прямо посредине двора, подбросил им в передок свежей викосмеси и тогда уже позвал меня в дом, чтобы вместе пообедать.
Детей у моего случайного хозяина не было. Жили они вдвоем с женой, и чувствовали мы себя в доме почти в полной безопасности. Хотя, на всякий случай, дверь в сенях закрыли на задвижку и автомат я, как всегда, держал под рукой.