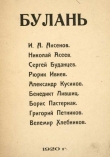Текст книги "Любовь к электричеству: Повесть о Леониде Красине"
Автор книги: Василий Аксенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Один из студентов, возмутившись таким тоном и особенно ввиду начавшейся собираться толпы, резко заявил свой протест.
…Дама обиделась, толкнула протестанта в грудь и, поскользнувшись, упала и… оказалась мужчиной в подобающем этому полу костюме под платьем и ротондой.
«Патриота-переодевателя» тут же наградили тумаками, но никто не решился составить соответствующий протокол, чтобы хоть выяснить: агент это, провокатор, сумасшедший или своеобразный патриот?
«Биржевые ведомости».
* * *
Виктор Горизонтов был довольно уже известен на Бронных улицах под именем Англичанин Вася. Изображал он здесь из себя несусветного чудака, путешественника, этнографа, англомана и поклонника восточных религий. Физическая сила, бокс и джиу-джитсу, а также общительный нрав и фантастические рассказы принесли Горизонтову среди обитателей улиц значительную популярность. Нравы здесь были вольные, откровенные филеры не решались и носа просунуть в «Чебыши» или в «Ад», а дворники и городовые были настолько терроризированы беспутными студентами, что им и в голову не приходило проверить, настоящее имя носит Василий Агеев, он же Англичанин Вася, или поддельное, настоящий у него «пачпорт» или липа. Здесь можно было подозревать буквально каждого, так что для спокойствия лучше было никого не подозревать и втирать очки начальству.
Однако Горизонтов был осторожен. После убийства великого князя на Бронных улицах вполне могли появиться новые шпики. Нельзя недооценивать охранку. Не все же там такие дубы, как старый пес Ферапонтыч Луев. Наверняка они сейчас идут на всяческие ухищрения и засылают провокаторов, может быть, даже замаскированных искусно под революционеров или богему.
Вот, например, навстречу движется чучело гороховое в продранном цилиндре, клетчатом пледе на плечах, в пенсне – вид прямо монмартрский, а вдруг шпик? Э, да это знакомый, один из новых духовных вождей Мити Петунина, теоретик анархизма Эмиль Добриан.
– Вечер добрый, мсье Добриан, – приветствовал его Виктор.
– Здравствуй, красивый человек-зверь, – вялым голосом ответствовал погруженный в себя мэтр и прошествовал мимо. Шел, разумеется, в буржуазный дом – пугать гостей и ужинать.
Через несколько шагов Горизонтов повстречал добрую фею Большой Бронной тетку Авдотью, хозяйку переполненной совершенно уже нищими парнями квартиры.
– Бонжур, Евдокия Васильевна, – поклонился Горизонтов.
– Бонжур и вам, Василий Батькович, – пропела Авдотья, угостила молодца теплым еще калачом и осмотрела его всего с сожалением. – И здоровый-то, и румяный, в деревню бы тебе, Васюша, к молоку, в хорошее хозяйство, а ты все здесь маешься. Аль леварюцию ждешь?
Простившись с теткой Авдотьей, Горизонтов сделал еще несколько шагов и перемахнул через гнутую-перегнутую чугунную решетку во двор своего дома. Можно было, поднатужившись, пройти еще шагов двадцать до так называемого «парадного» входа, но не было бы тогда сладости пролета над чугунными пиками, и потому Англичанин Вася предпочитал этот путь.
Сразу за решеткой цепкий глаз Горизонтова заметил следы, уходящие в глубь двора, к заброшенному кирпичному амбару. Виктор нагнулся и посветил. Так и есть – следы были желтыми. Мелинит!
«Ох, эсеры-сволочи! Ну что делают!» – покачал головой Горизонтов и двинулся по следам, затаптывая их, забрасывая свежим снегом.
В амбарчик можно было попасть через полуподвальную дверь. Виктор бухнул в нее сапогом. Внутри что-то упало.
– Кто? – спросил тихий голос.
– Свои! – крикнул Виктор и сразу услышал характерный звук взводимых револьверных затворов.
– Не дурите, не дурите! – сказал он. – Не знаю я ваших паролей, а дело срочное.
– Англичанин Вася, – сказали в амбаре, и дверь приотворилась.
Бледные лица освещала слабая керосиновая лампа. На длинном дощатом столе валялись мотки бикфордова шнура, стояли банки с глицерином и кислотой. Готовая продукция скромной горкой была уложена в углу, на рогожке.
– Эх, эсеры-эсеры, – укоризненно проговорил Горизонтов, – черти вы полосатые…
– В чем дело? – выступил вперед мосластый, кадыкастый, носастый Юрий Юшков по прозвищу Личарда. – Мы вам, кажется, не мешаем? Идите своей дорогой.
– Посмотрите себе под ноги, господин Юшков, – сказал Горизонтов и показал на пол, покрытый рассыпанным и растоптанным мелинитом. – Чем желтый след по снегу протаптывать, лучше уж вывеску на улице повесить. «Бомбовая мастерская Личарда и К. Принимаются заказы. Цены снижены».
– Фу, черт! Англичанин прав! – заволновались эсеры.
Горизонтов покинул помещение и, очень довольный собой, воображая со стороны, с эсеровской стороны, свое эффектное и полезное появление, снова пересек двор и по шаткой деревянной лестнице поднялся в скрипучую дырявую комнатушку, которую он делил со своим «пленником» Митей Петуниным.
В комнате, еле-еле освещенной огарком свечи, сидели на кроватях, на подоконнике и единственном стуле несколько молодых людей, по виду рабочих. Митя Петунин что-то горячо втолковывал одному из них.
– Митька! – гаркнул с порога Горизонтов. Петунин вскочил и вытянулся по швам. Горизонтов вывел его на лестницу.
– Опозорил меня сегодня у Бергов, драгунская шкура, – усмехаясь, сказал он. Какую-то необъяснимую слабость питал он к этому странному поповичу с его вывихнутыми мозгами. – Ты где это анархистских идеек поднабрался?
Митя лихорадочно запыхтел папиросой.
– Раза два или три ходил в «Ад», Виктор Николаевич, в общество «Солнце и мы». Увлекся.
– В общем, эту муть из головы выброси, – приказал Горизонтов. – У нас своя теория есть, и притом научная.
– Литературки не хватает, – сказал Митя. – Забросили вы меня, Виктор Николаевич, и вот результат – теоретически отстал я.
– Ладно, Митяй, литературы я тебе добавлю. Пошли. Вздувай-ка лампу! Начнем.
…Горизонтов положил на стол тяжелый предмет, завернутый в тряпку, оглядел присутствующих и тихим, серьезным голосом заговорил:
– Товарищи! Революционные события нарастают по всей стране. Социал-демократия в самое ближайшее время должна выработать свою тактику. Сейчас большинство комитетов стоит за точку зрения товарища Ленина о созыве Третьего съезда. Скоро ЦК будет решать этот вопрос. Пока что нам переданы указания об организации сил самообороны на предприятиях и в учебных заведениях. Возможны стычки с полицией и черной сотней. Это указание идет от Никитича. Так что сегодня мы с вами будем не книжки читать, а заниматься кое-чем посущественней.
Он улыбнулся широко и с веселым коварством, развернул тряпицу, и все увидели черный револьвер с длинной гнутой рукояткой.
– Кто знаком с этой штукой? – спросил Горизонтов. – Кроме Петунина, конечно. – Он погрозил кулаком в угол, где съежился Митя. Никто не ответил. Рабочие, как завороженные, смотрели на оружие.
– Револьвер системы «Смит и Вессон», – сказал Горизонтов.
– Это, конечно, не «кольт», который у меня был в Ванкувере, но все же…
Глухая февральская ночь 1905 года. Тревога, бессонница…
– Почему ты не спишь, Леонид?
– Теперь уже бесполезно спать. Я выезжаю поездом в 6.15. Завтра утром заседание ЦК…
– Знаешь, мне что-то тревожно. Сегодня на улице полковник Владимирский так посмотрел на меня! Он подозревает…
– Бог с ним, с Владимирским, и всеми местными жандармами. Мне кажется, Люба, что мы не заживемся в Орехове.
– Тебе кажется, или?..
– Я почти уверен. Ты должна быть готовой ко всему. Что-то близится очень серьезное…
– У меня тоже такое чувство. Должно быть, скоро грянет революция…
– Да-да-да, в этом уже нет сомнений, идет девятый вал. Но поверишь ли, Люба, меня порой охватывает оторопь, я спрашиваю себя каждую минуту – готов ли? А тебе не страшно за девочек, за себя?..
– Конечно, страшно, но… но ведь это то, о чем мы мечтали в юности как о несбыточном торжестве.
В тишине слышались лишь вой ветра да далекие гудки маневрового паровоза.
– Теперь прощайте, машины, генераторы, батареи. Скоро мне придется иметь дело с электричеством другого рода.
– Знаешь, Леонид, когда ты занят своими машинами, мне становится покойно и прекрасно и, представь, немного горько: ну, вот и все, думаю я. Когда ты уезжаешь по другим своим делам, мне страшно, тревожно и радостно, как в юности… как будто мы еще там, над Волгой, на откосе…
Она села на кровати и завернулась в одеяло. Блестели только огромные глаза, в полумраке она казалась совсем девочкой, той, из Нижнего Новгорода…
Кремовый ночничок с просвечивающим купидоном, халат с кистями… Он отогнул тяжелую штору. Внизу под слабым фонарем по брусчатке мела поземка.
…Зубатов безусловно одаренный человек, но чего ждать от господина Лопухина, нынешнего директора департамента полиции? Зубатов – зубы, это неплохо… Лопухин – лопух, это постыдно… Лопух и зубы – очень прямолинейно, здесь нужен человек с фамилией типа Ехно-Егерн… Ехно-Егерн – как прекрасно и непонятно… Ехно – отвлекающий, теплый, слегка пахучий, но на мягких лапах, и – Егерн! – удар по темени…
Голова сидящего за огромным столом подполковника Егерна упала на грудь, и тут же подполковник подскочил, встряхнулся – фу, черт, засыпаю уже на ходу… как старик… Выбрался из-за стола и пружинисто зашагал по полутемному очень большому кабинету, всунул в глазницу монокль, взглянул в окно на застывшие в морозной ночи подстриженные липы…
«Но граф Витте, умница, как мог он позволить эту бездарную живодерню? Неужели он не понимал, что это только приблизит революцию?..»
В дверях вырос дежурный офицер. В руках у него был большой сверток.
– Разрешите доложить, господин подполковник, за вами прибыли. Здесь партикулярное платье…
– Вы чего смеетесь, Игнатьев?
– Смешное сообщение набираю, господин метранпаж!
– Покажите!
– Извольте!
«Вчера около часу дня провалился Египетский мост через Фонтанку при переходе через него эскадрона лейб-гвардии конногренадерского полка. Есть пострадавшие».
– Что же тут смешного, Игнатьев?
– Очень смешно, господин метранпаж.
– Ровно ничего тут смешного нет, господин Игнатьев. Сообщение, наоборот, скорее печальное. Провалился мост, люди и лошади были испуганы, есть травмы…
– Все понимаю, господин метранпаж. Тут плакать надо, а мне смешно.
– Вы в церковь ходите, Игнатьев?
– Нет, господин метранпаж, я дома молюсь.
Пожимая плечами, метранпаж «Биржевых ведомостей» отошел от наборщика. Бессмысленный этот разговор застрял за воротником, словно волосы после стрижки. Ротационные машины в подвале стучали среди ночи, как копыта кавалерийского эскадрона. Чушь какая-то!
– Нам, Павел, встречаться больше не нужно… – проговорила Надя.
– Но почему, Надя? Почему? – Павел приподнялся на локте. – Почему мы не можем любить друг друга? Жениться, конечно, сейчас глупо, но почему…
– Как жаден ты до жизни, Павел, – глухо сказала Надя.
– Ну конечно! Почему же нет?
– Потому что чем-то надо жертвовать.
– Ты знаешь, что я готов пожертвовать всем и пожертвую, когда будет нужно.
– Даже мной?
– Даже тобой. Ты знаешь…
– И я тоже, милый мой…
– Я знаю, Надя…
– Ну, вот и расстанемся…
– Зачем же сейчас нам расставаться?
Она рассмеялась.
– Все-таки немецкий здравый смысл где-то в закоулке мозга притаился у тебя, майн либер Пауль. – Она вдруг оборвала смех и сказала неожиданно: – Ты знаешь, что твой брат любит меня?
– Коля? Что за вздор!
Надя усмехнулась.
– Вот он ради меня пожертвует всем на свете, он одержим любовью…
– Ты меня удивила, – довольно спокойно сказал Павел. – Но я ведь не виноват, что ты полюбила меня, а не его…
Она смотрела на пушистые ветви елей, сверху облитые лунным светом.
Городовой Ферапонтыч, словно лошадь, обладал способностью спать стоя. Больше того, он любил спать стоя. Любил войти с мороза в фатеру и, не снимая шинелки, при шашке, нагане и свистке, тут же посередь комнаты заснуть.
Супруга знала эту его особенность и хоть перед соседями стыдилась, но уважала.
Вот и в эту ночь Ферапонтыч посвистывал носом, стоя посередь низкой горницы уже чуть не второй час. Обледенелость стаяла, и под Ферапонтычем натекло. Видел он самый настоящий ужжастный сон, отгадки которому ни у какой гадалки, ни даже в соннике сестриц Фурьевых не найдешь.
Кучерявый скубент, похожий на того, чугунного, с Тверского бульвара, сымал с него портупей. Сымаешь так сымай, а бонбу в карман мне не суй, там у меня стакана два тыквенных семечек еще осталось. И щакотки я не переношу, все это знают в околотке, включая супругу Серафиму Лукиничну, в девичестве Прыскину, статс-даму свиты ея величества флигель-горнист. Сымает, все сымает с меня, благородный и уважаемый скубент. Усе уже снял с меня, пузо волосатое аж до колен отвисло, а он все бонбу мне в карман – под кожу, что ли? – сует, и зачем? Конечно, они ученые, им видней, а только ежели шарахнет – куды ж мне грыжу-то мою девать?
Супруга Серафима Лукинична, в девичестве Прыскина, с привычным страхом и уважением смотрела на свистящую, охающую, булькающую статую мужа.
– Танюшка, ты опять босиком шлепаешь? Опять секретничать?
– Лиза, сознайся, ты влюблена в Горизонтова! Верно?
– Как тебе не стыдно, Татьяна, говорить о таких легкомысленных вещах в такой ответственный момент!
– Я знаю-знаю, я все вижу! Вижу, как ты на него смотришь. Ты так на него смотришь из-за плеча, что у меня мурашки по спине пробегают.
– Танька!
– Конечно, Витька – такой красавец… а в тебя Илюша влюблен!
– Вот это уже ближе к истине…
– А Надя любит Павла, а Коля любит Надю, – быстро пробормотала Таня. Она сидела у Лизы в ногах, коленки ее были обтянуты ночной рубашкой.
– А ты? – Лиза быстро схватила сестру за пятку. – А ты кого любишь, козленок?
Таня вдруг ответила серьезно и с полной готовностью:
– Я люблю Николая Евгеньевича Буренина.
Лиза изумленно вскрикнула, села в постели и уставилась на Таню. Та вдруг уронила голову в колени, всхлипнула.
– …и Рахманинова. А еще молодого поэта Блока.
Старшая сестра рассмеялась.
…Ночи этой не было конца…
Унылая набережная Обводного канала была пустынна, когда Ехно-Егерн в закрытой коляске подъехал к дверям дешевых «меблирашек», где в третьем этаже угол одного окна был слабо освещен зеленым.
Брезгливо морща губы, перепрыгивая через замерзшие кучки нечистот, подполковник, в статском платье похожий на клерка из Сити, вошел в дом, быстро взбежал по лестнице, прошагал по длинному коридору, где из-за дверей слышались храп, стоны, скрип пружин и другие неприятные для уха звуки, распахнул без стука дверь девятнадцатого нумера.
Всякий раз, когда Ехно-Егерн видел эти глаза, ему становилось не по себе. Так и сейчас, столкнувшись со взглядом сидящего за столом черного человека средних лет, подполковник про себя чертыхнулся – чем-то ужасным всегда пахли, именно пахли эти глаза, даже не адом, чем-то похуже.
Не поднимаясь из-за стола, человек указал Ехно-Егерну на ненадежный по виду стул.
– Здравствуйте, Евно Фишелевич, – вежливо сказал подполковник, чуть скрипнув зубами.
– Вы опоздали на одиннадцать минут, Александр Стефанович, – тусклым механическим голосом заговорил Азеф. – Время наше весьма ограничено. Давайте сразу возьмем быка за рога. Думаю, что вас интересуют подробности последнего акта. Вы, конечно, догадываетесь, что остановить его я был не в состоянии…
– Да и незачем было его останавливать, – усмехнулся Ехно-Егерн и быстро заглянул в глаза Азефу, да так глубоко, что теперь уже тот вздрогнул. Все, все знает про него этот узколицый, умный, как бес, молодчик, жандармская шкура. Знает, что не за собачьи жалкие рубли служит он, Азеф, один из руководителей боевой организации эсеров, охранному отделению, а служит для того, чтобы оставаться этим руководителем, повелевать людьми, отчаянными смельчаками, двигать разрушительные силы. Знает жандарм и то, как оправдывает себя Азеф, как доказывает он себе, что он один умнее всей охранки, что не он у нее, а она у него на поводу. И с какой откровенностью, с каким цинизмом заявляет этот жандарм, что ему может быть даже на руку убийство великого князя и что дело совсем не в этом.
– Евно Фишелевич, сегодня я, собственно говоря, попросту выполняю поручение полковника Караева, – мягко, как с больным, говорил Ехно-Егерн.
Новая струйка ненависти передернула лицо Азефа: «Сами, значит, не снисходите, крутите, виляете, дубину Караева все подсовываете».
– Но попутно, Евно Фишелевич, хотел вам задать один вопрос. Есть ли у вас связи с руководством эсдеков, особенно с большевиками? Вроде бы должны быть – ведь боевое братство, а? Нас интересуют лица, носящие клички Борис, Клэр, Винтер, Коняга, Никитич, Глебов, Лошадь… Записывайте, пожалуйста, Евно Фишелевич… Может, чего услышите…
– Третий раз мы встречаемся, и третий раз вы меня спрашиваете об эсдеках, – хмуро, отводя в сторону глаза, сказал Азеф. – Похоже, что эта партия интересует вас больше всего…
Он поднял глаза и уставился в блеклые голубые зенки Ехно-Егерна. Тот невольно потянулся в кармашек за моноклем, но сдержался. Некоторое время они смотрели друг на друга не отрываясь, потом с рычаньем вскочили, начали ломать друг другу руки, брызгать слюной, пытаясь добраться до горла… Продолжалось это не более нескольких секунд, к обоюдному счастью. Третий раз они встречались, и третий раз у обоих одновременно вспыхивал неукротимый позыв к убийству, который быстро исчезал.
Через минуту они уже мирно сидели друг против друга, и подполковник передавал провокатору конверт с «собачьими рублями».
– Там как раз и письмо вам от Караева. А насчет большевиков не обижайтесь. Нет у нас в их среде человека такого ценного, как вы…
Черные мысли, как мухи,
Всю ночь не дают мне покою,
Жалят, гудят и кружатся
Над бедной моей головою…
Низкий женский голос с некоторой натугой вылетал из трубы заводного граммофона продукции «Юлий Генрих Циммерман». Николая Берга выводил из себя этот томный умирающий голос, он так и видел перед собой некую даму в теле, раскинувшуюся на софе. Николай отвлекся от разговора, смотрел на проклятый граммофон, стоящий на стойке буфета. Хозяин ночной чайной, видимо, очень гордился своей музыкальной машиной и без конца ее заводил.
«Таким образом, – назойливо думалось Николаю, – изобретение человеческого гения в руках идиотов превращается в орудие пытки».
Усилием воли он заставлял себя отворачиваться от граммофона и взглядывал на собеседника, Илью Лихарева, юношу круглолицего, аккуратно причесанного, с умными спокойными глазами. Николай вертелся на своем стуле, глотал лихорадочно пиво, затягивался папиросой, бросал ее, а Илья сидел совершенно вольно, закинув ногу на ногу, скрестив руки на стопке книг, затянутой ремешком, и пива почти не пил.
– Значит, и вы, Илюша, мечтаете об оружии?
– Я рабочий, Николай Иванович…
– Илья!
– Прошу прощения, Николай. Я рабочий и как рабочий мечтаю об оружии.
– По-вашему, все рабочие ждут оружия?
«Все ли? – подумал Илья, и перед ним проплыло страшное нутро мамонтовских рабочих казарм, где прошло его детство. Вопящие худосочные дети, орущие в пьяной драке родители, тошнотворные запахи гниющего тряпья, обмывок, обросшие плесенью стены… – Вовсе не все. Сколько людей отупело, превратилось в тягловый скот, не представляющий другого образа жизни! И я бы мог стать таким, мог бы уже хлестать водку и участвовать в поножовщинах, если бы…» – Он вздрогнул и сказал зло: – Все. Даже самые неразвитые, несознательные в глубине души мечтают пустить в ход оружие. Степень эксплуатации, Николай Ив… Николай, увеличивается прямо пропорционально росту экономического прогресса. Вот вы были сегодня в цехе, видели мастера Столетникова…
– Скотина! Идолище азиатское! – вскричал Николай. – Да его надо немедленно уволить!
– Совсем не обязательно, – усмехнулся Илья. – Столетников далеко не самый худший мастер в Москве. Просто штрафы, пинки, зуботычины испокон веков считаются нормой русской рабочей жизни. Что Столетников? Мелкий шурупчик… Ломать надо всю машину!
Николай пришел на обувную фабрику, чтобы посмотреть на новую раскройную машину, доставленную из Германии. Пришел и угадал как раз на шумный скандал. Мастер Столетников в густом облаке матерщины тащил за вихры по цеху какого-то ученика. Мальчишка, оказывается, заснул за штабелями кожи и был застигнут недремлющим оком.
Мальчик молча, с закрытыми глазами сносил побои, а Столетников все больше зверел, распалялся от этого покорства. Тогда несколько рабочих бросили станки и окружили их. Ученик тут завопил, мастер засвистел в полицейский свисток, рабочие закричали, размахивая кулаками. Весь цех загудел, и только лишь два немца-механика, не обращая ни на что внимания, продолжали возиться со своей машиной.
Когда Николай подбежал к месту происшествия, в центре перепалки уже был Илья Лихарев. Должно быть, он давно сменился, ибо одет был в чистое и под мышкой держал книжечки, но что-то, видимо, задержало его на фабрике. Николай был поражен тем, как быстро Илья ликвидировал заваруху. Стоило этому скромняге пареньку сказать несколько слов, и мастер отпустил мальчика, а возбужденные рабочие вернулись на свои места. Похоже было на то, что Илюшу здесь держали повыше мастера.
– Мы вас предупреждали, Столетников, чтобы прекратили рукоприкладство, – услышал Николай негромкий голос Ильи.
– А ты кто такой, кто такой? – чуть не плача от унижения, шипел мастер. – Комитетчик, да? Смотри, Илья!..
Илья повернулся к нему спиной и тут столкнулся с Колей. С фабрики они вышли вместе.
– …Наша фабрика вообще нетипичная, – продолжал Илья, – а вокруг-то ведь беспросветный мрак, холод, недоедание. Может ли человек мириться, что так будет всю его жизнь? Всю жизнь! До каких-то пор будет мириться, но однажды…
– Все я могу выдержать и понять, но вид страдающего ребенка вызывает и у меня желание взяться за оружие. Но… но послушайте, Илюша, ведь это все эмоции… а есть экономика, законы экономического развития. Вы же непрерывно читаете, читаете бездну книг… Знаете, что о вас говорит сестра?
– Какая?
– Таня. Она говорит, что вас и на баррикаде без книги представить трудно. Неплохо, да?
– Наверстываю упущенное. У меня ведь нет образования.
– Ну, так ведь книги говорят о сложности всего этого экономического, социального, политического переплета, связанного с революцией. Маркс пишет, что пролетарская революция начнется в странах технически самых развитых… Необходим для революции опыт экономической борьбы, опыт демократической практики, культура масс. А что у нас – миллионы квадратных верст пустоты, дичь, темнота…
– И все-таки для России час пробил!
– Да вы мистик какой-то! Я знаю, что и в самой вашей партии есть люди, которые думают скорее как я, а не как вы с Павлом и… и…
– Они ошибаются. Вы увидите скоро, что правы мы с Павлом. И Надя Сретенская…
«Надя, Надя…» – повторял про себя Николай.
– Страшно за нее, – сказал он вслух.
– За Россию? – спросил Илья. – За нее не бойтесь.
Николай промолчал. Он морщился, слушая вылетающий из трубы марш кавалергардского лейб-гвардии его величества полка и глядел на вваливающихся в чайную задастых извозчиков в синих поддевках поверх овчин.