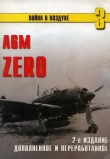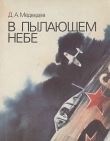Текст книги "Фронт до самого неба"
Автор книги: Василий Минаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
– Вот вам пример. В ноябре сорокового года английская воздушная разведка сфотографировала итальянскую военно-морскую базу Торонто. Проявили снимки – крупные силы итальянского флота! Авианосцы нанесли массированный удар – и плакали фашисты. А вот обратный случай – бой у мыса Мотопан в марте сорок первого. Те же англичане из-за плохой воздушной разведки упустили главные силы итальянцев во главе с линкором "Витторио Венето". Я бы вам таких примеров знаете сколько привел? По сути дела, любой бой, любое сражение – иллюстрация к нашему разговору. Жаль, говорить некогда. Готовьтесь как следует. И своевременно доносите обо всем, что обнаружите.
– Наш радист не подведет!
– Знаю, Панов – отличный специалист. С ним связь всегда надежная.
Григорий Степанович взглянул на часы, пыхнул трубкой и заторопился к штабу.
В середине дня одно из наших звеньев вылетело на уничтожение четырех торпедных катеров, обнаруженных в бухте Киик-Атлама, маневренной стоянке небольших кораблей противника. Однако опоздали, катеров и след простыл. Видимо, гитлеровцы засекли наш самолет-разведчик и вовремя сманеврировали. Делать нечего, экипажи отбомбились по складам на берегу, подожгли шесть объектов. Но от огня зенитной артиллерии сильно пострадал и один из наших самолетов. На обратном пути обнаружили торпедные катера, они на предельной скорости спешили к Феодосии. Но бомбы были уже израсходованы.
После посадки летчики и штурманы шумно обсуждали неудачу.
– Сориентировались фрицы! А мы вынуждены были бомбить какие-то склады...
– Нужно назначать запасные цели!
– И разведку вести более скрытно...
– Если бы запасной целью были плавсредства в Феодосии, тогда бы и катера накрыли...
Да. Вообще с каждым днем становилось заметней, что рядовые летчики и штурманы начинают думать не только о своих конкретных обязанностях, но и об успехе группового полета, о задачах эскадрильи, полка.
В тот же день экипаж Андреева произвел разведку портов Ак-Мечеть, Евпатория и линии коммуникации Евпатория – Севастополь. В Ак-Мечети штурман Колесов обнаружил у берега пять шхун, в южной части бухты Сасык – транспорт водоизмещением пять тысяч тонн, на аэродроме Саки – пятнадцать самолетов противника. Все цели были зафиксированы плановой и перспективной съемкой.
Экипаж был доволен результатом разведки. Однако на разборе выяснилось, что из пяти радиограмм, переданных с самолета, ни одна не была принята на КП полка. Стрелок-радист Евгений Никифоров работал не на той волне, градуировка передатчика оказалась сбитой.
– Элементарная халатность! – ругался майор Переезда. – Как вы готовились к вылету? Разведчики! Случай был разобран со всеми радистами полка.
Вечером из штаба ВВС поступило приказание: к утру 16 октября иметь в пятнадцатиминутной готовности самолет для ведения разведки у западного побережья Крыма. Подвесить десяток стокилограммовых фугасных бомб.
Затемно мы уже были на аэродроме, с рассветом вылетели на это не совсем обычное задание – разведку, совмещенную с бомбежкой. Накануне всем экипажем тщательно изучили район, места возможных встреч с истребителями противника, нанесли на карты предполагаемые маршруты движения кораблей.
Как и предсказали метеорологи, погода выдалась неважная – видимость ограничена дымкой, многоярусная облачность.
Давно скрылись из виду родные берега, вокруг безбрежный морской простор. Чтобы побороть чувство одиночества, штурман то и дело докладывает о местонахождении самолета. Одиночество обманчиво, врага можно встретить в любую минуту. До района разведки лететь еще порядочно, набираю высоту, пробиваю облачность. Яркое солнце прогоняет наплывающую по временам сонную одурь, вместо однообразной водной пустыни под крылом сказочные замки, снежные города...
– Командир, вправо пять по компасу! Приближаемся к Севастополю, направляет Прилуцкий.
– Подготовить фотоаппараты!
Снижаюсь, пробиваю облачность, выхожу на мыс Херсонес. Бухты Севастополя. Кораблей в них нет. Только в Казачьей стоит одинокая шхуна. Зенитки молчат, наше появление из облаков – полная неожиданность. А мы уже снова в море, курс на Евпаторию. Там-то уж встретят, служба оповещения сработает. Резко разворачиваюсь на юг, ухожу дальше в море с расчетом выйти к Каркинитскому заливу с запада. Выходим на Ак-Мечеть. В порту – транспорт водоизмещением две тысячи тонн, несколько мелких посудин. Сфотографировав их, продолжаем полет к Евпатории. На ее рейде восемь шхун. Зенитки и здесь не успела, маневр удался. Под крылом – Саки. На аэродроме более сорока бомбардировщиков и истребителей. Разворачиваемся вправо, обнаруживаем в море четыре транспорта в кильватерном строю.
– Командир, бомбы?
– Давай, выводи на боевой!
Прилуцкий уточняет скорость, корректирует курс, прилипает к прицелу. Противник подозрительно молчит.
– Пошли пять штук! Маневрируют, гады! Действительно, два транспорта начали циркуляцию вправо, два – влево.
– А ты думал, они будут подставляться под твои бомбы?
– Давай еще заход! – Прилуцкий не на шутку разозлился.
– Уточни снос!
Начинаю разворот, приказываю Панову сообщить об обнаруженных транспортах. Пока штурман вносит поправки, с земли приходит ответная радиограмма: сфотографировать транспорты.
– Командир, боевой!
Изо всех сил стараюсь вести самолет по струнке. Противник не стреляет. Видимо, на судах нет зенитного вооружения.
– Пошли!
Через несколько секунд слышу ругань Николая. Бомбы опять не попали в цель, легли у носа переднего транспорта.
– Ругайся, не ругайся, – говорю Прилуцкому, – одного желания мало. Нужно учиться бомбить маневренные цели, угадывать замысел противника, брать упреждение...
Николай не отвечает. В шлемофоне слышно, как он сопит. Досадно, конечно.
– Не огорчайся, штурман, – успокаивает Панов. – Подучишься – врежешь прямо в трубу.
– Пошел ты к черту!
На обратном пути Панов заметил на горизонте точку.
– Командир, по курсу транспорт! Приблизились – сторожевой катер.
– Двойка тебе, Панов, не умеешь распознавать корабли по силуэту. Учит, учит вас начальник штаба...
Я тоже зол и несправедлив. Будто мог он, Панов, на таком расстоянии различить силуэт. Хорошо, что хоть обнаружил.
– Командир, это опасная посудина. Наверняка, караулит наши лодки. Разреши, я ему из пулемета...
– Давай!
Снижаюсь до пятидесяти метров, прохожу рядом с катером. Стрелки бьют из пулеметов. В ответ с катера тянутся нитки пунктиров.
– Огрызаются, собаки!
– Передай его координаты на берег! – напоминаю радисту.
– Ну что, снайпер, врезал? – в свою очередь подначивает Прилуцкий. Со стороны каждый – стратег!
– Пулька не бомба, разрыва не видно, – меланхолично парирует Панов.
Длительный разведывательный полет подходит к концу.
Сколько раз приходилось нам возвращаться из дальних полетов к родным берегам. И почти всегда – с радостью, с сознанием исполненного долга. Сегодня летели молча. Грызла досада, чувство вины.
На земле нас встретил Григорий Степанович Пересада. Усталый, с воспаленными от бессонной ночи глазами. Выслушав подробный доклад и сделав записи в блокноте, неожиданно улыбнулся:
– Молодцы! От имени командира полка объявляю вам благодарность!
– Служим Советскому Союзу! Вот тебе и неудачный полет!
– Поняли значение разведки? – пожимая нам руки, спрашивал майор. – По вашим данным уже посланы самолеты. К транспортам направлены подводные лодки. Что же касается бомбометания... Перехитрил вас противник. Учиться нужно! Ну, ничего, научитесь.
На следующий день вышел боевой листок:
"16.10.42 г, летчик Минаков, штурман Прилуцкий, стрелок-радист Панов и воздушный стрелок Лубинец произвели воздушную разведку в море длительностью 6 часов 40 минут. Задание выполнено отлично. В районе Ак-Мечеть, Евпатория, Севастополь экипажем обнаружено и сфотографировано пять транспортов и других плавсредств противника. О целях было сообщено командованию сразу же после обнаружения. Однополчане, берите пример с экипажа летчика Минакова!"
"Главное – не растеряться!"
Так начинал и так заключал свои сверхпрограммные политбеседы наш комиссар эскадрильи Ермак – под "табачным навесом", где коротали мы часы вынужденного, из-за погодных условий, отдыха или же ожидали команды на взлет. Разные эпизоды рассказывались под этим девизом, порой неправдоподобно курьезные, порой захватывающе увлекательные, но непременно подлинные и всегда бьющие в одну цель. Откуда их добывал комиссар, было его профессиональным секретом, неразрешимой для нас загадкой: из эскадрильи он, как и мы, дальше штаба полка и столовой не отлучался и переписки со всей авиацией флота вести, как понятно, не мог.
Ни наши шахматы, ни домино Николаю Григорьевичу не мешали, даже и помогали – оценить собственную работу, которая, по его мнению, лишь тогда и результативна, когда заинтересован в ней не столько он, сколько его слушатели – мы, то есть. "Главное – не растеряться", – слова эти были условным сигналом, некими позывными, заслышав их, мы замолкали на полуслове, откладывали очередной ход, даже если могли насадить зазевавшегося партнера на "вилку" или "защучить" его ферзя, самонадеянно вышедшего на середину доски в дебюте.
– Если не растеряться, – начал неторопливо и эту историю комиссар, то и на парашюте можно подняться...
– Спуститься, товарищ старший политрук, – услужливо поправил сержант Одиноков.
– Подняться, – настойчиво повторил Ермак и даже ткнул пальцем в небо, не оставляя сомнений в сказанном.
– Ага, – догадался Колесов. – Восходящий поток? Спрыгнул над территорией противника, а его подняло и вынесло к своим...
– Вариант возможный, – согласился комиссар. – Но с Барановым было не так. Ему со дна моря пришлось подниматься.
На Колесова зашикали, чья-то рука с занесенным конем неподвижно повисла над шахматной доской, доминошники беззвучно сложили на стол костяшки.
– Случай недавний, – начал Ермак. – В сентябре это было, в одном из авиаполков нашего флота. Замкомэск старший лейтенант Филипп Баранов возвращался на своем Ил-2 с боевого задания. Летел над морем. Вдруг "мессеры". Со стороны солнца зашли незаметно, одной из первых очередей повредили мотор. Уклоняться от их атак Баранову стало трудно. Он вел машину над самыми гребнями волн, защищаясь огнем и маневром. Это был еще старый "ил", без кабины воздушного стрелка и крупнокалиберного пулемета в хвосте. Бой, конечно, неравный. Очередной вражеский снаряд окончательно вывел из строя мотор, грузный штурмовик "провалился", сел на воду. Баранов принялся открывать фонарь, но он не поддавался – заклинило. В кабине потемнело, самолет ушел под воду. Он погружался все глубже и глубже, надежд на спасение не оставалось. Однако герметизированная кабина не наполнялась водой, и летчик в кромешной тьме, задыхаясь, не оставлял попыток открыть фонарь...
Наконец самолет вздрогнул, стукнулся о каменистое дно моря. В тот же момент огромным давлением фонарь сорвало, на уже терявшего сознание летчика обрушилась масса воды, страшная сила вырвала его из кабины и понесла наверх. Кроме давления, помог парашют. Воздух, сохранившийся в складках шелковой ткани, вынес летчика на поверхность. Баранов быстро овладел собой, наполнил газом спасательный пояс. Около часа продержался на воде. Потом подошел наш катер и подобрал его...
Комиссар закончил, завязался разговор. Как оценить этот случай?
– Но все-таки он же спасал себя, – говорили одни. – А настоящий подвиг – когда человек идет на самопожертвование, на смертельный риск. И мог бы не идти, а идет, чтобы уничтожить врага, выручить товарища...
Другие возражали. Если проявил недюжинную храбрость, самообладание в критической обстановке, значит – подвиг.
– Конечно, есть разница, – переждав спор, подвел итог комиссар. – Но и спасая себя, человек сохраняет для будущих боев одного воина. А это уже немало. Разные бывают подвиги. Только за последний месяц на нашем фронте их совершено десятки. О таране Мухина слышали? Вот тот пример, когда мог бы и не идти...
Об этом таране, двенадцатом по счету на Черном море мы уже слышали, но попросили рассказать подробно.
Это случилось в сентябре.
Одна из наших береговых батарей изо дня в день била по фашистским войскам из района Геленджика. Громила живую силу и технику врага, не давала ему покоя. Фашисты решили уничтожить ее с помощью своей дальнобойной артиллерии. Расстояние до нашей батареи было большое, поэтому гитлеровцы подняли в воздух "Фокке-Вульф-189", чтобы с него корректировать огонь.
Бронированная, двухмоторная, двухфюзеляжная "рама" висела над огневой позицией батареи. Вражеские снаряды ложились все ближе к орудиям. Надо было во что бы то ни стало избавиться от наблюдателя. Эта задача была поставлена перед летчиками Мухиным и Масловым. Взлетев на самолетах ЛаГГ-3, они достигли высоты, на которой летал "фокке-вульф" и пошли на сближение. Мухин устремился в атаку, а Маслов, маневрируя вокруг вражеского самолета, отвлекал его огонь на себя. Фашисты бросили корректировку и всю силу огня обрушили на наши "лаги". Искусно маневрируя, Мухин и Маслов взяли противника в клещи и стали обстреливать его. После очередной пулеметной очереди Мухина "рама", отстреливаясь из двух пулеметов, пошла в сторону моря. Очевидно, на свой аэродром.
Проскочив вниз, Мухин вплотную подошел сзади к корректировщику, нажал гашетку, но оружие молчало – вышел боезапас. Тогда мужественный летчик решил пойти на таран. "Лаг" врезался винтом в левый фюзеляж вражеского самолета, в тот же миг своей плоскостью ударил и по правому фюзеляжу. Раздался сильный треск, и оба самолета, потеряв управление, стали беспорядочно падать.
Мухин отстегнул ремни, его выбросило из кабины истребителя. Через несколько секунд он раскрыл парашют и начал спускаться в районе бухты.
Но на этом не кончилось. Два вражеских летчика, покинув свой самолет, тоже спускались на парашютах, находясь ниже Мухина. В бессильной злобе, охваченные отчаянием и безнадежностью, фашисты открыли по нему огонь из пистолетов.
Мухин принял вызов. Не размышляя, скользнул на своем парашюте, приблизился к врагам на сорок-пятьдесят метров, выхватил пистолет и открыл ответный огонь. Сумел застрелить обоих фашистов, а сам благополучно приводнился в бухте. Вскоре наш катер доставил Мухина на берег, где он был радостно встречен боевыми друзьями, наблюдавшими за его мужественной борьбой.
– Да, в воздушном бою, если сложится безнадежная обстановка, единственный выход – это таран, – подхватил кто-то из молодых летчиков. Погибать, так с музыкой!
– Хорошо, если есть такой выход, – возразил комиссар.
– Ну, таран-то...
– И таран не всегда возможен. Но выход настоящий летчик найдет всегда. Решит, как поступить в последнюю минуту...
И рассказал поистине фантастический случай. Однако действительный произошел он совсем недавно, в октябре, и героем его был летчик Военно-воздушных сил нашего, Черноморского флота.
Ивану Кораблеву шел девятнадцатый год и летал он на У-2, возил почту. Никто не верил, что этот парень с золотистым пушком на щеках и мальчишечьим озорным взглядом – уже почти готовый боевой летчик, способный драться с фашистскими асами, пикировать, бомбить, прошивать меткими очередями вражеские машины, штурмовать неприятельскую пехоту. Дай ему только боевой самолет. Но ему не давали. И приходилось летать из тыла на фронт и вдоль фронта с письмами, газетами, оперативными документами. На его "уточке" не было никакого вооружения.
Однажды, доставив почту, Кораблев возвращался на свой аэродром. Дело было днем, шел низко, над самым берегом. И вдруг, в районе Сочи, крылом к крылу пристроился к нему "мессершмитт". Гитлеровские асы, вылетающие на "свободную охоту", любили нападать на такие безоружные самолеты – и риска никакого, и боевой счет растет. "Мессер" с выпущенным шасси и закрылками для уравнивания скорости с тихоходной машиной Кораблева – был на расстоянии нескольких метров. Гитлеровец не торопясь открыл фонарь, поднял средний и указательный пальцы вверх, а большим ткнул вниз, что могло означать лишь одно: на втором заходе тебе, сосунок, будет крышка!
"К чему второй заход? – подумал Кораблев за фрица. – Чуть приотстать и нажать гашетку..."
Но гитлеровец, должно быть, не мог отстать на своей скоростной машине. Исчерпал все резервы ее в этом смысле. И на заход не торопился. Продлевал удовольствие, играл, как с мышонком кот. Любовался своим мастерством, держась, как привязанный, в пяти метрах от Кораблева и вместе с ним повторяя неровности берега, как бы обчерчивая его рельеф. Вот сволочь!
И вдруг Кораблев вспомнил: пистолет!
Незаметно отвел назад руку, вынул из кобуры "ТТ" и выстрелил прямо в красную, ухмыляющуюся физиономию аса. Тот вскинул руку, как бы защищаясь, и сразу обмяк. "Мессер" накренился, черкнул крылом по земле, кувыркнулся и взорвался в двадцати метрах позади машины Кораблева...
Так летчик Иван Кораблев открыл свой боевой счет. И бой этот, так неудачно начавшийся для него, принес, вероятно, самую легкую в его фронтовой жизни победу.
Героический десант
О первых числах октября в большом зале школы, где мы жили, была размещена парашютно-десантная рота, сформированная из моряков. Командовал ею волевой, энергичный капитан Орлов. Борьба, рукопашный бой, приемы самбо, метание гранат, стрельба из всех положений, снятие часовых, прыжки с парашютом, подрывное дело – вот далеко не полный перечень того, чем ежедневно занимались наши соседи. В свободные минуты мы с интересом наблюдали за ними.
– Работают ребята! – восхитился Панов. – И днем, и ночью. Не каждый выдержит такую нагрузку!
– Замечательные парни! – согласился и Лубинец.
Старшина роты Соловьев следил, как снаряжались его десантники. На огромном брезентовом полотне были разложены кучками самые разнообразные предметы. Все это моментально разбиралось по рукам и аккуратно размещалось в специальных чехлах, патронташах и сумках десантников. Каждый боец имел автомат, пистолет, кинжал, две ручные гранаты, компас, карманный фонарик, двенадцать плиток шоколада, пачку печенья, флягу со спиртом, две коробки спичек, пять пачек папирос, несколько индивидуальных пакетов. Кроме того, на каждую группу в три-пять человек выдавались килограммовые термитные бомбы, противотанковые гранаты, бутылки с зажигательной смесью...
Старшина все видел, везде успевал, подходил то к одному, то к другому краснофлотцу, проверял, советовал, показывал, помогал закрепить и подогнать все так, чтобы не мешало в воздухе, при приземлении, в движении по земле. По всему было видно, что он был опытным наставником в этих делах.
Однажды Лубинец не выдержал:
– К чему это вы готовитесь?
Старшина хитро ухмыльнулся.
– Много будешь знать – скоро состаришься!
В самом деле, таких вопросов на фронте не задают. Но вскоре все выяснилось само собой.
В оккупированном Майкопе немцы использовали довоенный аэродром. На нем постоянно базировалось от шестидесяти до семидесяти самолетов. Фашисты нападали на базы и корабли, нарушали наши морские коммуникации, совершали налеты на позиции наших войск под Туапсе и на перевалах Главного Кавказского хребта. Неоднократные попытки ликвидировать эту базу с воздуха не удались, аэродром был хорошо защищен. Тогда командование ВВС ЧФ решило высадить на аэродром воздушный десант и уничтожить самолеты противника на земле.
В этом дерзком рейде участвовали и самолеты нашей авиабригады: шесть ДБ-3ф 5-го гвардейского, два СБ 40-го авиаполка, транспортные ТБ-3 и ПС-84, штурмовики И-15 с Лазаревской. От нашего полка выделялось четыре ДБ-3ф, из них один – резервный. В резерв был назначен мой экипаж.
Успех боя целиком зависел от внезапности, поэтому высадка десанта готовилась под большим секретом.
23 октября 1942 года все участвующие в выполнении этого задания экипажи собрались на аэродроме Бабушеры. Летчики и штурманы получили карты крупного масштаба и фотоснимки целей, со всеми был проведен подробный инструктаж. На аэродром прибыли командующий ВВС ЧФ генерал-майор авиации Василий Васильевич Ермаченков, член Военного совета контр-адмирал Николай Михайлович Кулаков, командир 63-й авиабригады подполковник Николай Александрович Токарев.
Двадцать два часа. Вечернее небо густо усеяно крупными мерцающими звездами. У самолетов застыл строй десантников. Их лица освещают лучи автомобильных фар. Легкий ветерок колышет ленточки бескозырок. Командир роты капитан Орлов медленно идет вдоль замершего строя, пристально вглядываясь в каждого бойца. Остановившись посредине, спрашивает:
– Все меня слышат?
– Все! – как один, выдыхает строй.
– Боевые друзья! В трехстах километрах отсюда – фашистский аэродром. Уничтожить его с воздуха не удается. Командование поручило нам выполнить особую задачу: скрытно, на малой высоте подойти, десантироваться, уничтожить фашистские самолеты на земле. После этого уходить к партизанам.
Орлов помолчал, снова прощупал пронзительным взглядом весь строй.
– Полетят только добровольцы. Кто не уверен в себе, может остаться.
Выждал еще минуту, скомандовал:
– Кто готов выполнить приказ Родины, шаг вперед!
Обе шеренги, как на параде, шагнули навстречу командиру.
С напутственным словом к десантникам обратился контр-адмирал Кулаков.
– Товарищи, через несколько минут вы отправитесь в логово врага. Задание важное. Помните, что Родина никогда не забудет ваш подвиг, он войдет яркой страницей в историю Великой Отечественной войны. Вы – творцы этой истории. Желаю вам, друзья, удачи! Смерть немецким оккупантам!
– По местам! – скомандовал Орлов.
Сорок краснофлотцев, разделившись на две группы, начали посадку в самолеты. Первыми взлетели четыре ДБ-3ф, пилотируемые майором Минчуговым, майором Стародубом, капитаном Беликовым и инспектором по технике пилотирования майором Селявко. Три самолета этой группы наносили отвлекающий удар, а Селявко должен был наблюдать за ходом операции и обо всем доносить с места события на землю. В его сборный экипаж входили флаг-штурман полка капитан Тимонин, начальник штаба 63-й авиабригады подполковник Кудин, наши лучшие воздушные стрелки-радисты Панов и Куевда.
Следом за первой группой уходят на Майкоп ПС-84 и ТБ-3 с десантниками. Мы сидим в полной боевой готовности, с запущенными моторами. В случае неудачи со взлетом какой-нибудь машины мы должны немедленно заменить ее. Взлетает последняя группа – пять самолетов. Благополучно берет курс на вражеский аэродром. Мы остаемся. Ну что ж, успеха вам, боевые друзья, в вашем нелегком деле!
На другой день узнали все в подробностях.
Первая группа бомбардировщиков в течение сорока минут бомбила огневые точки вражеского аэродрома, подготавливая условия для высадки десанта. Заливались зенитки, метались лучи прожекторов, трассы "эрликонов" вспарывали темноту, но наши бомбардировщики вновь и вновь прорывались сквозь сплошную огневую завесу. Очаги пожаров осветили взлетную полосу. На помощь подоспели два И-15бис. С высоты четырехсот метров они восемнадцать раз заходили на аэродром, пять прожекторов врага были уничтожены. За три минуты до начала высадки десанта два СБ сбросили на железнодорожную станцию Майкоп более трехсот зажигательных бомб. Пожары осветили всю округу. Это позволило самолетам с десантниками на борту точно выйти на аэродром. Тем временем девятка бомбардировщиков обрабатывала подступы к нему. Аэродромная команда в панике металась по полю. Лучи трех вражеских прожекторов осветили один из транспортных самолетов, несколько зенитных батарей немедленно перенесли огонь на него. Из люка посыпались парашютисты. Гитлеровцы поняли наш замысел. Несколько прожекторов стали освещать парашютистов и аэродромное поле. От зажигательных пуль вспыхивали парашюты, некоторые из десантников были убиты еще в воздухе. В течение тридцати секунд самолет ПС-84 освободился от десанта. Свернув в сторону, он вышел из зоны огня и благополучно вернулся на свой аэродром.
Второму транспортному самолету не повезло. Он вышел к аэродрому на высоте шестьсот метров с опозданием на две минуты и сразу же был схвачен со всех сторон прожекторами. Весь огонь зениток обрушился на громадный ТБ-3. Десантники начали покидать его над самой кромкой летного поля. От прямого попадания в бензобак машина загорелась. Несмотря на это, пилот продолжал вести ее в горизонтальном полете, обеспечивая высадку. Пролетев аэродром, объятый пламенем ТБ-3 врезался в землю. В небо поднялся огромный столб огня. Героический экипаж погиб, выполнив свой воинский долг до конца. Чудом удалось спастись лишь командиру корабля старшему лейтенанту Серафиму Гаврилову...
А на аэродроме разгорался бой. Освободившись от парашютов, расчищая себе путь автоматными очередями, краснофлотцы пробивались к "юнкерсам", "хейнкелям" и "мессершмиттам", забрасывали их термитными бомбами, гранатами, бутылками с зажигательной смесью. По всему полю пылали фашистские самолеты, дым не могли пробить даже прожекторы. В разных концах аэродрома завязалась перестрелка, десантники отсекали от самолетов солдат охраны. Становилось трудно дышать. На аэродроме все пылало и взрывалось, в небо взлетали горящие обломки...
Десантники быстро покончили с охраной и с обслуживающим персоналом, целых машин на стоянках не осталось. Взлетела зеленая ракета – сигнал отходить. Но в это время к гитлеровцам подоспело подкрепление мотоциклисты с собаками. Мотоциклисты носились вдоль стоянок и стреляли, собаки с лаем преследовали десантников. Отбиваясь, краснофлотцы группами и поодиночке прорывались к местам, где их ждали партизаны.
В течение последующего месяца двадцать три уцелевших десантника на легких самолетах были переправлены за линию фронта, на свою территорию. Пятнадцать героев погибли. Все участники героического десанта были представлены к правительственным наградам.
Аэродром в Майкопе надолго вышел из строя, перестал угрожать нашим морским коммуникациям.
Прошли многие годы. Все дальше и дальше отходит война. Но никогда не сотрутся из памяти образы тех отважных ребят в лихо заломленных бескозырках, в бушлатах, туго перетянутых ремнями, с автоматами, пистолетами, гранатами, с кинжалами, торчащими из голенищ сапог...
На месте высадки десанта стоит обелиск с выбитыми на камне именами героев, отдавших свою жизнь за честь и свободу Родины.
Приказ есть приказ
Майор Ефремов вызвал к себе командиров эскадрилий.
– Полку приказано с двадцать восьмого числа прекратить боевую деятельность и отбыть в тыл на переформирование. Восемь экипажей и тринадцать самолетов передаем на пополнение пятого гвардейского авиаполка.
В числе этих восьми экипажей оказался и наш. Перевод в гвардейскую часть следовало понимать как признание боевых заслуг, как большую честь, но мы встретили приказ без энтузиазма. Жаль было расставаться с родным полком, с товарищами, с которыми побратались в боях. Утешало лишь то, что вместе с нами в другой полк переходили экипажи Андреева, Литвякова, Артюкова, Беликова, Алексеева, Дулькина и Трошина. Переводился и заместитель командира нашей эскадрильи Осипов.
Приходилось расставаться с Иваном Варварычевым – весь технический состав оставляли в нашем, теперь уже бывшем, полку.
Оставался и наш боевой друг Алексей Лубинец.
Я обратился к Ефремову, попросил не забирать его из экипажа.
– Не могу, Минаков, понимаешь, не могу! Приказано всех воздушных стрелков до единого оставить в полку. Надо же сохранить опытные, боевые кадры! Хватит с меня, что вас всех приходится отдавать. Легко, думаешь? Но тут не поспоришь – вы ведь остаетесь воевать...
День ушел на оформление документов. Вечером всем экипажем решили устроить прощальный ужин в одном из буфетов поселка Дранды. Разумеется, не поскупились, меню по тем временам составилось богатое. Дружеская беседа затянулась до позднего вечера. Неожиданно в дверях появился новый адъютант нашей эскадрильи старший лейтенант Андреев.
– Пируете?
– Присаживайся, – пригласили и его.
– Не могу. И вам вынужден помешать. Всех вас вызывают в штаб.
– Зачем?
– Полетите на боевое задание.
– Да ты что?
– Серьезно!
– Но нам же разрешили отдыхать! Мы и машину к вылету не готовили.
Адъютант обескураженно развел руками.
– Мое дело передать, а вы уж сами разбирайтесь с начальством. Осипов приказал разыскать и доставить.
Полуторка ждала у крыльца. Забравшись в кузов, затряслись по ухабам осенней разбитой дороги.
В ярко освещенной штабной комнате Ефремов и Пересада что-то оживленно обсуждали. Выслушав доклад, командир полка встал, испытующе оглядел меня.
– Как себя чувствуете?
– Отдыхали, – пожал я плечами. – Ужинали в буфете, прощались...
Андрей Яковлевич еще раз внимательно поглядел мне в глаза.
– В южную бухту Севастополя вошел транспорт противника. Приказано нанести бомбовый удар по нему. Помолчал, покрутил в пальцах потухшую папиросу.
– Я докладывал комбригу, что имею приказание командующего прекратить боевую работу. Но он потребовал выполнить приказ, хотя бы одним самолетом. Хотел послать Беликова, но он нездоров. Полетите на его машине. Самолет подготовлен, подвешены три двухсотпятидесятикилограммовые фугаски.
Да, дела...
– Есть вопросы?
– Все ясно.
– Вылет по готовности. Можете идти.
Самолет находился в дальнем конце аэродрома, двинулись было пешком, но обступила такая кромешная тьма, что пришлось вернуться. Поехали на нашей полуторке.
Встретил техник, доложил о готовности.
– Заправка под пробки, бомбы подвешены!
Стали осматривать самолет. Для меня важно было выявить его индивидуальный "характер". Не только каждый, летчик, каждый шофер знает, что это такое. Мало того, что машины одной марки имеют свои особенности, но и характер пилота, его стиль управления накладывают на них свой неповторимый отпечаток. Спрашивать об этом у техника было бесполезно.
– Чужая жена, – пошутил Прилуцкий.
– Похоже, наверно.
Еще раз осмотрел кабину, поставил все тумблеры в исходное положение. Моторы работают ровно. Мигаю аэронавигационными огнями, техники выбивают колодки из-под колес. Включаю фару, начинаю выруливать на старт. Осторожно двигаю рычагами управления, привыкаю.
– Как самочувствие, командир?
– Работоспособен. А ты?
– Транспортабелен, – смеется Николай. – Может, вставить ручку, помочь поднять хвост?
– Обойдусь.
Установив самолет на старте, увеличиваю обороты.
– Кто-то подходит, – докладывает Панов.
Открываю фонарь – Осипов. Поднялся на плоскость, добрался до кабины:
– Как дела, Василий?
– Не верите? Не надо было и посылать!
– А все-таки?
– Все в порядке, до скорой встречи!
Замкомэск крепко стиснул мне руку и так же внезапно исчез, как появился. Всматриваюсь в темноту, постепенно различаю стену справа – сады, что тянутся за границей аэродрома, параллельно взлетной полосе. Значит, самолет установлен правильно. Теперь главное – выдержать это направление, не уклониться.