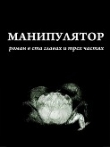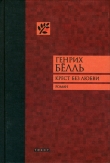Текст книги "Зазимок"
Автор книги: Василий Аксёнов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
Глава третья
Я ложусь спать, но уснуть не могу: не дают люди моего рассказа – они громко разговаривают, гулко топают по черепу моей головы. Их имена разбегаются на буквы, а буквы принимают расположение клавишей на моей машинке или… каких-то созвездий.
Всю ночь напролёт я пил китайский чай, который Ося мне прислал из Сибири, а под утро всё же уснул и увидел сибирско-китайский сон.
Иду я по берегу большой, незнакомой реки с пологими берегами и с водой непривычного цвета. Странной конструкции мостки, странной формы лодочки, у нас таких нет. Каменские, но уже покойные, женщины в конусообразных соломенных шляпах полощут бельё.
– Что это за река? – спрашиваю я.
– Как что, – отвечают они. – Янцза.
Знакомлюсь с человеком и тут же забываю его имя, как бы просто и привычно оно ни звучало. Ситуации бывают неловкие. Всегда помню про эту шалость моей памяти, пытаюсь её контролировать, но каждый раз происходит одно и то же: память открывает крышку в своё подполье – и прозвучавшее только что имя туда проваливается. Может, это не управляемо, может, и пытаться контролировать не надо?
«Самое великое изобретение человека не колесо, – сказал Аношкин. Или Илья. – На колесе далеко не уедешь. Верх человеческого изобретательства – по последствиям, разумеется, – стена. Не колесо, не круг гончарный… стена так изменила психику человеческую, нравственность и мораль, которой до появления стены, наверное, в помине не было». И в самом деле: стена есть – и ехать никуда не надо; нет нужды и в колесе. Что там, за перегородками, с двух сторон, в каких-то десяти-пятнадцати сантиметрах от меня, порою ни творится. Ну и так далее…
Бросал курить. Условились с привычкой: свои не покупать, на улице у прохожих не стрелять, курить только в том случае, когда заявится курящий гость. Странный же после этого выработался у меня рефлекс на гостей.
* * *
Другой сон:
Тьма. Запах пота и крови. Веки в глазницах. Шорох соломы. Писк разбегающихся мышей. Колокол гудит. Кто-то крестится, затворяет тяжёлые ворота и говорит:
– Действие первое. Василий Тёмный.
По поверхности моих полусонных мозгов плавает пробковый поплавок, к которому привязана леса, а там, где-то в глубине, на лесу подвешен крючок, к которому память всё что-то силится подтолкнуть. Я чувствую, как иногда к крючку подплывает огромная реликтовая рыбина, лениво тычется носом в наживу, но не клюёт. И только мелкая от поплавка рябь по мозгам. И только слабая боль… Рыбина не всплывает, бороздит брюхом дно и, разгребая плавниками ил, питается мертвечиной. Под мутной толщей мозгов внешность её не разобрать, только смутные очертания. Но одно для меня несомненно – то, что приплыла она от моих прародителей, может быть, из Египта, может быть, из Шумера или из царства Лу, может быть, из степей монгольских или придунайских… да мало ли откуда может приплыть такая рыба, – так или иначе, но путь её был долгим и длинным. Ясно мне и другое, ясно мне то, что не с вестью о добрых и славных деяниях моих пращуров явилась она, не ради этого, конечно, а с сообщением о грехе, но каком – для меня загадка.
В голове моей квартируют два маленьких человечка, фотограф и кинорепортёр, работающие на мою память. Чем платит им она, не знаю, возможно – служебной жилплощадью, но это не моя забота. Кинорепортёр постоянно и почти всё без разбору снимает, но так как в ленте острый дефицит, то многое приходится стирать, а ленту обновлять и использовать заново; фотограф – тот большее время суток и жизни, естественно, спит и просыпается только тогда, когда от него потребуется срочно сделать снимок, который потом вечно будет храниться в запасниках моей памяти (я думаю так: для шантажа, что чаще, и лишь изредка – как пряник).
И вот один из снимков, который фотограф отпечатал в двух экземплярах: первый – в фонды, а дубль – для меня, так, в знак доброго отношения.
Я раньше много ездил, не то слово, гонял на мотоцикле и до сих пор удивляюсь, как только шею себе не свернул. Пьяный вдрабадан я им не пользовался: не мог выкатить из гаража, не мог завести, и с оседланием его моя вестибулярная система не справлялась – только поэтому. А выпив слегка, я выезжал на дорогу, набирал скорость под восемьдесят или девяносто, сколько позволяла гравийная дорога, на повороте закрывал глаза и, что называется, пытал судьбу. Всё обходилось: ни встречной машины, ни колдобины – никакой помехи, и линией поворота кто-то меня будто вёл, но кто, не знаю. А однажды этот кто-то всё же подшутил: сделав ошибку в повороте, я съехал в кювет и катапультировал из седла. Фотограф проснулся и сделал кадр: надо мной сеть ивовых ветвей, я своим телом прорвал в ней дыру, которая не успела ещё сомкнуться, в прорыве ясное, голубое небо, и там, в центре небесного круга, – застывший в полёте коршун, скосившийся на меня. Снимок цветной и качественный. Иной раз я поглядываю на него, и по спине у меня пробегают мурашки.
А маленький рулончик этой ленты, расщедрившись, подарил мне кинорепортёр. И проявлена, и озвучена лента профессионально.
Как-то утром, на мотоцикле опять же, поехали мы с отцом городить остожья. Управившись к вечеру, попили на покосе чаю и подались домой. Вырулил я на гравийку и, зная, что отец спокойно переносит большую скорость, по крайней мере, не ёрзает там, сзади, на седле, стал подбавлять газу. А на повороте, днём ещё, оказывается, дорожники вывалили несколько куч песку, но предупредить знаком соответственным таких, как я, сочли за лишнее. И ситуация такая: не затормозить и не объехать – крут поворот, велик крен. И скорость для резких манёвров не подходящая. А в результате вот он, тот рулончик: Перелетаю я через руль, плавно переворачиваюсь в воздухе лицом к вечернему небу и вижу: с топором в руке проплывает надо мной отец мой, глядя вдаль и громко сожалея о нашем с ним родстве. А когда оба мы благополучно шлёпнулись на две разные кучи, отплёвываюсь я от попавшего в рот песка и слышу:
– …
Но звукозапись, чтобы как можно дольше не стиралась, включаю редко, и случай сейчас не тот.
Я теперь думаю, что есть в этом какая-то закономерность. Или последовательность. Или что-то ещё. Я помню там, под городом Исленьском, в большом, районном – когда-то казацкой станице – селе, где я бывал мальчишкой, домик, двор и огород деда моего по отцу, Несмелова Павла Григорьевича. Домик плохонький, дворик хиленький, и огород такой: не поймёшь, где посажено, где само растёт; и изгородь вся перекошена – просто следить за всем этим было уже некому. О палисаднике и говорить нечего – нет палисадника, никогда и не было. Тут, прямо под окошечками с неокрашенными, без резьбы и узоров и без иных затей наличниками, и свиньи хрюкают, почёсываясь об угол дома, и куриц собаки дерут, и, глаза жмуря, скотина опорожняется. И иные чудеса творятся. Силы Павел Григорьевич был необычайной, но тратил её, по рассказам отца и тёток моих, необыкновенно: на гири, демонстрируя мужикам, бабам, детям местным и народу проезжему свою мощь, да на брёвна листвяжные, вскидывая их на плечо или поднимая на шее, но никуда не перенося и в дело не пуская, так только: желающих потешить. И умер дед Павел, хоть и в девяносто лет от роду, не такой смертью, о какой православный мечтает. Пришёл с гулянки домой, а перед крыльцом бык приблудный стоит – не обойти его и не объехать. И на уговоры не поддаётся, скосил глаз, кровью налитый, на деда – и ни с места, копытом лишь загребает, плахи настила выворачивая. Беседовал дед с быком по-доброму, убеждал его убраться по-хорошему, а потом, терпение израсходовав, осерчал не в шутку и давай ему выю гнуть. Упёрлись оба, кряхтят да рыкают, но чтобы оттиснул кто кого хоть на пядь – ну никак. И перетаптываются вокруг одной оси незримой, как вокруг столба. У быка пена с губ и там, из-под хвоста, от напряжения непрерывно, а дед – тот:
– Вот бычончишко-то! Вот где тварь лупошарая! – говорит и харкает скотине в «буркалы», побагровевшие от крови. И так оба: топ, топ по оси. И вдруг – на тебе! – неудача роковая: угодил дед ногой в его, быка, свежий помёт и поскользнулся, а бык только этого будто и ждал – сорвал с места, припёр противника к стене амбара и вспорол ему рогом живот. И держал бы так, пока сам не сдох и деда бы не уморил – в притчу ведь оно, упрямство бычье, – да выскочила из избы бабушка Евдотья, жена дедова, и залепила быку в ляжку заряд картечи из берданки. Лет около пятнадцати после пролежал дед в постели почти бездвижно, попил водки, а потом на Четверг Великий, выматерил как мог перед бабкой детей своих, вытянулся в кровати, спинку у той чуть не отломив, произнёс: «Не жалею», – и помер, Светлого Воскресения не дожидаясь. А всех детей у деда и бабушки Несмеловых, вместе с отцом моим, было восемнадцать, но за пределы детства Бог допустил лишь четверых. И вот о чём я.
Дядя мой, Павел Павлович Несмелов, видел которого я только на фотографии, не попрощавшись с родителями, молоденьким пареньком расплевался с крестьянской жизнью, во время гражданской войны сначала пособачил с тоже молодым тогда Аркашей Хайдаром-Голиковым в Минусинской котловине, после попартизанил в елисейской тайге, а с осени сорок первого года по той же самой тайге, которую достаточно изучил, под предводительством хорошо известного в этих краях Митьки Опера, по фамилии Засека, сгинувшего после на Колыме, стал гонять дезертиров, кержаков, уклоняющихся от мобилизации, и других закононарушителей, пока – правда, гораздо позже – не встретился со смертью, прибывшей к нему в двух свинцовых шариках, которым мы и обязаны нашим переселением из Исленьска в Каменск-Кемский. И обе тётки мои, Ксения и Аграфена – сменившая впоследствии имя своё на Агнию – Павловны, породистые, красивые, севернорусской, поморской, фактуры, казачки, унеслись из родного гнезда, осели в Исленьске и устроились на высоких и тёплых должностях, заполучив в мужья по крупному партаппаратчику. И отец мой, Орест Павлович, вернувшись с войны, повидал наскоро свою первую жену с двумя детьми своими, порадовал кой-какими трофеями, отнятыми им у Третьего Рейха и уместившимися в вещевом мешке, раскланялся, глянул на детей да и отбыл туда же, в Исленьск, под крылышко к сёстрам, но несколько лет спустя покинул этот город без особого сожаления, уже вместе с нами, и занял пост участкового в Каменске. А до войны он заодно с сёстрами промышлял – и не из корыстных побуждений, а по искреннему убеждению – коллективизацией и расфасовкой казаков да крестьян, чем их уравнивая социально, по Северу. Была у него зазноба, которую, говорят, любил он больше, чем самого себя, но жениться на ней как комсомольцу себе не позволил, так как была она, его зазноба, кулацкой дочерью, так где-то потом, в Игарке, кажется, и пропавшей тихо вслед за своей красотой. Женился отец – в угоду, возможно, своим убеждениям – на батрачке, нажил с ней до начала войны дочь и сына, а на том – и точка.
И такой вот тут смех у судьбы: угодив в какую-то командировку, увидел отец на лесоповале молодую, вдовую и бездетную бабу, мужа которой расстреляли ещё до войны за какое-то высказывание в адрес партии большевиков, женился на ней и – не без помощи, конечно, сестёр – увёз с собой. Или: сначала увёз, а потом женился, что собственно, ничего особенно и не меняет. А бабой этой оказалась будущая наша мать, дочь бельского кулака-казака Русакова Егора Христофоровича, у которого детей было одиннадцать, и все они, даже посмотрев на Север, лесоповал и тот же сплав, остались живы, хоть и не очень здоровы. А самого деда, Егора Христофоровича, потрошили «христопродавцы» два раза с перерывом в год, в двадцать девятом и в тридцатом, и два раза он умудрялся отстраиваться на голом месте да обзаводиться каким-никаким хозяйством, и не с помощью золота или денег, которых не было, а трудам своим благодаря. Так вот. А после, в Игарке уже, как-то ночью Егора Христофоровича увели из барака, назад же привести забыли. Я не знаю, что здесь плохо, что – хорошо? Я знаю только, что есть в этом какая-то закономерность, последовательность ли, но какая – ум мой неймёт. Скажу ко всему прочему лишь то, что и мать моя, светлая о ней память, и в будни, и в праздники вставала как заведённая в пять часов утра, сновала челноком до вечера и спать ложилась с заботами, греша против завета Божьего, о завтрашнем дне. А мой отец той порой разъезжал по ложным и неотложным командировкам, валялся на кожаном диване в Кемской комендатуре или выкуривал в сельсовете пачками «Север», толкуя с мужиками о решениях партии и о крестьянском труде.
И вот тут ещё что:
Павел Григорьевич Несмелов и Макей Христофорович Русаков в составе Елисейского казачьего полка не раз сиживали бок о бок в одном окопе во время русско-японской войны тысяча девятьсот четвёртого года, судачили об общих знакомых, об иконах и колунах, что вместо винтовок привозили им на фронт, о вшах, не дающих покоя, о царе и о «жёлтопузых», делили махорку и харч, а вот о том, что когда-нибудь породнятся, и мысли, наверное, не допускали.
Но не всё ещё, ещё и вот что:
– Орест, отец твой, может, и жил бы с Дашей, первой женой своей, – сказала мне как-то тётка моя, Ксения Павловна, приезжавшая к нам в Каменск за грибами, – если бы не заняла Даша дом Лизиных родителей, это которую любил Орест. Так и жили врозь: она – в Лизином доме, запустила который… дом огромный, крестовик, а у неё силёнок-то, у бабы… а отец ваш с нами, у тятеньки. Как только у них ещё и дети получились? Оттого, может, что партбилеты рядом лежали. Но это я так, племянничек, в шутку, не принимай всерьёз… Да ещё и война помогла: Орест же, хоть и крут вроде характером, но не горазд на такие поступки, как развод, а тут четыре года всё-таки, срок, согласись, не маленький… что там греха таить… гуляла тайно Даша… да и то: одна, детей кормить надо было… сколько их с голоду поумирало. Это отцу-то уж не поминай…
И последнее:
В Исленьском краеведческом музее, в отделе «Послевоенное время. Период восстановления народного хозяйства», в витрине, под стеклом, лежат документы и две свинцовые плюшки, под ними надпись: «Этими пулями был бандитски убит герой гражданской войны Несмелов Павел Павлович».
Какой-то месяц зимы, какой – не помню. Должно быть, февраль. Рядом заснеженный ельник, в котором галдят вороны, галдёж их не тише нашего. Нам лет по одиннадцать-тринадцать. Штаны навыпуск, телогрейки взмокли и обледенели, телогрейки на нас – как панцири. Катаемся в глубокий сугроб с крутой крыши высокого, недавно выстроенного тока, что на отшибе села. Среди нас она. Она в голубой песцовой шапке, пообтрепавшейся кое-где и полысевшей местами, а на руках у неё большие Митины шубенки. Мы по лестнице забираемся на крышу, идём вереницей по коньку и всей ватагой да с ликующими криками съезжаем стремительно вниз, но в одну сторону, с другой – электрические провода. Был с нами тихий отличник, решавший задачи десятиклассникам, Саша Черемных, единственный сын одинокой женщины Секлетиньи. И мы нескоро заметили, что Саши нет. И не сразу мы обратили внимание на след по крыше, но не на нашей стороне, а по другому её скату. Увязая по пояс в снегу, мы обошли длинное здание тока и увидели: висит Саша прямо у столба, возле фарфоровых изоляторов, на проводе под мышками, чёрный как ворон, и смотрит будто туда, вниз, на шапку свою, лежащую на снегу.
Сороки взбесились. А нами овладела немота. И паралич. И вдруг вопль – это она. Она стоит, втиснув лицо в шубенки и на колени медленно опадая. И мы, сбивая с ног и давя друг друга, уж бежим в село, и бег нам кажется долгим – до сумерек. И потом такое в памяти: собаки, вороны, сороки и тётка Секлетинья с санками… И всё это, так получилось, связано неразрывно в сознании моём с именем: Надя…
Мы уже живём в этом нашем последнем каменском доме, который купили у финна Илмаря Пуссы, переехавшего не то в Елисейск, не то в Эстонию. На дворе ясная, тёплая погода. Конец августа. Сестра Катя пойдёт этой осенью в восьмой класс, брат Николай – в седьмой, а я – в четвёртый. Сестра отсутствует – уехала в город за учебниками. Я и теперь ещё помню запах тех школьных книг, но с чем-то сравнить его не могу. Аналогии непрочны, рассыпаются. Книги всегда покупались сестрой и покупались для меня и для неё, а Николаю приходилось мириться с её прошлогодними учебниками; учебники сестры, правда, и через год оставались как новые. А уж он, брат, в конце последней четверти вытряхивал их из портфеля, как листовки.
Сестра в городе, отец в ограде возится с упряжью. В вечер, по прохладце, чтобы не замучил коня гнус, отправляется к кержакам на Сым. Там кто-то кого-то убил, не то кержаки геолога, не то геологи кержака. А мама – та что-то делает в избе, вероятно, собирает отцу в дорогу скромную провизию и смену белья. В сенях стоит большая деревянная бочка с водою доверху, на обруче бочки висит ковшик. А мы с Николаем на крышке той бочки разводим чернила – готовимся к школе, что мало на нас похоже. В бутылку из-под вина засыпали чернильный порошок, я держу бутылку, а Николай из согнутой специально для этой процедуры жестяной банки наливает в бутылку воду. Я пою и приплясываю – рот у меня тогда закрывался только на ночь, ноги мои на месте не стояли. И получилось так, как и должно было получиться: крышка перевернулась, бутылка из рук выскользнула и с игривым бульканьем погрузилась на дно. Не знаю, как брату, мне себя стало жалко, и не попусту. А он, брат, уж и рукав рубашки засучил, и уж будто нащупал там, на дне бочки, бутылку. «Ага, вот она», – говорит. В это время послышались на крыльце тяжёлые шаги отца. С яркого света улицы отец в сенях как слепой – идёт на ощупь. Мы пользуемся этим, тихо ретируемся и ныряем в дом. Мама видит нас и, не отрываясь от дела, говорит:
– Что с вами?
Мы отвечаем:
– Ничего, – и, затаив дыхание, слушаем, как оглушительно брякает в сенях крышка, шлёпает шумно о воду ковшик и гортанное отцовское: хык-хык-хык-ха-а-ац – попил, значит. А у Николая одна рука, та, что за спину спрятана, будто в длинной, чуть не по плечо, синей перчатке. И пальцы на руке: щёлк-щёлк. И отец входит. Не до нас ему будто, да и на самом деле так: умом в отъезде. И кончик носа у него, и губы, и зубы, и подбородок, и там, по горлу, – всё как у человека, который попал в бор, дорвался до черники и день целый ел её жадно и неряшливо. И мама смотрит на него и говорит:
– Что это у тебя?.. Ты в чём измазался? – и пойми она сразу, не спросила бы, ей-богу, а решила бы про себя: ладно, ладно, поезжай, мол, парень, так. «И поезжай бы он с чернильным ртом», – так она и скажет после.
А отец:
– Чё?.. Где? – и к зеркалу.
Он к зеркалу, а мы уже в сенях, мы уже в ограде, и я предлагаю:
– Рванём на Кемь… куда подальше.
Брат говорит:
– Да ну-у-у.
– Ты чё, – говорю я, – всё равно же умотает.
– Да ну-у-у, – говорит брат.
– Ну, ё-моё, чё ты заладил…
И дверь в доме скрипнула: пора, мол, ребята, хватит тянуть. А я успел ещё сказать:
– Задница у тебя, похоже, зачесалась, – сказал так и там уже, за воротцами, что в огород выводят, к щели пристроился. А он, Николай, будто врос в землю и, как прут ивовый, корни пустил, на сандалии свои уставился, будто новые они у него, «есть не просят», ещё прилавком будто пахнут. И я последний раз уже из-за калитки:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.