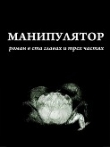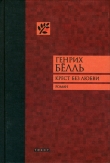Текст книги "Зазимок"
Автор книги: Василий Аксёнов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
А я чувствую, как ноги от боли леденеют, и перебиваю её, и говорю:
– Ладно, женщина, ну раз, ну пьяная, а после-то почему? – и не жду ответа, ответ ничего не решит и не изменит, лицо её, горечь переборов, целую, а у неё глаза на люстру, и так, рассеянно, будто день недели или число припоминая, бормочет:
– Только без этого, дорогой, только без этого, – и „дорогой“ этот не бабий вовсе, а будто с „югов“ в целлофановом пакете, на котором Боярский в полный рост или кудрявая Пугачёва отпечатаны, вывезен, вроде как не из сердца, а из тоста застольного кавказского выдернутое. И понимаю я, что о своём плешивом майоре думает, думает о том, куда, в какой экзотический гарнизон он увезёт её, и есть ли в том гарнизоне озеро или речка, думает. И мне вдруг так тоскливо сделалось, будто умер кто ночью и собаки по нему завыли. Да, да. Только я не с того начал. Это как локоть свой укусить – руку ломать надо, а руку ломать – больно, как больно, когда женщина лежит с тобой рядом, когда она тебе не сестра и не бабушка, разумеется, лежит, смотрит на люстру, только вчера как будто купленную и повешенную, и думает при этом о речке, о майоре и бог весть ещё о каком гарнизоне – бери ружьё, салага, и стреляйся. Или как я: не скрипи зубами, не порти их, они тебе ещё пригодятся, а скинь на пол одеяло, соскочи пружиной с кровати и скажи, что майор твой не только импотент, но и кретин отменный с набалдашником для париков, а не с головой. И прочь без замедления. Пусть тебе вслед кричит, что ей там злость подскажет. Но только я не с того начал, зелёноокая.
– Да, – говоришь ты, – а Митя-то тут при чём?
– А Митя здесь…»
Пуст дальше лист. Женщина сунула его в сумку и сказала:
– Пикуль. Ефремов. Андрамеда… Родители, наверное, алкашики, а? – сказала и посмотрела на девочку. – Есть или были…
Девочка встрепенулась.
– А? – сказала она.
– Ни хрена, – ответила женщина.
– Как мой бывший муж Александр, – сказала девочка и, взглянув на ларёк, добавила: – Дождь пойдёт – пари́т… да и мужики вон потные.
Промолчала женщина.
– Вот, – сказала девочка, поглядев на кружку, – пиво даже и то испарилось.
– Долго ли на такой жаре, – сказала женщина.
С Мончегорской вынырнули две машины ПМГ и, крадучись, словно на охоте, – одна по Ропшинской, другая по Большой Зелениной – поползли к Зеленинскому саду.
– Улов будет, – сказала женщина.
– А? – сказала девочка.
– Да ни хрена, – ответила ей женщина.
Возвращаясь минут через двадцать-тридцать, машины плавно, как капли по стеклу, и тихо, как мыши по траве, прошелестели мимо пивного ларька. Из кабин поглядывали грустные, распаренные милиционеры. В зарешечённое окно фургона хлестал веником мужик и кричал что есть мочи:
– В баню третий день не дают пройти, суки! На мне уж кожа от грязи, как на картошке шкура, лопается!
Из последней машины, высунув обнажённую квадратную голову, к сидящей на обласканном солнцем бордюре парочке долго ещё присматривался сержант. Но явно не он, не сержант, так пронзительно выкрикнул:
– Ку-ка-ре-ку-у-у!
Женщина поднялась, отряхнула плащ и, поманив болонку, кусающую кобелька в плисовую телогрейку, сказала:
– По-моему, пойдём. Похоже, что сержант в меня или в тебя влюбился. Дело, слышу, и до петухов уж докатилось. Чего же нам-то тогда ждать. И твоего Александра давно бы тут уж не было, – обратилась она к девочке.
Взяв собачек на руки, женщина и девочка перебрались через бордюр, миновали маленький скверик и канули в лабиринте просвеченных солнцем подворотен.
И кто бы мог подумать:
Через полчаса зарядил дождь. Квартальный ветерок вслед за голубями юркнул на чердак. Прибило к земле и расквасило по асфальту тополиный пух. Побурели в саду рыжие дорожки, погустел цвет травы, заблестели листья на деревьях. В канализационные колодцы побежала вода, журча и увлекая за собой скопившийся возле поребрика мусор.
Уныло.
Тепло.
Душно.
И безлюдно.
Только по Чкаловскому, под большим, как пляжный грибок, зонтом, бродят, прогуливаясь, бабушка и её дебильный внучек.
Может быть, мальчик живёт с бабушкой. Может быть – один. Может быть, здесь, на Зелениной. Может быть, мальчика зовут Юрой. А на кепочке его изнутри, может быть, хлоркой вытравлено: «Лабудин Ю.».
И:
Может быть, мальчику четырнадцать лет. Может быть, сорок. А может быть – «сиксильён»?
Сторона А
Немолодой уже лейтенант милиции Шестипёров, на которого «повесили» это дело, морщась от головной боли – последствия двухдневного ликования по поводу родившегося в пятницу сына, – открыл ключом ящик стола, достал папку, с трудом развязал тесёмки и, массируя левый висок, в котором боль казалась сильнее, чем в правом, начал читать рукопись, состоящую из сотни хаотически пронумерованных листов папиросной бумаги и массы обрезков с какими-то заметками и выписками, отпечатанными на той же машинке, что и сама рукопись.
Часть I
Глава первая
Водолей: стихия – воздух; планета – Сатурн (Уран); цвет – коричневый; число – 4; день недели – суббота; металл – уголь; камень – чёрный янтарь. Характер Водолея впечатлительный, натура эмоциональная. Сатурн обрекает Водолея на покорность судьбе, которая не всегда бывает счастливой. Это планета грустных воспоминаний, неосуществлённых надежд. Уран, напротив…
Мне иногда кажется, что я сумасшедший и что все это знают, но никто мне об этом не говорит.
Господи, самый долгий и трудный путь мой пока – к смирению. Да не в обратном ли шагаю направлении?
«Рукопись Ваша поначалу меня крайне встревожила, насторожила. Раздражали парадные или, как хотите, романтические фразы: „…пальцы, соприкасание которых…“, „…запах берега и моря стоит незримою стеной…“, Ваша „зелёноокая“ (а почему не просто „…глазая“) и прочее, а также – бесконечное число вводных слов: „возможно“, „вероятно“, „наверное“… Будьте увереннее, если хотите уверить читателя. Но! После того как Вы объяснили мне Вашего Героя и его отношение к автору или, как Вы утверждаете, к авторам, а авторов к Герою, мнение моё по поводу текста и способа решения Вами Вашей задачи несколько изменилось. Однако: не будете же Вы это объяснять каждому читателю. Некоторые места считаю удачными, кое-где даже забывал про Вас, переставал Вас как бы видеть параллельно тексту и, признаюсь, читал не без удовольствия.
И всё же советую подумать о композиции, а заодно почитать Барта, Шпета, Лотмана, Фуко, Выготского, Дерриду, Лакана, Батая, Башляра, Гуссерля и Крошмантоцкого. У Флюгера вышла занятная книга по амебейной композиции, жаль, что Вы не знаете по-немецки.
Искренне Ваш Ф. Бриттов»
Я слышал: в Ворожейке, что километрах в семидесяти от Ялани и почти в ста от Каменска-Кемского, в маленькой кержацкой деревеньке, ныне совершенно уже обезлюдевшей, жил-был когда-то славный гончар по имени Епафрас. Вылепил Епафрас из глины женщину и оживил её. Получив жизнь из рук скудельника, женщина тут же покинула его дом и ушла в лес, а в день первого снегопада каждый год с тех пор возвращается на свою родину. Говорят, легенда это. Я полагаю, я боюсь, что – явь: женщина существует, или не так, женщина живёт, мало того, она теперь здесь, я встретил её однажды тут, в Зеленинском саду, она мне странно как-то улыбнулась и…
«И ещё: не заземляйтесь, прошу Вас, не заземляйтесь. Зачем Вам Эдита Пьеха, зачем Вам Эдуард Хиль, пусть и известные как исполнители, и все эти, простите, чуваки в клешах и „роллинги“ с „битлами“?
Ваш Ф. Бриттов»
Удерживая в голове все долгие и путаные объяснения, создаю для себя условность: жизнь человека фрагментарна – если, конечно, не брать во внимание ещё и ту непрерывную прямую или кривую, соединяющую рождение (или зачатие) и смерть, – и из фрагментов складывается мозаика его судьбы, если признать что есть такая, – таково моё об этом представление. И фрагментарным (или мозаичным), на мой взгляд, должно быть литературное произведение, я имею в виду прозу, и, естественно, только свою. И вот ещё что только: чему в нём, в произведении, следует отдавать предпочтение – откровенности или откровению? – тут я запутался. Это не тезис, не пункт программы, это не манифест, а так – представление моё об этом на сегодня, и, если, допустим, завтра придёт ко мне в гости Аношкин, об этом же самом я скажу ему по-другому. Я ему скажу: «Тем, что воспринимаешь музыку, ты обязан памяти, так как то, что ты слышишь, связываешь или сопоставляешь с тем, что уже прозвучало, но закрепилось в ней, в памяти, а не исчезло из неё бесследно. То же самое и с жизнью. А теперь представь себе такую жизнь, которую можно повторить или воспроизвести в музыкальном произведении так: до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до; или наоборот: до-си-ля-соль-фа-ми-ре-до – ну… и так далее». В действительности, если будет трезв, Аношкин промолчит, а в романе он должен ответить мне так: «Сударь, да вы софист», – или что-то в этом роде… хотя нет, не Аношкин – ни трезвый, ни пьяный, он так не скажет… очень уж литературно… И всё же интересно: в каком музыкальном жанре можно воспроизвести жизнь того мальчика – если не жизнь, то биографию, – которого я встречаю иногда в Зеленинском саду или вблизи от него?
В те дни, когда я подозреваю себя в сумасшествии, вера в то, что я почитаю за реальность, становится зыбкой. Когда это проходит, вера утверждается, а сумасшедшим для меня становится кто-нибудь другой, тот же, к примеру, Аношкин.
Можно повалиться в распаренную солнцем траву или засесть в ладное кресло и по выбору, зависящему от настроения, приглашать к себе в гости воспоминания, но и в этом случае произвол памяти непременно покажет вам своё раздвоенное лицо и – мало того – примется вить верёвки из вашего настроения, так что и получается, будто режиссёр ваших реминисценций и не вы вовсе, а ваша память, и режиссура её бесконтрольна и бесцензурна, а отсюда и вывод: память – хозяин, а настроение ваше – холоп. А сами вы при этом и ничто будто, почти ничто, почти – корзина или совок дворника: чем наполнят, то и неси – и вывалить всё это вы не в состоянии самостоятельно. К тому же: о чём попало можете думать или говорить, что угодно, сосредоточившись или расслабившись, делать и вдруг – тут вам и шутка – вспомнить… вспомнить и рассмеяться – мало ли таких ситуаций, – рассмеяться в самый неподходящий для этого момент, что в лучшем случае, а в худшем – обомлеть, покрыться мурашками и утратить мгновенно желание жить. У меня, во всяком случае, так и бывает, за всех ручаться не могу. И ещё я думаю: в моей, конечно, воле прилечь в траву, занять кресло или расположиться в любом другом, благоприятном для тела и размышлений, месте, а затем настроиться постепенно на приём программы моего прошлого, но с чем, каким или в каком состоянии я выйду из этого сеанса, зависит не от меня, а от моей памяти, то есть от того, каким образом она распорядится своим холопом. Всё это обычно и естественно.
Я беру папиросу, прикуриваю и, находясь в своей комнате, опускаюсь не в траву, а в кресло, и так, что вижу при этом только тёмную, однотонную штору. И ничего конкретного у меня пока на уме – какие-то, будто мыльные, пузыри и мутные пятна на холсте моей памяти, какие-то цветные, как у Мондриана, квадратики и прямоугольники, ещё какие-то объёмы и формы, названия которым я не найду и настроение от которых у меня благодушное. Я глубоко затягиваюсь, отвожу в сторону папиросу и в движении этом узнаю вдруг отца: те же руки, пальцы те же и та же самодовольная плавность жеста. Что-то тоже ещё. Так иногда в походке, смехе или в мелькнувшем выражении лица, которое чувствую, а не вижу, я узнаю в себе мать, узнаю и пытаюсь задержать, продлить радость обнаруженного сходства. И тогда прилив нежности к ней, к матери моей, давно покойной, захлёстывает меня, захлёстывает и, к великому огорчению, растворяет ощущение столь желаемого подобия. Где ты, сказочная женщина, моя прекрасная мать? Где тень твоя? Не тяготит ли тебя вечный досуг теперь, после тяжких и ежедневных трудов? Дай знать о себе с оказией, весть о себе пришли тихой мелодией в лунную ночь, когда засыпает город и в окнах последних угасает свет. На ухо шепни мне дождём ленинградским, когда над самыми крышами нависают небеса. В дочери моей напомни о себе, во внуках моих. Мир тебе прахом. Земля тебе пухом. Царствие Небесное.
Я стряхиваю пепел, сознательно закрываю глаза, чтобы отречься от рук. И в это время, чтобы схожесть не проявилась в чём-то другом, думаю, что никогда, как, впрочем, и мои брат с сестрой, не хотел походить на отца, а если, не дай бог, отцовское что-то сам или с чьей-то помощью находил в себе, то весь свой дух, словно пса цепного, спускал и натравливал на отмеченное сходство, чтобы и помину от отцовского наследства не осталось. И ломало меня, и корёжило, и в бреду по постели пластало, а как – и стыдно вспомнить! Ходил – ноги вывёртывая, лишь бы походку изменить; говоря, голос искажал – зачем, Господи? Одно имя мне после этого: дурень. Хоть сейчас поглумись над собой. Голос так и остался отцовским, и ногой правой при ходьбе до сих пор по-отцовски заплетаю. И надо же: думать старался не так, как отец, иначе, а как думал отец – кому? – только ему да Богу могло быть известно. И вот ещё что: в наших детских, да и во взрослых уже, хоть и нечастых, ссорах самым обидным было услышать: «вылитый батюшка», «голимый ли отец». Действовало это как удар палкой по голове или как гром внезапный, после которого наступало молчание, или звучала вслед за коротким шоком, если фраза адресовалась сестре, серия нервных и гадких «да! да! да! да!», затем – слёзы, разумеется, и конец раздора с немым примирением. Боже мой, думаю я, где же вы, дни жадного восприятия, любви и желаний, ненависти и притворного равнодушия? Ничего, ничего. Один пухлый, больной, а оттого и огромный – во весь мозг – ответ на всё: «Ну и что!» И уж на такую малость – на притворство – сил нет. Сил нет даже на то, чтобы отписать на полученное ещё год назад письмо от сестры, не видел которую и не слышал пятнадцать лет, сдавшую за этот срок, чему письмо свидетель верный, кандидатский минимум на профессиональную истеричку, ну да я ли ей судья. «Где совесть твоя, дорогой братец! – пишет сестра. – Прокутил, что ли! И ты весь в отца! Был дома и не покрасил оградку на маминой могилке!» – пишет сестра. Ну и что, думаю я. В сердце моём оградка. Окрашена. И вместе с памятью поблекнут краски. И в кого, в конце концов, как не в отца, думаю я, и уродиться мне, сестрица. Но кто же оповестил тебя, думаю я, кто удосужился? Будто и некому. Не она же ведь, не мама… И уж вслух, открывая глаза, говорю:
– Да простит нас Бог, дорогая сестра! Что горды – простит, что черствы – простит. За бездушие, равнодушие и за то простит, что друг друга понять не желаем. За те горы камней, перекиданные нами друг в друга, из которых зло между нами и против нас города с крепостями воздвигло. Простит, надеюсь, и прочие грехи, нет которым числа. Только вот: прощения просить сил нет. Да и совестно, – и беру в щепоть папиросу, в пепельнице её сминаю, отвожу руку и…
И завертелась, посвистывая смазанными подшипниками, рулетка памяти. И там, на зелёном сукне, проступило едва оно, лицо раздвоенное. И мчится, в изнемождении замедляя бег, скаковой жеребец. Достигает цели. Останавливается. А всадник кланяется и передаёт пакет.
В пятьдесят восемь лет вышел отец на пенсию и обрушившееся на него свободное время не знал, как убить. К делам по дому и хозяйству он не привык, отвык ли за военные годы и годы службы участковым, а устраиваться на какую-либо работу не захотел, да и некуда, сказать по правде, было – оскудел уже к той поре Каменск-Кемский ремёслами, обезлюдел. К рыбалке отец пристрастия не имел, а на охоту далеко ходить ему не позволяли простреленные на фронте ноги, за рябчиками разве, так им сезон определённый, не во всякое же время года. И в первые дни его пенсионного отдыха на отца было больно смотреть: сидит – курит; бродит по дому, по ограде ли – папироса в зубах, а прежде чем уснуть, ещё не раз поднимется и посмолит. И шебуршит в потёмках там, в прихожей, коробком, и чиркает спичкой, и: пых-пых, кхе-кхе, хо-о-ой, мать честная. Пуще всего боялся отец сенокоса и всякими правдами да неправдами старался оттянуть его начало, пользуясь любым поводом: подолгу по всему Каменску разыскивал отменное точило, будто любое не сгодилось бы, затем тщательно вострил среза, а после этого подправлял рассохшиеся окосища и ремонтировал грабли, хотя всё это, как мужику, ему следовало бы сделать загодя. Работы как таковой он не боялся, был в своё время лучшим пахарем, и коли уж за что-то брался, то делал за семерых и до седьмого пота, но самым тяжким и сложным для него, лихой бедой, было на работу настроиться. До выхода на пенсию такой нужды не было, избегать столь тягостной для него настройки отцу помогала служба. В самую горячую пору он объявлял вдруг о неотложной командировке, скоропостижно уезжал и, слоняясь по кержацким заимкам да леспромхозовским посёлкам, не показывался после дома в течение двух, то и трёх месяцев, предоставив матери полную свободу заботиться о нас, пока мы были ещё малыми; о деньгах, которых с алиментами отца, платившего трём женщинам, несмотря на жёсткую экономию и мамино шитьё на заказ по ночам, никогда не хватало; о картошке – нашем основном, помимо молока, продукте, – которой сажалось не меньше двадцати соток, которую нужно было посадить, окучить и выкопать; и о сене, которого ставилось на корову, телят да ещё и на коня отцовского, служившего мало, а сена за зиму съедавшего столько, что и двум добрым коровам не съесть. Кроме того – ещё и о дровах, напили которые, расколи, сложи в поленницы, а после вывези заблаговременно из леса – зимой без дров в нашем краю не выживешь. Кто жил в деревне, может этот перечень продолжить… Но и тут так: не всё коту масленица. Настало наконец то лето, когда сенокос для отца оказался неизбежным и предстал перед его вольным воображением, как анчутка перед оробевшей старухой. В дни неистовой душевной подготовки к косьбе, видимо, и пришла отцу в голову эта затея с умывальником, всю свою медную жизнь провисевшим у нас на кухне за русской печью. Июль первого отцовского пенсионного лета выдался сухим и жарким. На кухне, теневой и прохладной, спасаясь от зноя и духоты, ютилось множество мух, которых отец люто ненавидел. И вот в то утро, когда я, брат Николай и мама собрались идти на покос, чтоб унести туда литовки, топор, чайник и прочие сенокосные причиндалы, наладить там таган и балаган, а заодно и закоситься, чтобы другой кто угодье наше не занял, не сомневаясь, что и отец составит нам компанию, он вдруг, не посвящая никого из нас в свою задумку, подался в закутье. Ругая громко (они, мол, довели, «засидки проклятые») назойливых насекомых, выдрал из стены гвозди, проклиная стену, гвозди и того, кто их забивал, а забивал их когда-то он сам, отец освободил умывальник, обдав нас, стоявших у двери, как железнодрожный состав, ветром, вылетел из дому и заметался по ограде в поисках места, куда бы пристроить умывальник «посподручнее» и «потолковей». Находиться с ним рядом в такие минуты было тяжело и опасно. И ещё: находясь с ним рядом в такие минуты, волей-неволей ты начинал чувствовать себя в чём-то виновным. И самым верным тогда было: живее с глаз долой – что мы и сделали не мешкая. А о том, что произошло после, со слезами и смехом нам рассказала вечером остававшаяся домовничать сестра Катя, которую отец, в отличие от нас, и пальцем никогда не трогал, но от шуток своих, вроде: «у-у, толстопятая, туес с опятами» – не избавлял. Реакция от таких шуток у Кати была неизменна: лицо и тело её тут же покрывались аллергическими пятнами и волдырями, чего отец либо не замечал, либо принимал как добрый признак дочерней стыдливости.
А произошло тогда вот что.
Умывальник, в конце концов, был устроен – «сподручно» и «толково», – и на полочку, прибитую возле него, отец положил кусок розового туалетного мыла. Сооружение полочки, по свидетельству сестры, поглотило у отца почти весь день, а у нас, когда мы вернулись с покоса и увидели её, полочка вызвала изумление, как, впрочем, изумляло всё, что производили отцовские руки. Одна из тёток моих, а его, отца моего, родная сестра, приехав как-то к нам из Исленьска в гости и увидев изготовленное братом коромысло, сказала:
– Коля, ты голимый тятя, но тот хоть помнил, откуда руки у него росли, и ни за что, кроме тяжестей, никогда не брался. Не коромысло это, Коля, – сказала тётка, – честное слово, не коромысло… Ещё такое же – и сани тракторные делай… Полоз для них… Как только ребятишки и Тася его и таскают? Надорваться.
Но тем не менее полочка и по сей день жива-здорова и долгое время служила как подставка, на которой мы размещали два-три ведра на случай дождевого потока.
А пока отец ходил в дом и, не спрашивая у дочери, искал свежее полотенце – где что лежало, он никогда не знал, кроме, конечно, пистолета и партийного билета, место которым было в комоде, под бельём, – словом, когда он нашёл полотенце, чтобы после усердных трудов, сполоснув, вытереть им руки, мыло с полочки исчезло. Тут мы его и застали. Вид, надо сказать, у отца был свирепый. Ни льва, ни тигра на воле видеть мне не доводилось, но оторопь моя, предполагаю, перед ними вряд ли оказалась бы сильнее той, что я испытывал порой перед отцом. Размахивая полотенцем, словно разгоняя дым или мух, отец метался по ограде и на чём свет стоит поносил нас: ничё с этим народом никогда не улежит, дескать, на месте! Перечить ему было бесполезно, и, из опыта зная, что любое противодействие, будь то бушующая природная стихия, вызвало бы у отца в ответ только слепую ярость, поступили мы иначе: я и Николай сели в тень под навесом и стали смотреть, ожидая, чем всё закончится, а мама вынесла из дома другой початок мыла и положила его на полочку. Отец видел это, но скорость метания не замедлял – так, сразу, сбавлять нельзя, не по семейному авторитету. Сужал, сужал отец круги и приблизился наконец к умывальнику, ну а уж тут и сам бог велел – поплескался, пофыркал, потёрся сердито полотенцем, из рук которое на всякий случай так и не выпускал, и успокоился. А за ужином, после кружки медовухи, даже и анекдот рассказал, который мы знали уже наизусть, рассказал и посмеялся, дотошно растолковывая его суть. Так вот, к следующему вечеру пропал и другой кусок мыла, после чего отец сделался молчаливым, но безмолвие это было молчанием назревшей и готовой разрядиться грозовой тучи. А на третий день полочка снова оказалась пустой. Теперь и отцу стало ясно, что грех не на нас, а на вороне, которая постоянно вертится возле нашего дома и тащит всё, что плохо лежит и ей подсильно, если б могла, и мотоцикл утащила бы. Какой уж тут сенокос! Косить отныне наша забота, а для отца расквитаться с воровкой – дело чести и профессиональный долг. И тут отец взял и как бы выписал себе местную командировку. С вечера ещё он зарядил патроны, почистил и смазал ружьё, чего не делал лет двадцать, наверное, а утром, когда мы отправились в лес, он, приказав Кате не высовываться, пока не прогремит выстрел, засел в предбанник, замаскировался и стал караулить. Ворона осторожничала, мыло ли её больше не интересовало – на целый век запаслась, – и два дня, за которые отец, прея в укрытии, искурил несколько пачек «Севера», удачи не принесли. Но на третий день ему подфартило. Ворона долго, покаркивая, сновала от столба к столбу, выглядывала, выслушивала, вынюхивала, но, так и не обнаружив охотника, затаившего дыхание под овечьей шкурой, осмелела и шмыгнула к умывальнику, где ради приманки на полочке отцом была положена ярко-красная мыльница, нарочно для этого купленная и прикрученная к полочке шурупом. И тут бы… но и на старуху бывает проруха: старый боец и меткий стрелок – при мне, стреляя из «мелкашки», разрезал отец пулю надвое об приткнутую к доске опасную бритву, – угорев знойным днём под овчиной, дал маху. Потеряв горстку пуха и обронив из хвоста несколько перьев, дошлая, как говорит отец, и удачливая, как оказалось, хоть и до смерти перепуганная птица улетела, зато умывальник в одно мгновение превратился в лейку с большой вмятиной на медном боку. А уж после этого и началось: и ружью досталось, да так, что стрелять из него теперь можно было только солью, да и той из-за угла; и с рыком сорванный им же самим несколькими днями раньше тщательно прибитый умывальник полетал по ограде, шлёпаясь об землю, об забор и стену дома, успокоившись среди бурьяна задворков, там, пожалуй, и теперь ещё лежит; и патрон, что подвёл, принял под топором сначала форму лепёшки, затем смят вдвое, вчетверо, раскатан в шарик и вбит, наконец, в чурку, которая в свою очередь, и неповинная будто, попрыгала по ограде, постукалась об ворота, разлетелась на поленья и отправилась в крематорий – печку, что в летней кухне. И столбам пришлось, на которые ворона садилась, и поделом, наверное. Только полочка чудом каким-то избежала наказания, может быть потому, что, как на грех, и мы тут подвернулись, и весь оставшийся гнев был обрушен на нас: из-за нас, мол, и ружьё мажет, и ворона не так садится, и ноги из-за нас, мол, он об столб зашиб, что и на покос ему теперь ходить будет одно мученье. А наругавшись и заодно разобидевшись, отец, по обычаю своему, выбегал на улицу, садился на первое пролетающее облако и уплывал туда, куда его гнал ветер.
Уплыв за пределы Каменска и поостыв в небесных сквозняках и струях, отец спускался на землю и возвращался домой пешком, но не было так, чтобы – трезвым.
– Тебе там, что ли, поднесли? – спрашивала его мама, кивая в сторону горизонта.
– Там, там, – отвечал он, обмякший, – а то где же… У тебя ж не выпросишь. Там-то в три раза лучше, – говорил он. – Там никого – это раз, а два – там и вас нет. А оттуда, если даже и посмотреть на вас, – говорил он, – вы букарицами покажетесь, а дурь ваша – букашечьей, – и это уже три, – говорил он.
И долго ещё после, но уже в доме, сидел он на пороге или на стуле, стягивал с ног носки, пожимал плечами, вскидывал брови, жестикулировал, пьяно крякая, и куражливо что-то бормотал. А это уже потом…
А это потом, когда после трёхлетнего перерыва я видел его в предпоследний раз. Сойдя с автобуса и приблизившись к нашему дому, на скамейке под берёзой увидел я старика с запавшими щеками, с седою по ним щетиной и слезящими от сентябрьского солнца глазами. Я тихо подступил к нему, тихо спросил:
– Папа, ты сейчас опять там… на облаке?
А он, уставившись на кирзовые сапоги с загнутыми, как у пересохших на печи бахил, вверх носками, на жёлтые ли, опавшие с берёзы и густо устлавшие поляну перед домом листья, не сразу ответил.
– Нет, – сказал он. – Я не могу уже туда подняться… И я думаю… боюсь я… – и молчит. И на меня так и не смотрит.
А я жду, я не спрашиваю.
– Боюсь, – сказал он. – Боюсь, скотский род, что окажусь там не один… и будет стыдно, – и заплакал.
И я сел рядом. Я заплакал.
Я рано вставал, и никто меня не будил. Я наскоро завтракал и спешил в школу. Вбежав в класс, бросал на парту свою матерчатую, залитую чернилами, сшитую когда-то мамой и унаследованную мной от Николая сумку и становился у окна. Я ждал.
Кого – никто, вероятно, кроме того, угрюмого, Сына Фанчика, который пристально, исподлобья всегда наблюдал за мной, которого только учительница, наверное, уважительно называла Осипом, не догадывался. Я ждал её. Я узнавал её ещё издали: по голубой песцовой шапке, в которой она приехала из Норильска. Она сворачивала с улицы и шла к школе между двумя рядами кедров по длинному тротуару, уже расчищенному от снега школьным дворником, по фамилии Школьный и по прозвищу Власовец.
И чудным, чудным образом дивный куржак на окне, изморозь на кедрах и берёзах, синеющий воздух утра и тёмный на горизонте ельник – всё томительно наполнялось значением: Надя…
Как жили мы в большом краевом городе Исленьске, где я и родился, совсем не помню. Ничего. Разве что это: будто видится мне глухой, мощёный двор с дикими яблонями возле двух– и трёхэтажных кирпичных домов. И ещё: вижу я вперемешку с мелкими пожелтевшими листьями акаций жёлтую пыль, заносимую во двор через вечно распахнутые, болтающиеся на скрипучих петлях ворота будто бы жёлтым ветром. Но вот моё ли это? Не присвоила ли чужое своевольно память моя? Не пришло ли, рассказанное старшими, это ко мне во сне? Тайком проникло, освоилось, свило гнездо и стало жить, из гнезда высовываясь изредка. Так оно и есть, пожалуй. А тогда в тайге возле Ялани попавший в облаву дезертир застрелил моего дядю, Несмелова Павла Павловича, работавшего в Каменске участковым. Отец съездил на похороны. Вернулся. А через месяц мы переехали в Каменск, что в сорока километрах от Елисейска, а от Исленьска – во всех пятистах да всё на север, вниз по Ислени, и место моего дяди занял его брат, а наш – отец, Несмелов Орест Павлович. Вскоре ли после нашего появления в Каменске, позже ли гораздо, наверно сказать не могу, но уже несомненно моё сознание оставило в памяти моей яркую метку, которая до сих пор, как лик с иконы, глядит на меня, а стоит прикрыть глаза – выплескивает на веки все краски того затаённого летнего мига:
Какое-то, кажется религиозное, ощущение своего маленького детского тела, будто бы и пахнущего ещё глиной. Мне пока всё равно где жить – куда ни увези меня, где ни поставь, ни положи ли, лишь бы при этом услышать: «Я здесь, я – твоя мама – рядом». Я в чём-то белом, свободном, в сорочке брата, может быть. Босой. Стою на тёплом от солнца крыльце. Крыльцо косое и низкое, ступени в три. Прямо от него вглубь двора и дальше, за изгородь, в огород, где и пропадает среди бурьяна, там заглохнув, растёт высокая, ярко-зелёная и мягкая на вид трава. И сколько бы раз, уже повзрослев, я ни спрашивал старших, никто о ней – ни сёстры и ни братья, ни мама, ни отец, – траве этой, не помнит. А там, за бурьяном, нет для меня пока ещё ничего, как нет для разума моего бесконечности, бурьян – граница моего мира. Трухлявые жерди и доски с клочьями прелой картофельной ботвы – бывшее перекрытие – обвалились и захламили проход во двор. Солнце покойно царит в этом пыльном, буро-рыжем хламе – двор давно уже не поправлялся, в доме до нас давно, наверное, не жили. Тело моё, поднявшись под просторной, великой для меня, сорочкой, обдаёт тёплый воздух. Я слышу:
– Сынок, я здесь.
Я принимаюсь вертеть головой и вижу: в траве, скрывшей край подола коричневой юбки, стоит мама, обратившись ко мне лицом, развешивает пёстрое бельё и улыбается. Я заливаюсь смехом – помню это почему-то затылком – и топаю ногами по почти горячей плахе крыльца. И ещё: между плахами – тёмные щели, куда проваливается солнечный луч. Там, под плахами, – тайна. И кажется, звучит какая-то лёгкая, тихая музыка. В доме открыта дверь, музыка, возможно, доносится оттуда, из репродуктора, который называли так: «тарелка». Может быть, с площади, со столба, на котором висел серебристый громкоговоритель – «колокол».