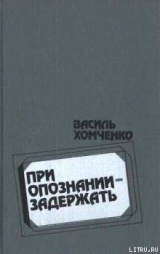
Текст книги "Следы под окном"
Автор книги: Василий Хомченко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
– Так, может, и у меня курортный роман?
– Аркадий Кондратьевич – человек серьёзный. Это не Цезик.
Так они поговорили, пока собирались к завтраку, и пришли в столовую в хорошем настроении позже своих соседей.
Зимин был в новом красноватом свитере с высоким воротником, с пушистыми вымытыми волосами – только что из бассейна. Не обращая ни на кого внимания, он встал и поцеловал Алену. Никакой реакции в зале этот поцелуй не вызвал – большинство его не заметило, а кто видел, посчитал обычной курортной галантностью и знаком симпатии, и только. Зимин спросил у Алены, написала ли она заявление на увольнение.
– Да некогда ещё было, – весело ответила Алена, нисколько не смутившись от его поцелуя на людях.
– Напишешь сразу после завтрака.
– Вот так, милая, – сказала с нескрываемой завистью Валерия Аврамовна, – все и кончается. Ты теперь в руках своего властелина и мужа Аркадия. Жена да убоится мужа.
– Жена… – засмеялась Алена и взглянула на Зимина, сосредоточенно расправлявшегося с отбивной. Вмиг вспомнилась его квартира, спальня, широкая постель… как стояла перед ней, не осмеливаясь снять платье, а потом словно в омут головой бросилась, ничего не помня, только ощущая, что вся горит… Вспомнила и почувствовала, что краснеет, нагнулась над тарелкой, чтобы окружающие не заметили.
Цезик все же заметил, произнёс глубокомысленно:
– Стыдливость – признак неиспорченной и стыдливой натуры. Алена Макаровна, будьте добры, подайте мне вон ту блондинистую булочку, – показал он на хлебницу, видимо, желая помочь Алене справиться со смущением.
Зимин опередил Алену, взял хлебницу, поднёс к Цезику.
– Выбирай любую, бедный философ.
– С тем, что я философ, не согласен, – миролюбиво возразил Цезик, – а что бедный, так это верно.
– Бедненький мой, – погладила его по залысинам Валерия. – И чем же ты бедный?
– Мне всегда чего-то не хватает. Потому и бедный.
– Ну, дорогой мой, – вступил в разговор Зимин, – бедность имеет свои преимущества. Она защищает человека от лишних друзей.
– Здорово сказано, – Цезик полез в карман за записной книжкой. – Надо записать этот афоризм.
После завтрака Зимин повёл Алену в свою комнату, где написал для неё заявление на увольнение.
«В связи с тем, что я, Комкова А.М., меняю место жительства по семейным обстоятельствам, прошу уволить меня с 12 мая этого года», – прочитал он вслух написанное, спросил, согласна ли она с таким текстом, и попросил подписать. Алена подписала. Зимин положил заявление в конверт, написал адрес и сам бросил письмо в почтовый ящик…
– Это надёжнее, – сказал он, – а то ещё передумаешь. Итак, рубикон перейдён, назад ходу нет.
Она не стала спрашивать, что означает этот «рубикон», постеснялась.
Потом они разошлись на лечебные процедуры.
Вечером Алена уговорила Зимина сходить на танцы. Тот согласился. Она уже собралась, но надо же было случиться беде: заболел зуб, самый ненужный человеку зуб мудрости. Болел он и раньше, но не сильно, боль сама утихала. Алена обругала себя, что до сих пор не нашла времени посетить стоматолога, тем более что и приглашение к нему было. Если бы не вечер, сразу бы побежала к врачу, а теперь вот жди утра. Медсестра дала ей какой-то раствор прополоскать рот. Алена прополоскала, боль утихла. «Как-нибудь потерплю до завтра, – подумала Алена, – а на танцы все же пойду».
Возле корпуса она встретила Магду. В этот вечерний час Магда, как обычно, была с ружьём, одета в те же военные брюки с красными кантами, солдатский бушлат и картуз. На ремне, которым был подпоясан бушлат, висела брезентовая сумка с патронами. На ногах – резиновые сапоги.
– Привет, землячка, – первой поздоровалась Магда, – ты что за щеку держишься? Кто-нибудь стукнул?
– Зуб проклятый разболелся. А к врачу только завтра попаду.
– Я тебе заговорю тот зуб. Идём ко мне.
– Заговорите? Ну давайте, – поверила Алена и покорно пошла за ней. Дорогой спросила, почему Магда в таких сапогах.
– На болото ходила, думала селезня подстрелить. Не удалось.
– Вы как партизанка.
– Нет, у меня тогда была не такая одностволка, а автомат пэпэша, папашей мы его звали. Здорово строчила из него по фрицам. Когда наши пришли, я солдату его вручила: бери, говорю, счастливый автомат.
Магда рассказала, как в партизанах лечила зубы, похвалила санаторного врача Валентина Павловича.
– Ну уж мастер, так вырвет зуб, что и не почувствуешь.
Магда жила в большой старой хате. Не таясь от Алены, она достала из-под крыльца ключ, отомкнула висячий замок и пригласила Алену войти первой.
Порядка в хате не было. Будто и прибрано, подметено, но в углу у печи куча мусора. Груда немытой, может, целую неделю посуды лежит в тазу. Кровать не застелена, на неё просто кое-как брошено пёстрое одеяло. На стенах ни фотографий, ни картинки какой-нибудь, а только выгоревший на солнце плакат, призывающий хранить деньги в сберегательной кассе. Такой беспорядок чаще встретишь в жильё одинокого мужчины, а женщины обычно любят уют.
Магда повесила ружьё и сумку с патронами на гвоздь в стене, подвинула к Алене табуретку, на которую та и села. Сапоги Магда сбросила стоя – махнула одной, другой ногой, и сапоги слетели.
– Вот сейчас я твои зубы вылечу, – сказала Магда, тяжело ступая по хате в вязаных из белой шерсти носках, – способ есть партизанский. – Достала из ящика стола бутылочку с какой-то тёмной жидкостью и дала Алене. – Возьми немного в рот и подержи. Увидишь, перестанет болеть.
Алена так и сделала. Жидкость была горьковатая, пахла спиртом, чабором и ещё чем-то незнакомым. Вскоре почувствовала, что боль утихла совсем.
– Ну вот, – догадалась Магда по её повеселевшим глазам, – полегчало, не болит. До завтра доживёшь, а там уж Валентин Павлович тебя вылечит.
Посидела Алена у Магды ещё немного, держа во рту ту жидкость, и жестом показала, что хочет пойти.
– Иди, иди, я тебе отолью в пузырёк этого лекарства. Как заболит, ты снова возьми в рот. – Она дала Алене маленькую бутылочку, и Алена поспешила на танцы.
Зуб не болел, и Алена танцевала радостно, весело и, конечно, только с Аркадием Кондратьевичем. Танцор он был не очень умелый, но старательный, поэтому Алене порой приходилось самой его водить. Правда, в тесной толпе танцующих и не различишь, кто неумека, а кто мастер. Топтались кто как мог.
«Надо же, – думала Алена, обнимая Зимина, – ещё несколько дней назад он был мне совсем незнакомый, чужой, а теперь самый-самый родной человек, и кажется, знаю я его и люблю давным-давно. Вот если б и он так же любил меня».
Ей почему-то вдруг снова вспомнилась его квартира, длинные полки с книгами, массивный письменный стол с чернильным прибором и пишущей машинкой на нем, стопки бумаги, журналов… Все те книги он, конечно, прочитал, а значит, на сколько же больше её знает. Это воспоминание, совсем не к месту и не ко времени, неприятно взволновало Алену, опять кольнуло, что она не ровня Зимину. Но ведь он любит её такую. Любит? Не удержалась, спросила:
– Аркадий, ты правда меня любишь?
Он наклонился к её лицу, дотронулся до лба стёклышками очков – на этот раз они были тёплые, – и шепнул в самое ухо:
– Люблю. Правда. – И поцеловал в то же ухо.
Появились Валерия и Цезик, лихо станцевали рок и сели отдышаться. Присели с ними и Зимин с Алёной.
– Чуть затянула своего кавалера сюда, – пожаловалась со смехом Валерия. – Все бы лежал да лежал.
Немолодой грузный мужчина с палочкой, наблюдавший за танцующими, с улыбкой показал на двух молоденьких медсестёр – они танцевали вдвоём, как бы подчёркивая этим, что для них тут нет достойных партнёров, поэтому и вынуждены танцевать на пару.
– Вот гляжу, любуюсь, какие девчата – голубки. Да-а, мне б годков двадцать прибавить. Тогда бы я…
– Прибавить? Скинуть, наверное, – поправил его Цезик.
– Нет, молодой человек, прибавить. Тогда бы они мне были совсем, как говорится, до лампочки, я б на них и не взглянул.
Цезик захохотал, достал записную книжку, записал.
Зуб у Алены заболел сразу же, как только кончились танцы, и она поспешила к себе в номер. Набрала в рот лекарства и легла в постель. Зуб мучил всю ночь, не помогла и целебная настойка. На утро, сразу же после завтрака, Алена отправилась на приём к стоматологу.
У двери его кабинета уже сидело несколько женщин. Алена заняла очередь, села на свободный стул, разглядывая листок на двери с напечатанным текстом, в котором она, немного близорукая, разобрала только слово «лошадь». Уж не фамилия ли это стоматолога, поинтересовалась она у соседки. В очереди засмеялись, женщина, сидевшая у двери, прочитала вслух:
– «Не кури! Курить вредно. Капля никотина убивает лошадь».
Другая, постарше, по виду деревенская, сказала:
– Врача зовут Валентин Павлович Егорченко. А лошади, милая, не курят, не люди они.
«Вот и полечит меня Валентин Павлович. А я расскажу про встречу с его внуком Кирюшей», – тепло подумала о враче Алена.
Доктор пришёл вовремя, ровно в половине десятого, вслед за ним медсестра. Плотный, даже полноватый, с бородкой и усиками, поздоровался на ходу. Уже одетый в халат и белую шапочку, вышел из кабинета, спросил, нет ли кого с острым приступом боли. Поднялась женщина, сидевшая первой в очереди, она и вошла в кабинет.
– Говорят, у него рука лёгкая. Зуб вырвет – не почуешь, – сказала пожилая, деревенская. – И лечит хорошо. Я вот подготовила ему за работу, – показала она трёшку.
– А что, он сам просит? – забеспокоилась Алена, так как денег у неё с собой не было.
– Просит или не просит, а я отблагодарю. Говорят, все отдыхающие так делают.
– Ну нет, я платить не буду, это запрещено и называется взяткой. – Алена вспомнила рассказы Зимина про такие подарки.
– Ты не давай, а я дам, – не уступала женщина, – и он меня лучше полечит.
«А может, все врачи не берут, а он берет, – засомневалась Алена. – Надо, видно, сходить в комнату да взять пятёрку».
Не успела она прийти в мыслях к чему-либо определённому, как дверь кабинета открылась, вышла первая пациентка и с ней врач, глянул на очередь и пригласил Алену.
– У вас, видимо, тоже острый приступ, – угадал он. – Прошу.
Она вошла, села в кресло, вся напряглась, со страхом ожидая усиления боли, когда врач начнёт возиться с больным зубом. Но боль пропала, зуб совсем успокоился, Алена попробовала даже нажать на него пальцем – все равно не болел, молчал.
– Что, – улыбнулся врач, – уже не болит?
– Ага, как сюда села, перестал.
Доктор записал что-то в историю болезни, спросил, не болели ли зубы раньше, потом подошёл к креслу, наклонился. Алена открыла рот, глядя прямо в его лицо, и первое, на что она обратила внимание, – ямочка на самой середине подбородка. Глубокая такая ямочка, её не скрывала и редкая бородка.
«Ямочка, ямочка, – застучало в мозгу, – ямочка на подбородке…» Она зажмурила глаза, сжала руками подлокотники кресла – врач начал стучать железным зондом по каждому зубу, отыскивая больной. Постучал и по зубу мудрости. Он отозвался внезапной болью, Алена поморщилась.
– Та-ак, та-ак, – протянул доктор, – а вот здесь есть ямочка, дупло. Сейчас мы его подлечим.
«Ямочка, ямочка», – все настойчивее вспыхивало в памяти, прорывалось из небытия что-то неприятное, тягостное. А поскольку то, что могло вспомниться, инстинктивно ощущалось недобрым, так же инстинктивно оно и не хотело вспоминаться, и Алена, ещё не зная, что это такое, боялась, как бы оно не вырвалось из забытья.
Врач включил бормашину, Алена сильнее зажмурила глаза, вся сжалась от назойливого жужжания.
– Сейчас я эту ямочку в вашем мудром зубе подчищу, – мягко говорил врач, – потом убью нервик и положу временную пломбочку.
«Убью…» – резануло её слух слово, сказанное, как показалось, с каким-то особенным нажимом.
Бор легонько, аккуратно – рука у доктора, чувствовалось, твёрдая, опытная – чиркнул по зубу, машина загудела иначе, и никакой боли Алена не почувствовала, только запахло палёным. Она осмелела, открыла глаза, и снова что-то неприятно шевельнулось в душе, когда увидела ту же ямочку на подбородке. Отвела от неё взгляд, посмотрела на все лицо. И вздрогнула. Низко над ней нависли выпуклые надбровья с бесцветными бровями, круглые глаза с тупым, застывшим, как у рыбы, взглядом, жёсткая линия рта. Алена опустила веки и, боясь, как бы они невольно не поднялись, хотела прикрыть их ладонью, но наткнулась на врача, и он отвёл её руку вниз.
– Сидите спокойно, – строго приказал он.
– Больная, вы же не даёте врачу работать, – сделала замечание и медсестра.
Голос его чем-то поразил Алену.
«Боже, неужели это он? Неужели он? – билась в голове догадка. – Не может быть. Не надо, чтобы он был. Не хочу!»
А бор все гудел, она слышала гудение, но не ощущала, сверлит ли он зуб или работает вхолостую. Попробовала отогнать свои мысли, свои догадки, подозрения и поняла, что не в силах. «Гляну ещё раз. Не может этого быть. Откуда он тут? Да его в живых нет. Не он, нет, не он». И глянула. Рот перекошенный, как от злобы. И глаза! Взгляд бездушный, остекленевший, рыбий взгляд. Он? Он, Семён Грак. И снова крепко зажмурила глаза – чтобы спрятаться от взгляда и от самого Грака.
– Поверните немного голову, – послышался его голос, но она даже не шевельнулась. Тогда он сам взял её голову и повернул.
Алена глянула на него смелей. Грак! Ей показалось, что она даже вскрикнула, назвав его по фамилии, но то был немой крик. У неё вырвалось только: «Ай!», и рука невольно ударила врача по лицу.
– Ай! – уже громче крикнула она и вскочила с кресла.
Медсестра бросилась к ней, что-то говорила, успокаивая. Алена не слушала её, глядела на врача, не мигая, в его такие знакомые остекленевшие глаза. «Глаза змеиные и взгляд змеиный», – подумалось ей, хотя никогда не приходилось видеть, какие у змей глаза, – наверное, такие, как у этого человека.
– Садитесь, – показал он на кресло, – и придержите руки, а то придётся привязать.
Алена резко повернулась и выбежала из кабинета, распахнув дверь ударом плеча. Так и бежала, не сбавляя скорости, по коридору, по лестнице, по двору, до двери своей комнаты. И в комнату буквально влетела, благо не было замкнуто – Валерия сидела перед зеркалом, покрывая лаком ногти.
– Куда это ты так спешишь? – спросила она.
– Так… ведь… – ответила Алена невпопад, – он это, он.
– Покрась и ты ногти, – предложила Валерия. – Лак хороший, польский.
Алена бросилась лицом в подушку, лежала, стараясь собрать свои мысли и чувства в одно целое, объединить их во что-то конкретное, а голова была тяжёлая, и сердце разболелось – не вздохнуть. Она попросила дать ей сердечных капель. Валерия подала в стакане и снова занялась своими ногтями.
Полежав немного, Алена призналась:
– Я ударила зубного врача по лицу.
– От боли? Ничего, зубным врачам всегда достаётся.
– А если он не виноват?
– Не переживай. Пощёчина – это разновидность массажа, она улучшает цвет лица.
– Болит, – простонала Алена, держась за грудь. – Сердце болит. Мамочка моя, зачем мне все это?! За что? А если он не Грак, тогда что?
Валерия, решив, что это все отголоски зубной боли, успокаивала:
– Потерпи, пройдёт.
– Никогда не пройдёт… Валерия Аврамовна, вы когда-нибудь видели живого убийцу?
– Мёртвые убийцы не бывают. Мёртвыми бывают их жертвы… О чем ты, не понимаю… Ты знаешь, куда я собираюсь? Цезик везёт меня в загородный ресторан. Вот я и готовлюсь. – Она говорила, не поворачиваясь к Алене. – Погуляем… А твой Зимин почему-то не захотел к нам присоединиться. Неужели денег пожалел?
– А если убийца спокойно ходит по земле, дом себе построил, внуков нянчит? Может быть такое?
– Все может быть, Алена. Брось ты про это… Я попросила у Аркадия Кондратьевича галстук для Цезика. А то ходит, как обормот. Может, уговоришь Зимина, и поедете с нами?
– А если я ошибаюсь? – словно сама с собой спорила Алена. – А если не он? – И чувствовала, как ей хочется, чтобы она ошиблась.
– Да что ты не отвечаешь мне? Я спрашиваю, может, и ты со своим поедешь с нами?
Они разговаривали, словно глухие, не слыша друг друга, занятые каждая своим. Валерия встала, помахала руками, чтобы быстрее высох лак на ногтях, покрутилась перед зеркалом, прихорашиваясь, показала Алене, где стоит флакончик с лаком, и вышла из комнаты.
Алена опять бросилась головой в подушку и зарыдала. Поплакала, постонала и почувствовала, что в душе утихло и в голове уже не такой сумбур. Одна мысль не давала покоя: врач Егорченко – Семён Грак или только похож на него? Прошло ведь более тридцати лет после тех событий, нетрудно и ошибиться. Но… эта ямочка на подбородке, выпуклые надбровные дуги, рот, перекошенный в жёсткой ухмылке. И глаза, застывшие, пронзительно-змеиные… Разве можно их забыть?
А если он – Грак, убийца, каратель, что теперь надо делать? Кому сказать о нем, куда пойти заявить – вот что она теперь решала. И решила сообщить в милицию. И все, что было для неё до этого важным, значительным, необходимым, даже любовь к Зимину и сам Зимин, отступило на второй план. Главным теперь было справиться со своими переживаниями, волнениями, с тем своим состоянием, из которого ей надо выплыть, как из водоворота, куда попала так неожиданно.
Все то, давнее, припомнилось и будто вновь ожило в душе…
Какие бы раны ни наносили человечеству, оно все равно выживало. А человек? Способен ли он выжить после смертельной раны, после трагедии, от одного вида которой можно умереть?
Та зима была какая-то нерешительная, хотя и ранняя, – только начался декабрь, а снегу уже навалило – сугробы лежали на дорогах, на улице, в поле. Кривонивцы радовались такому обилию снега – озимым хорошо, и немцы с полицаями лишний раз не приедут по бездорожью.
Деревня Кривая Нива была небольшая, чуть более тридцати дворов. У околицы, ближе к болоту, жил Комков Макар с женой Серафимой и дочкой Алёной. Макар прихрамывал на одну ногу, потому и не мобилизовали его, не подался он и в лес к партизанам. И в полицию силком не взяли – зачем им калека? Но с партизанами Макар связь поддерживал – передавал им нужные сведения через верных людей. Иногда, если надо было передать что-то срочное, посылал в лес Алену.
Старосты в деревне не было. Первого старосту – хорошего человека, которого сельчане уговорили стать им, – убили какие-то люди из леса, будто бы наши парашютисты, сброшенные с самолёта. И после этого быть старостой никто не соглашался. Вот тогда и придумали выполнять обязанности старосты по очереди, каждый двор дежурил по три дня.
Полицейский гарнизон располагался километров за семь от Кривой Нивы, в местечке Кругляны. Оттуда, а также из райцентра, и наезжали немцы и полицаи в Кривую Ниву. Появлялись они, как правило, группой по восемь-десять человек и всегда под командой своего начальника Семена Грака, по возрасту самого молодого из всех полицаев. Как он выбился в начальники, кривонивцы догадывались: уж больно старался перед фашистами выслужиться. Семён родился в Кривой Ниве, был старшим сыном Савки Грака, сельского активиста. Особенно активничал Савка накануне коллективизации и во время её. Всех сельчан, у которых было живности или земли больше, чем у него (а он имел одну лошадь и одну корову), относил к кулацким элементам. На сходках кричал: «Колхоза боитесь, потому как все кулаки и подкулачники, каждый день сало жрёте». – «Савка, – говорили ему, – а тебе кто не даёт кабана на сало выкормить?» – «Не хочу быть в вашем кулацком классе. Я бедняк». – «Лодырь ты и горлопан». Таким он был и на самом деле – лентяй, пьяница, мог и унести, что плохо лежало.
Когда организовался колхоз, Савка хотел пробиться в начальство. Народ воспротивился, не выбрал его даже бригадиром, и Савка сбежал из колхоза, бросив в Кривой Ниве семью. Брался за разную работу, даже кочегаром в бане был, пока не удалось получить портфель районного заготовителя.
Семён с матерью и младшими сёстрами жил в Кривой Ниве ещё лет пять после отцова отъезда, а потом Савка забрал их в Кругляны.
Случается в жизни – невзлюбят люди человека, так и детей его, хоть они и никому зла не делают, недолюбливают. А Семена Грака не любили вовсе не из-за отца, а за его поступки и поведение. Вроде бы и тихий был мальчишкой, окон не бил, в чужие сады не лазил, а гадил людям исподтишка, незаметно.
Семён любил командовать младшими детьми, подчинял их себе, и они ему послушно служили. Прикажет кому принести из дому сала, тот и несёт, не спрашивая родителей. Сало он потом поджаривал на костре, отрезал по кусочку тому, кто принёс, и тем, кто ещё обязан был принести. «Будем жить коммуной, – говорил он, – все будет общее». Так он и ел чужое сало, яйца, колбасу, пил молоко, которое тоже крали у матерей ребятишки.
А был он мстительный и жестокий, когда мстил. Расправлялся обычно не сам с виноватым, а руками других подчинённых «коммунаров». Суд правил так: «Ты наше сало коммунарское ел? Ел. Яйца коммунарские пёк? Пёк и жрал. Почему пай не принёс?» – «У нас сала нет, – оправдывался виновный, – всего три кусочка в кадке. Если возьму кусок, мать заметит и бить будет». – «А зачем наше ел, если нечем расплачиваться?» Выносил этому непослушному приговор сам, а исполнять заставлял других – их по очереди каждый день назначал. Наказания были разные. Самое лёгкое – вытаскивать из земли зубами щепку. Острую, длиной в палец, щепку Семён Грак кулаком вбивал в землю, и виновный должен был зубами её вытащить.
Чаще выносили приговор более строгий: секли ремнём. Экзекуцию проводил дежурный, а Семён считал удары. «Р-раз! Два! Три! – выкрикивал он, хлопая в ладоши, и глаза его, обычно остекленевшие, горели счастливым огнём. – Шесть, семь!..»
Мстил Семён умело, тайком, и не подумаешь, что это он нарочно делает тебе гадость. Мог будто по неосторожности подставить кому-нибудь подножку, и человек падал, разбивая колено. Наступал на ногу и делал вид, что жалеет, сочувствует. Он был просто счастлив, когда видел, что его боятся, что людям худо от его проделок. Очень любил, чтобы его просили, уговаривали, задабривали. Любил подчинять себе тех, кто слабее.
Пробовали жаловаться на Семена его отцу. Савка защищал сына: «А вы хотите, чтобы его обижали? И хорошо, что может за себя постоять. Он у меня в высокие начальники выйдет». Наверное, он и учил сына, как выбиваться в начальники, как подчинять себе людей. Поэтому и старались люди не связываться с Граками, боялись их мести. Старый Анис как-то стегнул Семена кнутом за то, что тот камнем прибил его курицу. А ночью у Аниса сгорела баня. Конечно же, Семён поджёг, а поди докажи, что он.
Когда Семён подрос, активность его, поведение изменили свой характер. «Коммуна» распалась, подросшие «коммунары» поумнели и вышли из-под его власти. По примеру отца-активиста Семён стал сигнализатором о непорядках в колхозе и в жизни односельчан. Привёз кто-нибудь из лесу бревно, накосил сосед сена для своей коровы на колхозной «неудобице» – об этом сразу же становилось известно в сельсовете, в правлении колхоза, а то и в милиции. Посылал он свои сигналы и в районную газету, подписываясь то своей фамилией, то псевдонимами «Бдительное око», «Коммунар». В сигналах его было много неправды, и все же люди боялись накостылять ему за ложь, это считалось бы расправой над селькором и активистом – обвинение в те годы очень серьёзное.
Эти сигналы приносили Семёну немалую выгоду. Его угощали, поили, задабривали – лишь бы молчал. Пить он научился от отца. От своих прихвостней знал все, что делается в деревне. Заколол хозяин кабанчика и опалил его, а не содрал кожу и не сдал её, как положено, – Семён тут как тут. «Лёгкая кавалерия активной молодёжи, – объявлял он на пороге хаты. – Пришли составить протокол на штраф. Почему не ободрали кабанчика, нарушили закон?» Тогда были такие группы «лёгкой кавалерии» из числа комсомольцев, которые делали неожиданные налёты-ревизии, проверки для выявления непорядков. Что было делать хозяину злополучного кабанчика? Выгнать в шею Семена с дружками? Боязно, ведь побежит сразу в сельсовет, в милицию. «Семён, не поднимай шума», – начинал хозяин уговаривать его. Семён видел, как унижается перед ним хозяин, и, торжествуя от ощущения власти над человеком, прощал вину, обещал молчать, получив взамен кусок свежего сала.
Алена была моложе Семена лет на шесть, но запомнила его в те годы по двум случаям. Однажды ей, ещё девчонке, попало от него. Мимоходом как-то задел её Семён, дёрнул за косу, сорвал ленту. А она и крикни ему вслед: «Пёс поганый!» Он догнал её и ударил. Мало этого, ещё и отцу её, Макару, наговорил, что Алена будто бы сорвала с креста на могиле Семёновой бабки ручник и утопила в речке. И свидетелей привёл – двух сорванцов. Макар пообещал разобраться и наказать за это дочку. «Не надо наказывать, – сказал Семён, – она уже от меня получила».
А другой случай произошёл позже, перед самым отъездом Грака из Кривой Нивы в Кругляны.
Алена с матерью и другими женщинами возвращалась с поля, где они жали колхозную рожь. В передниках несли колосья, собранные после жатки с земли. Время тогда было голодное, и кое-кто, случалось, тайком на колхозном поле стриг колосья, вылущивал из них зёрна. Против таких «стригунов» велась суровая борьба. В поле на вышках дежурили пионеры и комсомольцы, охраняли от «стригунов» жито. Пойманных «стригунов» отдавали под суд за воровство колхозного имущества.
И вот Семён Грак по чьему-то поручению (а его активность, как и активность отца, власти поддерживали) перехватил женщин, у который в передниках были колосья, и начал записывать их фамилии.
«Списочек этот отдадим куда следует, и поедете вы все ту-ту – на Соловки», – пригрозил он. Одни женщины как шли, так и не остановились на его угрозы, другие попробовали объяснять, что колоски подобрали на дороге. Алена же, ещё малолетняя, а потому и смелая, помня подзатыльники и ложь про ручник с креста, подошла к Семёну, выхватила из рук бумагу, на которой он записывал женщин, и побежала вперёд, на бегу разрывая её на кусочки. «Пёс поганый, – крикнула, оборачиваясь, – мы же не колосья несём, а траву свиньям!» Грак растерялся: в самом деле, сверху в передниках лежит трава, а что под ней, ему теперь не дадут проверить. На Грака посыпались проклятия осмелевших женщин: и чтоб его припадок прихватил тут же, в поле, и чтоб у него руки-ноги поотсыхали, и чтобы он имя своё забыл… Грак пригрозил тогда Алене отомстить и отомстил бы, да приехал Савка и перевёз семью из Кривой Нивы в Кругляны.
Так кривонивцы расстались с Граками, надеясь, что навсегда.
Да вот Семён Грак появился снова в Кривой Ниве – уже начальником. Людей он всех хорошо знал, хорошо помнил и все прежние обиды. Он был теперь властелином над кривонивцами и упивался своей властью, испытывая наслаждение, свойственное всем властолюбцам, большим и малым, когда они видят, что внушают страх.
Не забыл он и Алену. В свой пятый, а может, и десятый приезд в деревню навестил её. В тот день неожиданно потеплело, с утра засветило яркое солнце, проходя свой короткий зимний путь по чистому небу, и под теплом его лучей начал таять снег.
Грак вошёл в хату один – в хромовых сапогах, великоватых для него (видно, с чужой ноги), в морском кителе и синих командирских красноармейских галифе. Фуражка немецкая, с длинным козырьком, на ремне висят пистолет в кобуре и мешочек с гранатой, на груди – чёрный немецкий автомат. Удивило, что Грак так легко одет, зима все-таки. Потом догадалась, что шинель, наверное, в школе оставил, где остановились все полицейские.
Алена сразу и не узнала Грака, в прежние его приезды в деревню она с ним не встречалась, старалась не попадаться ему на глаза. Сильно изменился он с тех пор, как уехал из Кривой Нивы, вытянулся, острое когда-то лицо округлилось. Только глаза остались прежними – с застывшим, немигающим взглядом, как у рыбы или змеи, да ямочка на подбородке. Про такие ямочки говорят – гусак ущипнул.
Войдя в хату, Грак протянул руку одной Алене.
– Привет. Поганый пёс тебя приветствует. Узнала?
– Узнала, – она, помедлив, протянула в ответ свою ладонь.
Он крепко, до боли, её пожал и долго не отпускал, как Алена ни старалась высвободиться из его руки, неприятно скользкой от ружейного масла, которым был обильно смазан автомат.
В хате как раз собирались обедать. Серафима схватила табуретку, махнула по ней передником, подставила к столу.
– Пообедайте с нами, Савкович. Вот и бульбочка горячая, рассыпчатая и капусточка из погреба, холодненькая, – начала она приглашать Грака.
Семён сложил руки на груди: левой ухватился за сгиб правой, а правую положил на левое плечо и пожимал его, словно оно болело; в такой позе, новой для него, стоял, презрительно оглядывая стол.
– А что ж это вы бульбу без сала едите?
– Семён, да откуда ж теперь сало? – пожаловалась Серафима. – Были недавно ваши и все, что в кадке оставалось, забрали.
– А где ж припрятанное? Думаете, не знаю, что есть и припрятанное сальце?
Однако сел за стол и начал есть картошку с капустой, запивая простоквашей.
– Обед не хуже, чем при Советах. Правда, Алена?
Алена, не поднимая от миски головы, молча ела.
– Алена, ты что, оглохла? – недовольный её невниманием к своей персоне, переспросил он.
– Слышу, – ответила она, бросив на него короткий взгляд.
– А может, слезы льёте по счастливой колхозной жизни? Забыли, как колоски собирали?
– Было и такое, Семён, что говорить… да потом ведь наладилось, ты же знаешь, – вступила в разговор Серафима.
Макар молчал. Заросшее щетиной лицо его было мрачным, отчуждённым, в глазах стояла тревога. Макар чувствовал, что Грак пришёл неспроста. Что-то задумал или дознался про связь Комковых с партизанами? Надо бы с ним быть поласковей, поугодливей, он же любит, когда перед ним на коленях ползают – как же, начальник, власть; но не умел и не мог Макар притворяться.
– Так что ж, Макар, ты не захотел старостой стать? – обратился к нему Семён. – Или все ещё красных ждёшь, а? – В голосе его прозвучала неприкрытая угроза.
– Партизан боюсь, придут да и прикончат.
– Испугался! А вот отец мой не побоялся. Староста в Круглянах.
– Староста? – удивился Макар.
– Что, не слышали? Уже полгода. И не боится.
– Не слыхал.
– Семён, – заступилась за мужа Серафима, – здоровья нет у Макара, чтоб старостой быть. Мы ж теперь все старосты, по очереди. И то страшно. Вот Парфена убили какие-то люди из леса… Ты лучше расскажи, что на войне слышно, где там наши?
– Наши? – всем телом повернулся к ней Семён. Из-под выпуклых надбровий холодно сверкнули застывшие глаза. – Поджидаете?
Серафима поняла, что сказала не то, начала выкручиваться:
– Семён, да я ж про наших кривонивцев говорю. Вот же сколько на войну забрали, из каждой хаты, считай.
– Дураки ваши кривонивцы. Надо было домой удирать, когда отступали. Меня тоже мобилизовали, а я дома давно.








