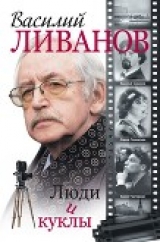
Текст книги "Невыдуманный Борис Пастернак"
Автор книги: Василий Ливанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Он ничего не ответил.
Полуосвещенные залы Кремля. Мы движемся из одного в другой. Наконец остановились у закрытой двери. Он постучал. Открыл Ворошилов.
– Здравствуйте, проходите.
Среди знакомых лиц много артистов.
Жданов играет на рояле Чайковского.
Вошел Сталин и, с приветственным жестом обращаясь к каждому, называл по фамилии. Поздоровавшись, спросил:
– Может быть, посмотрим фильм? Какой фильм будем смотреть? “Если завтра война” – посмотрим?
В фильме были кадры гитлеровской военной хроники. Потом предложил посмотреть “Волга-Волга”. Когда просмотр кончился, официанты стали разносить вина, кофе, фрукты.
Переходя от одной группы гостей к другой, Сталин оказался около меня. Сел на стул и предложил мне сесть на стоящий рядом. Начал разговор о Художественном театре. Между прочим сказал:
– Вы не вовремя поставили “Три сестры”. Чехов расслабляет. А сейчас такое время, когда люди должны верить в свои силы.
– Это прекрасный спектакль!
– Тем более, – сказал Сталин.
Потом спросил о “Гамлете”, который театр в это время репетировал. Я стал рассказывать о замысле нашего спектакля. Сталин внимательно слушал, иногда задавал вопросы, требующие точного, недвусмысленного ответа. Время от времени он чуть подымал руку, и напротив нас раздвигалась часть стены, выходил человек, неся на подносе две рюмки с коньяком: маленькую для Сталина, довольно большую – для меня. Сталин предлагал мне выпить и выпивал сам. Через некоторое время я заметил военного, появившегося у меня за спиной. Я понимал, что засиделся рядом со Сталиным. Но что он хочет, этот военный? Чтобы я прервал разговор и, извинившись, ушел? Вдруг военный больно нажал мне на плечо. Я рефлекторно хлопнул его по руке.
– В чем дело? – повернувшись к военному, спросил Сталин. – Мы вам мешаем?
Того как ветром сдуло.
Заканчивая разговор, Сталин спросил:
– Ваш Гамлет – сильный человек?
– Да.
– Это хорошо, потому что слабых бьют, – сказал Сталин.
Я посмотрел на часы: семь утра.
– Отчего вы забеспокоились?
– Что думает моя жена. Ушел на прием в семь вечера, а сейчас…
– Как зовут вашу жену?
– Евгения Казимировна.
– Передайте Евгении Казимировне привет от товарища Сталина.
Сталин поднялся и подвел меня к большой группе гостей. Предложил тост за актеров. Неожиданно спросил:
– А почему вы не в партии, товарищ Ливанов?
– Товарищ Сталин, я очень люблю свои недостатки.
Несколько секунд напряженной тишины, и Сталин расхохотался. Все потянулись к нему чокаться.
В это же утро я позвонил Леонтьеву – директору Большого театра. Он ведал в Кремле концертами.
– Знаешь…
– Я буду в Кремле сегодня. Постараюсь узнать. Позвони мне в четыре часа.
– …Боря, не волнуйся! Товарищ Сталин сказал: приятно было поговорить с мыслящим артистом. Начались звонки из газет:
– Борис Николаевич, вы долго разговаривали с товарищем Сталиным. Дайте интервью.
– Обратитесь к товарищу Сталину. Если он согласен – дам.
Второй раз не перезванивали».[26]26
Моей матери уже не было на свете, когда книга «Борис Ливанов» наконец находилась в гранках. Звонок из редакции: меня просят срочно приехать. Оказывается, из Отдела пропаганды ЦК КПСС обратились в редакцию, сказали, что необходимо снять эпизод разговора Б. Ливанова со Сталиным. Я стал звонить в ЦК по оставленному в редакции номеру. На мой вопрос, почему вдруг возникла такая необходимость, мне очень вежливо ответили, что для того, чтобы включать такой эпизод, его необходимо проверить и уточнить… в Институте марксизма-ленинизма (!). Ответ этот, прикрыв рукой мембрану телефона, я тут же передал редакторам. На меня замахали руками:
– Это еще на десять лет! Во имя выхода книги – соглашайтесь!
Эпизод со Сталиным был вынут из гранок с такой поспешностью, что забыли убрать имя Сталина из списка лиц, упоминаемых в книге. Так и значится Сталин на 71-й странице. Чиновников брежневского партаппарата невозможно заподозрить в инициативе по исключению из книги этого эпизода. Теперь я догадываюсь, кому мешала эта правдивая информация о разговоре Ливанова со Сталиным по поводу «Гамлета». И кто из «вхожих наверх» добивался ее исключения. – В. Л.
[Закрыть]
Значит, снова Ивинская целенаправленно клевещет, причем невозможно без смеха читать якобы сталинские слова: «Я бы не стал играть Гамлета» и проч.
Да, Ливанов мечтал когда-то, как мы уже знаем, играть Гамлета. Но не «всю жизнь» и, как мы тоже знаем, уже в начале пятидесятых безуспешно пытался воплотить на сцене МХАТа шекспировского «Лира» в переводе Пастернака и умер с мечтой об этой работе. Да и странно было бы для 5 5-летнего актера все «мечтать» сыграть Гамлета, «со средствами» или без.
Думаю, что боль за неосуществленную мечту о «Гамлете» во МХАТе, в постановке Немировича-Данченко, в прекрасных декорациях Вл. Дмитриева, с замечательным актерским составом, «всю жизнь» оставалась у самого Пастернака, так и не увидевшего, после репетиций «Гамлета» во МХАТе, другого театрального воплощения, достойного Шекспира и его переводчика. Но пойдем дальше, к приводимому Ивинской письму Пастернака Ливанову от 14 сентября 59-го года.
«Дорогой Борис, тогда, когда мы поговорили с тобой по поводу Погодина и Анны Никандровны, у нас не было разрыва, а теперь он есть и будет. Около года я не мог нахвалиться на здоровье и забыл, что такое бессонница, а вчера после того, что ты побывал у нас, я места себе не находил от отвращения к жизни и самому себе, и двойная порция снотворной отравы не дала мне сна. И дело не в вине[27]27
Очевидно, имеется в виду вино, а не вина. – В. Л.
[Закрыть] и твоих отступлениях от правил приличия, а в том, что я давно оторвался и ушел от серого, постылого, занудливого прошлого и думал, что забыл его, а ты с головы до ног его сплошное воплощение и напоминание. Я давно просил тебя не произносить мне здравиц. Ты этого не умеешь. Я терпеть не могу твоих величаний. Я не люблю, когда ты меня производишь от тонкости, от совести, от моего отца, от Пушкина, от Левитана. Тому, что безусловно, не надо родословной. И не надо мне твоей влиятельной поддержки в целях увековечивания. Как-нибудь проживу без твоего покровительства. Ты в собственной жизни, может быть, привык к преувеличениям, а я не лягушка, не надо меня раздувать в вола. Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть, чем разделить дым и обман, которым дышишь ты.Я часто бывал свидетелем того, как ты языком отплачивал тем, кто порывали с тобой, Ивановым, Погодиным, Капицам, прочим. Да поможет тебе Бог. Ничего не случилось. Ты кругом прав передо мной.
Наоборот, я несправедлив к тебе, я не верю в тебя. И ты ничего не потеряешь, живя врозь со мной, без встреч. Я неверный товарищ. Я говорил бы и говорил впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А конечно, охотнее всего я бы всех вас перевешал.
Твой Борис».
Несправедливые упреки – прием всего письма, выбранный с целью побольнее задеть адресата. Ведь нет ничего обидней, чем незаслуженный упрек, исходящий от близкого человека. Пастернак всегда восхищался ливановскими застольными «здравицами» и писал моей матери весной того года:
«Милая Женя, 3-го мая 1959 г., когда я тебе надписывал эту книжку, опять все было хорошо, незаслуженно и невероятно: ты сияла сказочной красотой, а Борис поражал нас титанической высотой своего дара и остроумия. Неужели мы будем еще долго радоваться так и встретимся все вместе еще раз среди такого счастья, хохота и блеска?»
А в письме вдруг: «Ты этого не умеешь…»
И эта зарифмованная фраза: «Тому, что безусловно, не надо родословной…» Вот уж истинно: «…так проклятая рифма толкает всегда говорить совершенно не то». Ведь, даря новое издание «Воскресения» Л. Толстого с иллюстрациями своего отца Л. Пастернака, Борис Леонидович написал: «Дорогой Жене – самое дорогое».
Способность Ливанова «отплачивать языком», выставить тех, с кем он поссорился, в уморительно-смешном свете, рассказывая о ссоре, и неспособность принести никакого реального вреда людям, его обидевшим, – черта, не раз отмеченная Пастернаком как «добрая», вдруг выворачивается в контексте письма в недостаток. Впрочем, Борис Леонидович, как и многие, побаивался ливановских острот, моментально становившихся достоянием городского фольклора. Поэт не забыл слова Гамлета об актерах: «Лучше иметь скверную надпись на гробнице, нежели дурной их отзыв при жизни». Нужно сказать, что в это время Ливанов был одержим планами постановки и ролью «Лира» в пастернаковском переводе. Общий замысел и все новые и новые детали задуманного спектакля бурно обсуждались с Пастернаком при каждой встрече. Борис Леонидович высказывал сомнения по поводу возможности вынесения на сцену МХАТа его имени в связи со сложившейся ситуацией, а Ливанов горячо утверждал, что именно сейчас необходимо добиваться воплощения этой работы, и рассказывал в лицах, где и с кем из «запретителей» имел он на эту тему беседы, споры и столкновения. Для моего отца эта намеченная работа была особенно дорога. В его представлении она явилась бы продолжением и – он верил – победным осуществлением гамлетовских трудов и надежд обоих Борисов.
Когда Пастернак пишет: «И не надо мне твоей влиятельной поддержки в делах увековечивания», – он имеет в виду усилия Ливанова для сценического воплощения пастернаковского перевода во МХАТе и, конечно, сознает, какую рану безжалостно бередит. А как сочетается: «…я давно… ушел от серого, постылого, занудливого прошлого и думал, что забыл его, а ты с головы до ног его сплошное воплощение и напоминание» – с недавним признанием Ливанову: «Спасибо тебе за годы, проведенные вместе. Они много мне дали. От тебя всегда веяло манящим, замысловатым, драматическим духом искусства. Ты был его выразителем, его воплощением»? И со многими другими признаниями?
И, не скрывая, что «я несправедлив к тебе», тем не менее утверждает: «…а теперь он (разрыв. – В. Л.) есть и будет».
И нам важно сегодня понять – почему?
До этого письма, в марте 59-го, Пастернак писал отцу, просил достать книги по истории русского театра XVIII века для работы над «Спящей красавицей». В этом письме есть строчки: «Жаль – Вася уехал, а то бы я тебя не беспокоил…»
Сентябрьское письмо Пастернака пришло в наш дом в мое отсутствие. Когда я 6 ноября вернулся из долгой таежной киноэкспедиции, первое, что я услышал от мамы, было о проклятом этом письме. Мама просила, чтобы я не говорил о Пастернаке с отцом, который очень тяжело переживает оскорбление и разрыв. Смысл письма мне мама пересказала, она помнила отдельные фразы – Пастернак, оказывается, забрал письмо себе. Вот как это происходило. Пастернак появился у нас в доме ранним утром на следующий день после получения родителями его письма, умолял простить его и забыть письмо.
Но отец уперся. Сказал, что не может простить предательства их многолетней мужской дружбы, что ему отвратителен выбранный для разрыва «бабий способ писания оскорбительных писем».
– После этого не удивлюсь, если ты сейчас начнешь здесь рыдать и падать на колени.
Пастернак действительно заплакал и встал на колени. Он просил отца вернуть письмо, говоря, что, если это письмо останется у нас в доме, отцу захочется его перечитать…
– Не захочется!
– …а тогда ты меня никогда не простишь…
Вся эта сцена разыгрывалась в прихожей. Отец попросил маму вернуть Пастернаку письмо, повернулся и вышел. Маму, когда она отдавала письмо, Борис Леонидович уверял, что ему необходимо самому перечитать это письмо, что он его плохо помнит, так как писал в «невменяемом состоянии», и что письмо это он обязательно уничтожит.
– Бедный Боря, – повторяла мама с Зининой интонацией. Но я тогда страшно оскорбился за отца и встал на его сторону. Я знал, что «не надо дорожить архивом» – это только благое намерение, и минутное настроение Пастернака будет иметь самые неожиданные последствия, если письмо это попадет в чьи-нибудь нечистые руки. Так и случилось.
«22 окт. 1959 г.
Дорогие Боря и Женя, завтра я рано утром попытаюсь зайти к вам. У меня будет очень много дел в городе и, если я вас застану вставшими, это будет только на минуту, чтобы успеть сказать то, что я оставлю здесь в записке, если вы еще будете спать. Если можно перешагнуть через то письмо и забыть его, сделайте нам радость, приезжайте к Зине на именины в 3 часа в воскресенье двадцать пятого. Если это еще невозможно, переждем некоторое время и попытаемся восстановить все спустя более продолжительный промежуток. Я ни на минуту не переставал любить вас.
Боря».
Сравните у Ивинской: «Конечно, сердиться долго он (Пастернак. – В. Л.) ни на кого не мог, вскоре сам позвонил Ливанову и пригласил на дачу, “если, конечно, ты можешь перешагнуть через мое письмо”». Какова?
Теперь я жалею, что меня не было в Москве, когда родители получили злополучное письмо, жалею, что не смог его прочесть, пока Борис Леонидович был жив. Это сожаление я испытываю не оттого, что отец вернул письмо и им, для удовлетворения своего мелочного самолюбия, воспользовалась впоследствии Ивинская.
Мне кажется сейчас, что если бы тогда я знал это письмо, то смог бы убедить отца «перешагнуть» через случившееся. Я, конечно же, не верю, что Пастернак писал свое письмо в «невменяемом» состоянии, но уверен: Борис Леонидович не представлял, какое смятение чувств будет переживать после разрыва отношений с Борисом Ливановым.
В глубине души чувствуя правоту своих близких друзей, крайне встревоженных за его жизнь в связи с непрекращающейся травлей романа и его автора, Пастернак был обречен «жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья» под дамокловым мечом мрачных своих предчувствий самых внезапных, непредсказуемых, может быть, трагических перемен в своей судьбе. Состояние, столь – увы! – свойственное советскому интеллигенту, осмелившемуся высказать личное мнение, противоречащее официальной, а значит, обязательной для всех точке зрения.
Ведь Борис Леонидович прекрасно понимал, что Евграф Живаго из его романа решительно отличается от «Евграфа Живаго» в действительности.
Тревога друзей, их попытки предотвратить беду, опекать поэта не только больно задевали его гордость, но – и это главное – усугубляли глубоко припрятанный испуг. Одно дело красиво провозгласить: «Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть», и совсем другое – почувствовать, как горделивая словесная поза начинает обретать грубые жизненные черты. Пастернаку померещилось, что стоит только избавиться в этой ситуации от постоянно встревоженных друзей, мешающих ему жить в так замечательно выдуманном им спасительном мире, где «все сбылось», где он, Борис Пастернак, – автор гениального (никто не должен усомниться) романа, где у него, примерного христианина, какие-то совершенно особые нравственные права жить счастливым мужем сразу в двух семьях, где он – на равных с Богом, – конечно же, со временем выступит высшим судьей всех и вся, – стоит только избавиться от этих сомневающихся, и он сразу же освободится от унизительного, мучающего его страха.
Это он, Борис Пастернак, – «безусловный без родословной», а не его друг Борис Ливанов, – перечеркивая прошлое и обрывая корни, стремится укрыться от самого себя в дыму мирской славы и самообмана.
Каким страшным бессилием перед жизнью полно его яростное признание: «Я говорил бы и говорил впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А конечно, охотнее всего я бы всех вас перевешал», – особенно жалко это звучит в сочетании с подписью «твой Борис».
Права была Зинаида Николаевна: «Бедный Боря!» Ему, так безмерно себя любящему, никак не давалась даже поза гордого самоотречения. Ведь если бы Пастернак действительно был способен всерьез самоотречься – не потребовалось бы рвать с друзьями, писать оскорбительные письма, изобретать, как бы ударить близких побольнее.
Вместо объявленного образцового самоотречения во имя писательского долга последовало отчаянное отречение от самых преданных друзей, а потом – обвалом – и от самого романа!
Итог подвел Александр Солженицын: «Я мерил его (Пастернака. – В. Л.) своими целями, своими мерками – и корчился от стыда за него, как за себя: как же можно было испугаться какой-то газетной брани, как же можно было ослабеть перед угрозой высылки, и униженно просить правительство, и бормотать о своих “ошибках и заблуждениях”, “собственной вине”, вложенной в роман, – от собственных мыслей, от своего духа отрекаться – только бы не выслали? И “славное настоящее”, и гордость “за время, в которое живу”, и, конечно, “светлая вера в общее будущее”, и это не в провинциальном университете профессора секут, но – на весь мир наш нобелевский лауреат?»
Случилась самая страшная беда, которую друзья, не отринь их Пастернак, не допустили бы, – потеря лица, бессмысленное самоунижение, равносильное самоубийству Осмысливая самоубийство В. Маяковского, Б. Пастернак писал:
«Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти, поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нетерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания…»
Записанное Борисом Леонидовичем о Маяковском, как мне представляется, объясняет многое о самом Пастернаке в последние месяцы его жизни.
И в этой беде не лучшую роль сыграла Ивинская.
Ольгу Ивинскую, как говорится, «по-житейски» понять можно. Конечно, Борис Леонидович никому, даже самому себе, ни за что бы не признался в том, о чем весело-цинично распевал блестящий Александр Вертинский в те поры: «Мне не нужно женщины, мне нужна лишь тема, чтобы в сердце вспыхнувшем прозвучал напев. Я могу из падали создавать поэмы, я люблю из горничных делать королев!»
Поэтому та, которая поэтом была «создана как бы вчерне, как строчка из другого цикла», не допускалась в чистовик его жизни, пребывала на вторых ролях, где достаточно было время от времени «плащ в ширину под собой расстилать» и «сбрасывать платье, как роща сбрасывает листья».
«…Я упрямо твердила:
– Нет, это я, именно я. Я живая женщина, а не выдумка твоя!» – такое признание вырывается у Ивинской.
Но что бы она ни твердила, с годами для нее в этих отношениях ничего не менялось.
Характерен рассказ Ивинской о том, что, когда она вышла из тюрьмы, Пастернак послал к ней ее подругу с поручением передать, что их любовная связь кончена. Как выяснилось впоследствии, поэт опасался, что любовница «постарела» в заключении, но, воочию убедившись, что только «слегка похудела», возобновил роман.
«Простимся, бездне унижений бросающая вызов женщина, я – поле твоего сраженья!»
А Ивинская не хочет быть «полем сраженья» и откровенно сетует, что Пастернак не сделал ее своей женой и поэтому не уберег от «неприятностей», последовавших за попыткой – «чтобы обеспечить свое существование» – контрабандного присвоения денег, по праву принадлежащих семье умершего поэта.
Итак, сознавая ложное и жалкое свое положение рядом с Пастернаком, Ивинская поначалу надеялась вызвать у близких друзей Пастернака – прежде всего Ливанова, Нейгауза и Асмуса – если не расположение к себе, то хотя бы сочувствие. Увы, безрезультатно. Друзья оставались верны не только Пастернаку, но и Зинаиде Николаевне.
Любовную связь Бориса Леонидовича в этом дружеском кругу не только не романтизировали, но справедливо считали очередной прихотью стареющего поэта.
Насколько для Ивинской было желаемо, чтобы о ней хотя бы говорили в этом кругу, свидетельствует строчка из письма к ней Пастернака: «О тебе несколько слов вскользь и тайком, с симпатией к тебе сказала Ливанова…»
В контексте коротенького письма это сообщение выглядит как событие, наравне с отъездом Пастернака в Грузию!
…И настало время, когда Борис Леонидович стал жаловаться Ивинской на своих друзей, не одобряющих так прекрасно выдуманный им мир его безусловной правоты во всем. Зная, как упрямо Пастернак цепляется за свои иллюзии, Ивинская поняла, что настал ее час – наконец-то она сможет изменить отведенную ей при Пастернаке роль, причем без особых усилий. Стоит лишь начать говорить Пастернаку именно то, что он желал бы услышать, но так и не услышал от своих близких друзей. И действительно, Пастернак очень скоро стал обнаруживать в своей «привязанности» высокий светлый ум и здравые суждения о гениальности многострадального романа «Доктор Живаго» и безусловной правоте его автора во всем, что бы он ни предпринимал или ни задумывал предпринять.
Не кто иной, как Ивинская утвердила Пастернака в усугубившей его личную трагедию мысли о том, что близкие друзья только мешают ему чувствовать себя счастливым. А особенно Борис Ливанов, решительно и давно не пожелавший ни под каким видом даже обсуждать с другом присутствие в его жизни ее, «привязанности». Ливанова Ивинская, естественно, возненавидела, так как боялась его прямого влияния на Пастернака. Именно этой нескрываемой ливановской осадой пастернаковского «воздушного замка» воспользовалась, как могла, Ивинская.
Не могу утверждать, но, скорее всего, ни Г. Нейгауз, ни Асмус не получали оскорбительных писем. Они были просто занесены в список предназначенных к «повешению», как близкие друзья. Что касается Нейгауза, то такое «послабление» было проявлено к нему, вероятно, благодаря случаю, описанному Ивинской, когда Генрих Густавович однажды посетил ситцевое гнездышко, свитое Ивинской для Пастернака прямо напротив знаменитого переделкинского «шалмана», и был с хозяйкой очень мил.
И неудивительно. Переделкинские мужчины, независимо от возраста и положения, и их гости – а Нейгауз подолгу гостил в Переделкино – нет-нет да и наведывались в голубой «шалман», и Нейгауз отнюдь не был исключением. Подвыпив, Генрих Густавович становился необыкновенно покладист и общителен. Застав его в таком настроении, ничего не стоило завлечь великого музыканта в любую обещавшую приятное времяпрепровождение компанию. Иногда его даже приходилось разыскивать. При этом не надо забывать, что Пастернак «увел» от Нейгауза Зинаиду Николаевну, мать двоих его сыновей, и скандальная связь поэта с Ивинской воспринималась Генрихом Густавовичем по-своему.
Уж чем «тишайший Асмус» заслужил пощаду от Ивинской, не знаю. Очевидно, тем, что оставался «тишайшим» и в отношении к ней.
Торжествуя такую желанную, еще недавно казавшуюся ей невозможной «победу» над близкими друзьями Пастернака и самонадеянно считая, что она сама вместе с дочерью Ирочкой и озабоченными книжным бизнесом иностранцами, столь милыми ее сердцу, вполне заменят поэту многолетнее благотворное дружеское и творческое общение с замечательными актером, музыкантом и философом, Ивинская заключает свои вымыслы о друзьях Пастернака выдающимся по пошлости резюме:
«Когда вспоминаю последний год его (Пастернака. – В. Л.) жизни, мне кажется, что ребенок (очевидно, Ирочка. – В. Л.) или какой-нибудь Кузьмич (до этого описанный Ивинской как тупоумный алкоголик. – В. Л.) был Боре роднее маститых посетителей его большой дачи».
Бедный Боря!
В 1988 году, когда о Борисе Пастернаке уже стали говорить и писать все кому не лень, Ивинская попросила одну мою знакомую соединить ее со мной по телефону. После пустой болтовни эта знакомая загадочно объявила, что со мной хочет побеседовать «одна дама».
– Меня зовут Ольга Всеволодовна Ивинская, – услышал я в трубке незнакомый голос. Судя по интонации, эти имя, отчество и фамилию я должен был воспринять как подарок.
– Я вас слушаю.
После длительной паузы я получил еще один подарок:
– Я к вам очень хорошо отношусь.
Пришлось ответить, что мне совершенно безразлично, как ко мне относится звонившая, и посоветовать ей забыть номер моего телефона. Не думаю, что Ивинскую на старости лет совесть «заела». Очевидно, прослышала, что я не собираюсь не замечать клеветы на моего отца, лучшего друга Пастернака.
Ну что ж, буду надеяться, что Ивинская и иже с ней растревожились не напрасно.
Отход Пастернака от круга близких друзей стал особенно заметен после отказа от Нобелевской премии. Я не знаю точно реакции Нейгауза и Асмуса на этот поступок Пастернака, на его дальнейшие обращения к Хрущеву и в газету «Правда». Но думаю, что их реакция была сходна с ливановской. А Борис Ливанов отнесся к этому резко отрицательно. И, никогда не скрывая своих чувств, однажды назвал покаянные письма Пастернака «окаянными».
Может быть, он знал, может быть, догадывался, что «поступки» Пастернака определяет теперь Ивинская, позже в путаных оправданиях простодушно признавшаяся на страницах своей книжки, что составляла вместе с хрущевскими чиновниками письма от имени нобелевского лауреата, стараясь имитировать его стиль, а Борис Леонидович только поправлял стилистические погрешности и переписывал, подписывал. Но хрущевские «ребята» крепко держали в руках самозваную «Лару» и действовали через нее. Лишившись литературных заработков, она еще могла бы безбедно существовать на средства Пастернака, хотя его телеграмма: «Дайте работу Ивинской, я отказался от премии», – говорит о том, что его мучило чувство вины перед стареющей любовницей, которую он никогда не хотел бы видеть своей официальной женой.
Но когда Пастернаку пригрозили высылкой, Ивинскую охватила паника. Грозивший отъезд Пастернака за границу превращал ее в ничто. Этого она не могла допустить, пусть ценой сотрудничества с гонителями поэта.
«В лета, как ваши, живут не бурями, а головой», – Ивинская точно последовала гамлетовскому совету, а голова «без сердечных бурь» рассудила, что лучше униженный Пастернак здесь, чем опальный нобелевский лауреат где-то там. Вряд ли Ивинская понимала, что приготовленное с ее помощью самоунижение для поэта смертельно, – для этого ее личность была слишком мелка, слишком цинична, а ее самомнение слишком раздуто самим Пастернаком.[28]28
В своей книжке О. Ивинская вперемежку с пастернаковскими приводит стихи собственного сочинения, оставляющие впечатление восковой куклы рядом с живым человеком.
[Закрыть]
Незваный сентябрьский приезд Ливанова к другу был вызван желанием напомнить поэту, погибающему в самоунижении, о его истоках, о преемственности его творчества. Но Пастернак уже разрушил и продолжал рушить все живые связи. Он, еще не сознавая этого, умирал.
И все-таки до конца своих дней (а их уже оставалось немного) Пастернак пытался вернуть оскорбленного им Бориса Ливанова, долгими телефонными беседами с моей мамой и письмами старался заполнить зияющий в его мироощущении провал после разрыва с «лучшим» и «самым близким»[29]29
Эпитеты, данные Б. Ливанову Пастернаком в переписке с О. Фрейденберг.
[Закрыть] другом. Может быть, предчувствуя свою кончину, он хотел сказать последнее «прости».
«6 янв. 1960 г.
С днем ангела тебя, дорогая Женя![30]30
6 января – именины Евгении.
[Закрыть]Помнишь, как следовали из года в год вечера твоих зимних именин, озаренных звездочками елочных огоньков, свечками сочельника?
Благодаря им на весь год ваш дом становился и оставался зимней и праздничной городской достопримечательностью.
Эти вечера в продолжение многих лет были отдельными ступенями лестницы, по которой все мы постепенно подымались ко все более упрощающемуся пониманию жизни, ко все более прямому и смелому распоряжению ею, к тому, что всегда так требуется и чего так недостает в молодости. Еще свежа и так бодра была твоя мама, и Чагины, и Ивановы сидели вокруг стола, когда я за этим столом задумал и тут же начал сочинять про себя “Рождественскую звезду”».
И еще в этом же письме:
«Я целую Борю впрок, из недалекого будущего, когда все объяснится не губами и словами, а общими переменами, которые к тому времени совершатся…»
Родители больше не ездили по воскресеньям к Пастернакам в Переделкино. В середине мая я услышал в телефонной трубке голос Зинаиды Николаевны. Она попросила позвать маму, сказала, что болезнь Бориса Леонидовича, очевидно, смертельна, что Пастернак зовет Ливановых приехать к нему.
Мы поехали в тот же день. Зинаида Николаевна, увидев нас в окно, вышла навстречу:
– Борис, он просит тебя одного. Иди.
Примерно через полчаса отец с Зинаидой Николаевной вышли к нам из дома.
Помню, когда прощались, Зинаида Николаевна, обычно очень сдержанная, подняв руки, обхватила отца за шею и спрятала лицо у него на груди. Так они простояли некоторое время молча.
«Моим большим и любимым друзьям Ливановым с пожеланием чаще приезжать ко мне. – 3. Пастернак», – напишет она, даря сборник «Стихотворения и поэмы», изданный через пять лет после кончины Бориса Леонидовича.
А то последнее письмо Пастернак сопроводил литографией работы Л. О. Пастернака «Лев Толстой за рабочим столом». Внизу литографского листа:
«Дорогим друзьям Борису Николаевичу и Евгении Казимировне Ливановым с благодарностью за дружно разделенный долгий нешуточный путь, такой счастливый, несмотря на иногда разыгрывающиеся бури и загадки, и не полностью разрешенные.
Б. Пастернак, 6 января 1960 г.»
Когда я спросил отца, о чем был их последний разговор с Борисом Леонидовичем, он мне ответил:
– Мы сказали друг другу: «До свидания».








