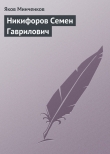Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Василий Никифоров–Волгин
Жанры:
Религия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Рассказы
Пушкин и митрополит Филарет
В Николин день 1828 года митрополит Филарет окончательно решил уйти на покой.
Он сел за письменный стол, взял большой лист плотной голубой бумаги, осмотрел гусиное перо, перекрестился и стал писать:
«Всемилостивейший Государь!
Священный долг служить Вашему Императорскому Величеству верою и правдою особенно вожделенным для меня делает благодарность к милостям и благодеяниям Вашего Императорского Величества, неизреченно для меня великим…»
Тут он остановился и задумался:
– Да, тяжело мы пишем… Тяжело – Пушкин учит, как писать, да не слушаемся… Да… Пушкин… Александр Сергеевич… Упрямые и жестоковыйные мы люди!
Митрополит опять заскрипел гусиным пером:
«Но, при сознании внутренних моих недостатков, немощь телесная, в течение немалого времени едва преодолеваемая принужденными усилиями, наконец, отнимает у меня надежду соответствовать обязанностям вверенного мне служения…»
– Я устал! От всего я устал! – сказал он вслух, не отрываясь от письма. – С душою некогда побеседовать!
«Посему приемлю дерзновение Ваше Императорское Величество всеподданнейше просить об увольнении меня от управления вверенной мне епархиею и дозволить избрать жительство в одном из монастырей…»
– Да, тяжелый язык, тяжелый! – опять подумал митрополит, скрепляя прошение подписью:
«Вашего Императорского Величества верноподданный, митрополит Московский и Коломенский Филарет».
– Завтра отправлю по назначению. Буду ждать Высочайшей резолюции!
* * *
На другой день И.В. Киреевский послал митрополиту на прочтение новое стихотворение Пушкина:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?..
Перед духовными очами митрополита предстала душа великого поэта. До содрогания стало жалко его, потерявшего самое драгоценное в жизни, – веру в жизнь и в свое на земле призвание. В митрополите заговорил вдруг пастырь, призванный спасать человека. Все, что его тяготило и мучало за это время, уступило место ясному и глубокому сознанию своих задач и высокой своей посвященности…
– нельзя же так, Александр Сергеевич! – подумал он тепло и нежно. Такая сила тебе дадена и вдруг взываешь ты в тоске: «Дар напрасный, дар случайный…» Всем нам тяжело, Александр Сергеевич…
Во время вечерних, на сон грядущий, молитв митрополит опять вспомнил стихотворение Пушкина.
Он положил земной поклон.
– Мир и успокоение подаждь душе раба Твоего Александра, ибо нужен он народу нашему… Во тьме ходящему!
И когда произнес эти слова, что–то яркое вспыхнуло в душе его. Он не мог больше молиться. Не закончив «вечернего правила», он поднялся с колен, зажег свечу, взял перо и быстро стал писать:
Не напрасно, не случайно
Жизнь судьбою мне дана;
Не без правды ею тайно
На тоску осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из тайных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною,
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждутся Тобою
Сердце чисто, светел ум.
– Будь что будет! – сказал он. – Но эти строки пошлю Пушкину, как ответ на его горькие слова.
Тут он взглянул на конверт, адресованный Государю Императору.
– Нет, нельзя мне покидать кафедры ради безмолвного монастыря, – решил он, – надо потрудиться! Ради тех великих и малых потрудиться, кои томятся тоскою и сомнениями в присномутном житии нашем! Подвиг надо восприять! Кто же утешит? Кто спасет?
+ + +
Филарета долго томила мысль: дошел ли ночной его голос до сердца поэта?
И вот однажды получает он строки, написанные рукою самого Александра Сергеевича Пушкина:
…И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.
– Слава Тебе, Христе Свете Истинный, – перекрестился митрополит, – что пробудил малым, неискусным моим словом душу великого поэта!
И поцеловал пушкинские строки.
Великая суббота
В этот день, с самого зарания показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стал смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу березовых дров под навесом, на метлу с сизыми прутиками в засолнеченных руках дворника Давыдки, и они показались обновленными. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В них было пасхальное.
В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с вареным рисом, и меня «намахали» из дому:
– Иди лучше к обедне! – выпроваживала меня мать. – Редкостная будет служба… Во второй раз говорю тебе; когда вырастешь, то такую службу поминать будешь…
Я зашел к Гришке, чтобы и его зазван в церковь, но тот отказался:
– С тобою сегодня не пойду! Ты меня на вынос плащаницы зеброй полосатой обозвал! Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?
В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и стояла еще плащаница и духовенство служило в черных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла уже Пасха. У плащаницы читали «часы», и на амвоне много стояло исповедников.
До качала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в кожаных калошах:
– Дивен Бог во святых своих, – выкруглял он тернистые слова. – Возьмем к примеру преподобного Макария Александрийского, его же память празднуем 19 января… Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его у ног святого и как бы заплакала…
– Что зa притча? – думает преподобный. Нагинается он к малому зверю и видит: слепой он! Медвежонок–то! Понял преподобный, почто пришла к нему медведица! Умилился он сердцем, перекрестил слепенького, погладил его и совершилось чудо: медвежонок прозрел!
– Скажи на милость! – сказал кто–то от сердца.
– Это еще не все, – качнул головою старец, – на другой день приносит медведица овечью шкуру. Положила ее к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: «Возьми от меня в дар, за доброту твою»…
Литургия Великой Субботы воистину была редкостной. Она началась как всенощное бдение с пением вечерних песен. Когда пропели «Свете тихий», то к плащанице вышел чтец в черном стихаре и положил на аналой большую воском закапанную книгу.
Он стал читать у гроба Господня шестнадцать паремий. Больше часа читал он о переходе евреев через Чермное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках, провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение Воскресение… Долгое чтение пророчеств чтец закончил высоким и протяжным пением: – Господа пойте, и превозносите во вся веки… Это послужило как бы всполощным колоколом. На клиросе встрепенулись, зашуршит нотами и грянули волновым заплеском: – Господа пойте, и превозносите во вся веки… Несколько раз повторил хор эту песню, а чтец воскликал сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанное выражение: «боготканные глаголы».
Благословите солнце и луна
Благословите дождь и роса
Благословите нощи и дни
Благословите молнии и облацы
Благословите моря и реки
Благословите птицы небесныя
Благословите звери и вси скоти.
Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая святому Макарию:
– Благословите звери!..
«Поим Господеви! Славно–бо прославися!» Пасха! Это она гремит в боготканных глаголах: Господа пойте, и превозносите во вся веки!
После чтения «апостола'' вышли к плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно поклонились лежащему во гробе и запели:
«Воскресни Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех».
Во время пения духовенство в алтаре извлачало с себя черные страстные ризы и облекалось во все белое. С престола, жертвенника и аналоев снимали черное и облекали их белую серебряную парчу.
Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и обо всем этом диве рассказать матери…
Как ни старался сдерживать восторга своего, ничего поделать с собою не мог.
– Надо рассказать матери… сейчас же!
Прибежал запыхавшись домой, и на пороге крикнул:
– В церкви все белое! Сняли черное, и кругом – одно белое… и вообще Пасха!
Еще что–то хотел добавить, но не вышло, и опять побежал в церковь. Там уж пели особую херувимскую песню, которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек:
Да молчит всякая плоть
Человеча и да стоит со страхом
и трепетом и ничтоже земное в
себе да помышляет.
Царь–бо царствующих и Господь
Господствующих приходит заклатися
и датися в снедь верным…
Посвящаю Толичке Ф. Штубендорф
Великий пост
Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам.
Чистый Понедельник. Мать послала меня в церковь «к часам» и сказала с тихой строгостью:
– Пост да молитва небо отворяют!
Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, капуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, снитки, постный сахар… Из деревень привезли много веников (в Чистый Понедельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят с покупателями тихо и деликатно:
– Грибки монастырские!
– Венечки для очищения!
– Огурчики печорские!
– Сниточки причудские!
От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охватила знобкая радость: скоро весна, скоро Пасха и от мороза только ручейки останутся!
В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахили и произнес никогда не слыханные слова:
«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся…»
Все опустились на колени, и лица молящихся, как у предстоящих перед Господом на картине «Страшный суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы и на выпуклых глазах слезы. Около распятия стоит чиновник Остряков и тоже крестится, а на масленице похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный староста звенит медяками у свечного ящика.
За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца.
После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя шепот: «Обнови нас, молящих Ти ся… даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего…»
А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш.
Обед в этот день был необычайный: редька, грибная похлебка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Перед тем как сесть за стол, долго крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал:
– В монастырях по правилам святых отцов на Великий пост положено сухоястие, хлеб да вода… А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды в день и только вечером…
Я задумался над словами Якова и перестал есть.
– Ты что не ешь? – спросила мать.
Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:
– Хочу быть святым Ермом! Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня по голове и сказал:
– Ишь ты, какой восприемный!
Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть; дохлебал ее до конца и попросил еще тарелку, да погуще.
Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому повечерию. Всей семьей мы пошли к чтению канона Андрея Критского. В храме полумрак. На середине стоит аналой в черной ризе, и на нем большая старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно, и все похожи на тихие деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже.
Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже какого–то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запели тихо–тихо и до того печально, что защемило в сердце:
«Помощник и Покровитель бысть мне во спасение; Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу Его, славно бо прославися…»
К аналою подошел священник, зажег свечу и начал читать великий канон Андрея Критского:
«Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление».
После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Долгая–долгая, монастырски строгая служба. За погасшими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо:
– Сядь на скамейку и отдохни малость…
Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема, но на клиросе запели: «Душе моя, душе моя, возстани, что спиши?»
Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься.
Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах, и отвергох заповедь Твою…»
Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах. На масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников; недавно запустил комом снега в спину извозчика; приятеля своего Гришку обозвал «рыжим бесом», хотя он совсем не рыжий; тетку Федосью прозвал «грызлой»; утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке, и при встрече с батюшкой не снял шапку.
Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя…»
Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу, понурив голову:
– Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник!
Отец ответил:
– Бог простит, сынок.
После некоторого молчания обратился я и к матери:
– Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках проел. И мать тоже ответила:
– Бог простит.
Засыпая в постели, я подумал:
– Как хорошо быть безгрешным!
Весенний хлеб
В день Иоанна Богослова Вешнего старики Митрофан и Лукерья Таракановы готовились к совершению деревенского обычая – выхода на перекресток дорог с обетным пшеничным хлебом для раздачи его бедным путникам.
Соблюдалось это в знак веры, что Господь воззрит на эту благостыню и пошлет добрый урожай. До революции обетный хлеб испекался из муки, собранной по горсти с каждого двора, и в выносе его на дорогу участвовала вся деревня. Шли тихим хождением, в новых нарядах, с шепотной молитвой о ниспослании урожая. Хлеб нес самый старый и сановитый насельник деревни.
Теперь этого нет. Жизнь пошла по–новому. Дедовых обычаев держатся лишь старики Таракановы. Только от них еще услышат, что от Рождества до Крещения ходит Господь по земле и награждает здоровьем и счастьем, кто чтит Его праздники: в Васильев день выливается из ложки кисель на снег с приговором: «Мороз, мороз! Поешь нашего киселя, не морозь нашего овса». В Крещенский сочельник собирается в поле снег и бросается в колодец, чтобы сделать его многоводным, в прощеное воскресенье «окликают звезду», чтобы дано было плодородие овцам; в чистый понедельник выпаривают и выжигают посуду, чтобы ни згинки не было скоромного; в Благовещенье Бог благословляет все растения, а в Светлый День Воскресения Юрий – Божий посол – идет к Богу за ключами, отмыкает ими землю и пускает росу «на Белую Русь и на весь свет».
На потеху молодежи старики Таракановы говорят старинными, давным–давно умершими словами. У них: колесная мазь – коляница, кони – комони, имущество – собина, млечный путь – девьи зори, приглашение – повещанки или позыватки, запевало – починальник, погреб – медуша, шуметь на сходе – вечать, переулки – зазоры.
Речь свою старик украшает пословицами и любит похваляться ими: так, бывало, и сеет старинными зернистыми самоцветами. Соседу, у которого дочь «на выданье», скажет:
– Заневестилась дочь, так росписи готовь!
Про себя со старухою говорит:
– Только и родни, что лапти одни!
Соседского сына за что–то из деревни выслали, и старик утешал неутешную мать:
– Дальше солнца не сошлют, хуже человека не сделают, подумаешь – горе, а раздумаешь – воля Божья!
Бойким веселым девушкам тихо грозит корявым пальцем:
– Смиренье – девушки ожерелье.
Баба жаловалась Митрофану на нищее житье свое, а он наставлял ее:
– Бедная прядет, Бог ей нитки дает!..
Лукерья, маленькая старушка с твердыми староверскими глазами, старую песню любила пестовать.
Послушает она теперешние вроде: «О, эти черные глаза» и горестью затуманится:
– В наше время лучше пели, – скажет со вздохом и для примера запоет причитным голосом:
Ах, ты, матушка, Волга реченька,
Дорога ты нам пуще прежнего,
Одарила ты сиротинушек
Дорогой парчой, алым бархатом,
Золотой казной, жемчугами–камнями…
И в долгу–то мы перед матушкой,
И в долгу большом перед родненькой.
К выносу на дорогу «обетного хлеба» Митрофан и Лукерья готовились с тугою душевной. Вчера Лукерья собирала по всей деревне муку для «обычая», но никто ничего не дал, только на смех подняли.
Рано утром в избе Тараканова запахло горячим хлебом. Пока он доходил в печи, Митрофан стоял перед иконами и молился.
В полдень стали готовиться к выносу. Хлеб задался румяным и наливным. Старуха перекинула его с руки на руку и сказала:
– Хышь на царскую трапезу!
Старик постучал по загаристой корке и высловил:
– Сущий боярин!
Хлеб положили на деревянное блюдо, перекрестили его и покрыли суровым полотенцем. Старик принял его на обе руки. Лукерья открыла дверь и сказала вслед:
– Как по занебесью звездам несть числа, дак бы и хлебушка столько добрым людям…
Митрофан пошел по деревенской улице. Он был без шапки, с приглаженными волосами, с расчесанной на две стороны бородою, в длинной холщевой рубахе. Концы полотенца с вышитой занизью свисали до земли, как дьяконский орарь.
Парни и девки, стоявшие у раскрытых окон Народного дома и слушавшие радио, увидев Митрофана, засмеялись. Подвыпивший парень в манишке и сползающих манжетах махнул старику бутылкой водки и надсадно хамкнул:
– Гони сюда закуску!
Старик остановился и степенно ответил:
– Не смейтесь, ребятки! Хлеб Господень несу!
Митрофан дошел до перекрестка и остановился. Дороги были тихими, прогретыми майским солнцем. Веселой побежкой гулял ветер, взметывая золотистую пыль.
От запаха ли пыли, пахнувшей по весне ржаными колосьями, или от зеленой зыби раскинувшегося ржаного поля, Митрофан стал думать о хлебе:
– Даст ли Господь урожай?
Вспомнились прежние градобития, неуемные дожди, иссушающие знои, и во рту становилось горько, а хлеб на руках потяжелел. Солнце играло с ветром. Митрофан залюбовался их игрою и сразу же осветился:
– Ничего, – сказал нараспев, – Микола Угодник умолит, вызволит мужика из беды… Он, Микола–то, по межам ходит, хлеб родит, да и к тому же в Крещенье снег шел хлопьями, а это всегда к урожаю…
На автомобиле проехали городские люди. С широким удивлением посмотрели на бородатого высохшего старика, стоявшего у дорожного вскрая: откуда это древнее видение? Кого он поджидает с хлебом–солью среди пустых полей?
Мимо старика проехал велосипедист в кожаной куртке и таких же штанах. Он остановился и спросил:
– Ты, старина, зачем тут стоишь?
– Бедных зашельцев поджидаю…
– А это для чего?
– Хлебушком хочу с ними побрататься… Обычай такой у нас… старинный… штобы это Господь за нашу милость урожай хороший послал…
Велосипедист покачал головой. Время уходило за полдень, а из нищей братии никто не показывался. Это начинало тревожить Митрофана.
– Плохой знак… недобрый… Не посылает Господа ни одного доброго человека… Вот что значит одному–то выходить с хлебом!.. Пошли бы, как встарь, всей деревней, Господь–то и услышал бы.
От усталости Митрофан присел на придорожный камень и задумался. Думы были тяжелые. Чтобы не так больно было от них, он старался дольше и глубже смотреть на поля. Несколько раз повторит:
– Своя земля и в горсти мила!
В думах своих не заметил, как мимо прошел человек в рваней «чернизине» и босой. Митрофан прытко поднялся с камня и крикнул вслед:
– Эй! Поштенный! Остановись!
– Чево? – повернулся прохожий.
– Вы из нищих? – радостно спросил старик, приближаясь к нему с хлебом.
Прохожий плюнул и выругался.
Подойдя поближе, старик признал в нем скупого лавочника из Верхнего села.
Почти до вечера простоял Митрофан на перекрестке и никого из нищей братии не дождался.
Н. Н. Шенбергу
Дорожный посох
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Каждое новолетие я встречаю с тревогой. Идет что–то грозное на нашу землю. В чем оно выразится – не может вообразить душа моя, она скорбит только смертельно!
…Я примечаю, что временами темнеют иконы. Запрестольный образ Христа неведомо отчего стал черным и гневным. Старики сказывали, что перед большими народными бедствиями темнеют иконы. Тоже вот и в природе беспокойно… Когда выйдешь в поле или в лес, то слышишь кругом тревожный, никогда раньше не примечаемый шум. Сны стали тяжелыми. Все пожары да разорения вижу. Не раз себя видел в полном священническом облачении в страхе бегущим по диким ночным полям со Святыми Дарами в руках, а за мною гнались с длинным степным свистом косматые мужики в древних языческих рубахах.
За последнее время до горькой тоски стал людей жалеть! Так вот и чудится, что все мы на росстани–пути стоим и скоро не увидим друг друга.
А может быть, все это беспокойство – моя болезненная мнительность?
Дал бы, Господи!..
Хотя… сказывала мне матушка, у меня в детстве некие прозрения грядущего были. Слышал я голоса неведомые, опасность чувствовал и даже смерть близких моих предугадывал.
* * *
Навечерие Богоявления Господня. Идет снег, засыпая тихим упокоением наше селение. Только что совершил чин великого освящения воды. При взгляде на воду всегда думаешь о чистоте. Помог бы Господь струями иорданскими омыть потемневшее лицо земли. Много стало скверны в жизни. Замутились от скверны реки Божии…
Завтра начну свою проповедь словами: «Мир как бы книга из двух листов. Один лист – небо, а другой – земля. И все вещи в мире суть буквы». Осквернили мы великую книгу Божию…
По народным сказаниям сегодня ночью на речные и озерные воды сойдет с неба Дух Божий и освятит воду и она всплеснется подо льдом. Наши старики пойдут с ведрами за полунощной водой, креститься будут на нее, а завтра, после обедни, зелено вино в ратоборство со святою водою вступит… Много греха всякого будет…
Господи! Избави землю Твою от глубокия нощи!..
* * *
При пении «Глас Господень на водах» мы пошли крестным ходом на Иордань. Было сумеречно от тяжелых метельных туч. Под ногами скрипел мороз. Любо глядеть, когда русский народ идет в крестном ходе и поет! Лицо у него ясное, зарями Господними уясненное. Троекратным погружением креста в прорубь мы освятили наше озеро. С какой светоносной верою русский человек пил освященную воду, мылся ею, сосуды наполнял, дабы в смертный час испить ее как причастие!
Когда возвращались обратно, то началась метель. Что–то древнее, особенно русское было в нашем заметеленном крестном ходе. Ветер трепал старые хоругви. На иконы падал снег. Все мы были убеленными. Метель и наше церковное древнее пение!.. Так хорошо… и особенно трогал желтый огонек несомого впереди фонаря…
До самого позднего вечера я ходил по избам «со славою» и освящал паству свою богоявленской во–дою. Деревня была пьяной. Неужто опять драки и смертоубийство?
Ночью разболелась у меня голова. Я вышел на крыльцо. Метель вошла в полную свою силу. Тревожно было слушать завывы ее.
– Не попусти, Господи, очутиться кому–либо в поле или на лесных дорогах!..
Звонари наши загуляли. Пришлось самому подняться на колокольню, чтобы позвонить в пути находящимся…
Звонил долго и окоченел весь. Перед тем как сойти с колокольни, долго смотрел на метель… Не прообраз ли она того грозного, что идет на русскую землю?
* * *
Доктор качал головою: да разве мыслимо, отец Афанасий, с вашими–то легкими на мороз да на вьюгу выходить? Все тревожились за меня. Сказывали, что смерть у изголовья стояла, но улыбнулся мне Христос и озарил чашу мою смертную…
Когда здоров священник и горя он не ведает, то не особенно ублажает его деревенский народ: насмехается, грубые слова ему вслед бросает, песни нехорошие про него поет, но заболей священник – народ душу свою отдаст, чтобы вернуть его, помочь ему… Одинокий он, русский человек, и только священник еще «отцом» ему является… Хоть и недостойным зачастую, но все же родным и нерасстан–ным… Вот и со мною тоже: когда здоров был, то всякие грубости и насмешки слышал, а заболел тяжко – плакали навзрыд, молились, руки мои целовали.
* * *
Весь мир для меня стал теперь теремом Божиим. Все хорошо. Все разумно. Все светло. Вот что значит болезнь! На стол упало солнышко. Я положил на него руки и очень радовался – жизнь жительствует!
В первый раз я вышел на воздух. По снегам март ходит, а за ним воробьи вприпрыжку. Ах уж эти воробьи! Хорошие они птицы! Радуют и умиляют ребячеством своим, неунывностью, вседовольно–стью! Хороша земля Божия. Скоро весна наступит и, по образному выражению народа нашего, зачнет она милому рубашки вышивать разными–то цветами, травами, узорчатыми листами. Приневестит она землю в новую вышитую рубашку. Будет земля в новой рубашке ходить!
Диакон Захарий меня под руки поддерживает, и вижу, душою чувствую, любо ему, что я с одра болезни восстал! Смотрю в широкое усветленное лицо его и думаю: вот бы и всегда так ходили бы люди по земле Божией, друг друга поддерживая и улыбаясь… этак тихо, из самой глубины сердечной…
Нехорошо священнику о земном думать, но сегодня подумал и загрустил: как бы радовалась моему выздоровлению покойная супруга моя!.. Она бы сегодня меня под руку поддерживала… Оба мы с нею мечтатели, и обязательно вспомнили бы, как ходили юными по Москве, поднимались на Воробьевы горы и слушали московский великопостный звон. В предвесеннюю пору всегда вспоминается юность, наше невесто–неневестное.
Да, не может человек носить в себе полную незамутимую радость!
* * *
Великий пост. Таинство исповеди. Тяжкими грехами замучен человек. С каждым годом эти грехи глубже и чернее. Невыносимое бремя лежит на священнике: разрешать грехи человеческие! На многих и многих необходимо по святым правилам нашей церкви наложить тяжкую епитимию, но не могу я! Нет во мне суровости, да и жалко кающегося русского человека.
Многое спасет русский народ великим своим даром покаяния! Только мы способны заплакать словами канона Андрея Критского: «Погубих первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг, и стыждуся».
Побежали ручьи. После великого повечерия я ходил гулять в лес и сорвал несколько красных прутиков вербы. Все очарование весны в этих красных зоревых прутиках! Когда помирать буду, то, наверное, они только и вспомнятся от всего того, что пригрезилось на земле.
…А леса–то наши вырубают! Кругом села такие были заповедники, такая чащоба, сколько птиц и зверей было, а теперь пустыри… Примечаю я: чем больше природы уничтожается, тем хуже на земле становится и лик человека утрачивает свою ясность.
Над природой человек озоровать стал! Так и норовит разорить ее, растоптать, власть и силу над нею показать. Сколько было случаев, когда ради озорства выжигались многоверстные леса, убивали зверя и птицу. Пугливо стала смотреть природа на человека… Не произошла бы от этого великая скорбь!
* * *
В кануны Страстной седмицы я обходил избы своей паствы. Никогда этого не делал. Ныне что–то особенно стал тревожиться за человеческую душу. К чему–то ее приуготовить хочется, укрепить. Все кажется, что великим соблазнам она будет подвергнута. Приду в избу и скажу: на огонек к вам пришел! Все радовались приходу моему. Поставят самовар, сядут ко мне поближе, и зачну я беседовать с ними… Любо глядеть на лица крестьян, при скудном свете керосиновой лампы слушающих слова Божии!
Одинок русский человек, очень одинок! Утешитель ему нужен. В России обязательно должны быть монастыри и старцы–печальники… Без них некуда деваться беспокойной душе нашей!.. Не от одиночества ли нашего и все скорби, и туга душевная, и надрыв, и грех?
* * *
На Страстной неделе деревня на монастырь похожа. Все строги, тихи хождением, тихи на словах, братолюбивы и уступчивы. Даже озорники и отпетые держат строгий пост. Гляжу на них и опять верю: не отречется от Христа народ русский! Пойдет к Нему, все Ему расскажет, покается и сядет у ног Его…
Я вышел на крыльцо. Тихие весенние сумерки. Сумерки предпасхалья. Ветер апрельский. Вспомнились мне трогательные слова Чехова: «Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре». Никогда такой близкой не кажется русская земля, как в пору таяния снега, в сумерках, при ветре. За последнее время она особенно почему–то ненаглядна, словно уйти куда–то хочет от меня…
* * *
Сижу сейчас один у пасхального стола и думаю: отчего грустно мне в эту спасительную и светоносную ночь? Почему опять тревожит мысль, что все мы на росстани–пути стоим и скоро не увидимся друг с другом.
Троекратным лобызаньем целовал в уста пасомых своих, и хотелось плакать. Особенно грустно было смотреть, как шли они по весенним размытым дорогам с узелками освященных куличей, светло, по–Христову, улыбаясь друг другу. Вот, думаю, сейчас скроются и никогда больше не придут сюда, на радостную Христову вечерю.
А может быть, и впрямь у меня что–то болезненное?.. Дал бы, Господи!
* * *
Солнце заливает землю. Яблони в полном цветении. Глаз не нарадуется дивному благолепию весны. Кто–то очень хорошо сравнил двенадцать месяцев года с двенадцатью учениками Христа. Май месяц – это Иоанн Богослов, апостол любви, любимый Христов ученик.
Я сижу на солнышке и листаю псалмы Давида. На мое плечо и на страницы книги падают лепестки яблонь. И так кстати открылись мне слова псалмопевца о солнце:
«Небеса поведуют славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь… Он поставил в них жилище солнцу… от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его».
От этих слов или от вешней красоты я не мог не перекреститься и не воскликнуть:
– Господи! Да приидет Царствие Твое!
– Вот бы скорбь людскую изжить! Радость на земле насадить! Жития безмятежного достигнуть!
* * *
Лето стоит знойное. Во многих местах горят леса. Солнце застилается дымом. Свет стоит тревожный, словно апокалипсический. По ночам вспыхивают гневные сухие молнии.
Ползают темные приглушенные слухи…
Старик Кирик сказал мне сегодня, что он приникал к земле ухом и слышал, как гудит земля:
– К беде это, батюшка!
Деревенский дурачок Сема ходит по деревне и во все горло распевает пугающую песню:
Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной,
Иль мою погибель чуешь,
Да э–эх!..
Бабы на него шикают, а он раздирает душу этим степным взвизгом: Э–эх!..
Я не мог удержаться, чтобы не выйти сегодня ночью в сад и не приникнуть ухом к земле – послушать, гудит ли она?
А может быть, это мое сердце гудело?