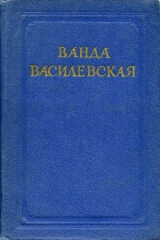
Текст книги "Из года в год... (Статьи и речи)"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
ПЕРВЫЙ КОЛХОЗ
Мы съезжаем с шоссе на проселок. По сторонам зеленые перелески, ольховые рощи. Перед нами медленно движется крестьянская телега.
– Как проехать в колхоз имени Сталина?
Стоящая на телеге женщина весело улыбается.
– Да это к нам! Мы тоже из колхоза! И лошади колхозные. Я покажу!
Мы быстро приближаемся к деревне Уховец. Это здесь, в восемнадцати километрах от Ковеля, – возник первый колхоз.
Деревня Уховец. Памятна кровавая история этой волынской деревни.
Спокойно, бесстрастно рассказывает ее председатель колхоза, депутат Верховного Совета СССР.
Самого его тогда не было дома. Он сидел в тюрьме. Вечером домашние легли спать. Мать в избе, брат в сарае, на сене, отец за сараем.
Ночью матери послышался выстрел. Она приподнялась на постели и минуту прислушивалась, но всюду было тихо. Утром вышла посмотреть, почему муж не идет в избу.
Он лежал за сараем, в луже крови.
На крик женщины сбежались соседи. Вслед за ними явилась с ближайшего поста полиция. Полицейские принялись разгонять людей, пришедших посмотреть на покойного.
Жена убитого бросилась в сарай, чтобы разбудить сына. Он лежал на сене и, видимо, крепко уснул. Его не разбудили крики за стеной. Но когда мать коснулась лежащего, то почувствовала холод смерти. Двадцатилетний юноша был мертв. Его убили ночью выстрелом в упор, выстрелом в спящего человека.
Женщина выбежала на улицу. Увидев избиваемых людей, она в отчаянии крикнула:
– Убили, а теперь не даете людям даже посмотреть!
Ее арестовали. Повели в город. А убитых похоронили украдкой, молчком, так что об этом никто и не знал.
Так расправлялся с людьми уховецкий полицейский пост. Аресты? Тюрьмы? Суд? Слишком длинная и хлопотливая процедура. Гораздо проще и легче прийти потихоньку ночью, приставить револьвер к груди спящего крепким сном человека и выпалить.
Карательный полицейский отряд сидел в деревне целые годы. В белом домике у дороги гнездилось, в зависимости от обстоятельств, десять, тридцать полицейских.
Мы переходим через дорогу. В небольшом сосновом лесочке – могила. На полотне четко выделяются слова:
«Павшим в борьбе…»
Могила свежая. Но в ней лежат трое убитых еще в 1932 году. Трое юношей-коммунистов. Полицейские застрелили их в соседней деревне, привезли убитых сюда, к своему посту, ночью закопали их в роще, утоптали землю, забросали ветвями и хвоей свежий след, чтобы никто не узнал, где они лежат.
Полицейский пост нависал над деревней черным кошмаром. Проходя мимо него, крестьяне обязаны были снимать шапку, с обнаженной головой проходить мимо притона убийц. Непрестанно, каждый час дня и ночи чувствовал на себе уховецкий крестьянин оловянный взгляд полицейского. От десяти до тридцати полицейских были в состоянии «обслужить» отданную на их произвол бунтующую деревню.
А деревня бунтовала непрестанно.
В церковные праздники уховецкий крестьянин выходил на работу. У него были свои праздники, иные, не значащиеся в официальном календаре.
Первое мая, годовщина Октябрьской революции, день «Трех Л.»[1]1
Праздник «Трех Л.» – памяти Ленина, Либкнехта, Люксембург.
[Закрыть], антивоенный день.
Полиция стояла на страже поповских интересов. Она прогоняла с полей работающих в церковные праздники. Налагала на них штрафы, травила всеми доступными ей средствами.
Полиция стояла на страже интересов капитала. В день Первого мая из Уховца двинулось шествие со знаменем. Не успели демонстранты дойти до соседней деревни Волошки, как появились полицейские. Затрещал пулемет. Кровью отметила деревня Уховец праздник Первого мая.
Гибли люди, убиваемые полицией. Никто не отвечал за выстрелы, раздававшиеся во мраке сараев, в клетушках изб. На то ведь и существовал карательный отряд. Деревня была отдана на произвол нескольких десятков уверенных в своей безнаказанности озверевших людей. Они здесь были единственными хозяевами – хозяевами жизни и смерти. Они диктовали законы.
А кроме того, был еще и суд. Сыпались приговоры – годы и годы тюрьмы.
– Первый раз я получил пять лет, потом десять, – говорит Михаил Васюта. – Брат – шесть, дядя – двенадцать.
Шесть, десять, двенадцать лет. Приговоры крестьянину из волынской деревни сыпались щедрой рукой. Любой ценой, любыми средствами старались затушить тлеющие красные искры, то и дело вспыхивавшие жарким пламенем.
Не помогали убийства, не помогали тюрьмы. Деревню Уховец несколько раз усмиряли. На избы внезапно налетала синяя туча полицейских. Обыск, поиски оружия. Этого оружия искали в соломенной крыше, разрывая ее в клочки. Искали в стенах, разрушая постройки. Искали в избе, раздирая крестьянскую одежду, и в клети, рассыпая зерно. После полицейского налета деревня выглядела, как после землетрясения.
Но крестьяне, стиснув зубы, чинили разрушенные избы, поправляли растрепанные крыши и попрежнему выходили на работу в церковные праздники, попрежнему Первого мая становились в ряды, попрежнему читали нелегальную литературу и попрежнему вешали красное знамя у въезда в деревню.
И, наконец, пришел сентябрь 1939 года. Деревня Уховец дождалась. Кто-кто, а она честно, страданиями и кровью заработала этот день. Небольшой отряд Красной Армии появился в деревне Уховец в ясный сентябрьский день.
…Теперь в доме, где помещался полицейский пост, находится сельсовет. Решетки из окон вынуты – от них остался лишь след, последнее воспоминание. В роще отыскали могилу украдкой похороненных товарищей, торжественно возвели над ней земляной холм. И деревня Уховец первая в западных областях Украины взялась за организацию колхоза.
Триста двадцать желающих приняли. Семьдесят – отвергли. Отвергли всех, кто был когда-то связан с полицией, всех, кто не стоял в одних рядах с деревней, всех, на чьей совести тяготели те или иные грехи против рабочего, против крестьянского дела, всех, кто думал только о себе и не жил общей, тяжкой, кровавой жизнью Уховца.
Колхоз назвали именем товарища Сталина. Великое имя, но деревня Уховец не посрамит этого имени, будет верна ему, как была верна в трудные, тяжкие, мрачные дни панской неволи.
Две тысячи с лишним гектаров земли. Сто двадцать лошадей. Есть уже и четыре трактора. Тракторы идут по окупленной потом и кровью земле. По крестьянской земле и по земле, которую раньше банк сдавал частному арендатору.
Много пришлось потрудиться, чтобы привести в порядок эту банковскую землю. Она была запущена, поросла бурьяном. Крестьянские руки вырвали бурьян из земли, которая стала собственностью колхоза. Теперь на ней вызревают помидоры – огромные, великолепные помидоры, кудрявятся гряды моркови, красуется пузатая свекла, растет перец.
Постройки за прежним полицейским постом, которые пропадали зря и рушились, теперь отремонтированы и в них помещаются склады зерна, а дальше – конюшня, стойла. Мычат телята, идут с пастбища коровы. Колхозное добро.
Садовник в саду осматривает яблони. Зима была суровая, но все заморозить ей не удалось. Краснеют спелые яблоки.
Издали слышен грохот молотилки. Мерный, непрестанный стук. Сыплется зерно – наконец-то свое собственное зерно. Мы обходим с Михаилом Васютой колхозное хозяйство.
– Доктор? Как же, есть. Детский сад? Есть, конечно. Ветеринар? Ясно.
Я хожу по зеленой траве сада, и мне трудно говорить. Радость, от которой перехватывает дыхание. Я счастлива глубоким счастьем этих людей, счастьем деревни Уховец.
Из сельсовета раздается говор. На улицу выходит кучка молодежи. С узелками, со свертками.
– Наши ребята едут сдавать экзамены, – улыбается Михаил Васюта.
Едут. Они учатся на педагогических курсах, санитарных курсах, на курсах воспитательниц детских садов.
Деревня Уховец учится, работает, поднимается к новой жизни. Перед ее молодежью открылась большая, широкая дорога. Всего год тому назад перед этой молодежью была только перспектива тюрьмы.
Мы подсчитываем выработку колхозников.
– Вырабатывают по два, по три трудодня в день. Хорошо работают. А как же, для себя ведь! Когда вязали снопы, так и вцепились. Молодежь торопится, пожилые женщины не хотят уступить – что ни день, то новый рекорд!
– Скоро будут свои трактористы. Ребята многому научились за это время. Весной они уже сами поведут тракторы.
Колхозная земля еще напоминает шахматную доску. Только весной можно будет объединить в одно целое узкие полоски и квадратики. Пока это невозможно, так как уже были посеяны озимые.
Колхоз живет планами, проектами, предположениями. Наладить кирпичный завод, построить, основать, организовать…
И наверняка построят, наладят, организуют. Достаточно поглядеть на этих людей.
…Я хорошо помню волынскую деревню два-три года назад. Хмурые лица, мрачные лица угнетенных сверх всякой меры и сверх всяких сил людей. А теперь – нам весело улыбаются девушки, у помидорных грядок веселый разговор. Деревня Уховец ожила, спины разогнулись, глаза блестят радостью.
– А как другие деревни? – спрашиваю я у Васюты.
– Приглядываются. Были такие, что распускали слухи, будто колхоз разваливается, все пропадет. Но ведь все видят, как обстоит дело.
Ночую я у колхозника, бригадира. Веселая девочка светит мне в сарае фонарем.
– А ты кем будешь?
– Я буду летчицей, – отвечает она уверенно.
Я лежу в темноте на сене. В щели заглядывает светлая ночь. Я думаю о тех ночах, которые провела в волынских деревнях во время прежних странствий, – в усмиренных деревнях, в нищих избах, в домах людей, убитых полицией, в домах людей, умирающих с голоду, – в замученных, угнетенных, страдальческих волынских деревнях. Сердце тогда разрывалось от боли, а кулаки сжимались от гнева.
Пахнет сеном. Издали доносится стук молотилки. Молотилка работает теперь без перерыва, днем и ночью.
Где-то далеко грохочет поезд – колхозная молодежь едет на курсы.
Растет, развивается, расцветает первый колхоз западных областей Украины. Растут, развиваются, расцветают люди деревни Уховец. В колхозе работают шестьдесят бывших политзаключенных. В далекое прошлое отошли те дни, когда их отделяла от зеленых полей тюремная решетка. Михаил Васюта, сын и брат убитых полицией, сам отсидевший семь лет за коммунизм, – теперь депутат Верховного Совета. Вознаграждены долгие годы борьбы, мук и крови.
Тихая ночь над колхозом имени Сталина. Только неутомимо стучит молотилка.
Да, здесь каждый до самой глубины сердца чувствует радость освобождения. Сознательно, честно, от всей души работает колхоз имени товарища Сталина.
Пахнет сеном. Глубоко, до самой глубины сердца я переживаю величайшую радость, величайшее счастье и величайшую гордость за мою родину.
1940
ПЕРЕМЕНЫ
Прошел год с момента, когда первые отряды Красной Армии перешли линию Збруча и земли Западной Украины вступили в полосу великих перемен.
Долгие годы люди, которые осмеливались употребить термин «Западная Украина», отвечали за это перед судом. Долгие годы язык, на котором говорит здешний крестьянин, в официальной статистике именовался «местным» языком. Боялись самого названия, самое название казалось опасным правителям страны.
В деревнях на Волыни, в деревнях над Бугом запрещалось пение песен, потому что это были украинские песни и пел их украинский крестьянин на украинской земле.
Но этого-то и не хотели признать. Украинская земля? Огромное количество этой земли было в руках помещиков, в руках магнатов, в руках князей церкви. Гораздо легче было заметить помещика, который концентрировал в своих руках сотни тысяч гектаров, чем серую крестьянскую массу, бедствующую и голодающую по деревням.
Не хотели признать, что большинством на этих украинских землях является украинское население. Об этом не разрешалось говорить, не разрешалось писать. Но в то же время хозяйственная политика велась с полным учетом существования украинского населения и с полным учетом существования близкой границы над Збручем. Как можно меньше вложений – ведь это окраинная земля. Никаких больших фабрик, никаких крупных промышленных предприятий. Как можно больше прибыли, как можно больше взять от этой земли и не дать ей взамен ничего. Держать население на низком уровне культурного развития – сознательный противник всегда гораздо опаснее, чем самые страшные стихийные взрывы отчаяния.
Против этих стихийных взрывов отчаяния были верные средства. Отряды полиции нападали на деревню, и начиналась кровавая расправа. В трескучий мороз крестьянина заставляли собственными руками разбирать крышу своей избы, раскатывать бревна стен. Зерно обливали нефтью, скот резали и мясо также поливали нефтью, чтобы, лишенный крыши над головой, крестьянин не мог им подкрепиться.
Мне пришлось как-то побывать в такой усмиренной деревне. С усмирения прошло уже два года, а деревня все еще выглядела, как кладбище. Кое-как заплатанные крыши, кое-как сколоченные хлевы, в которых кое-где мычали голодные коровы. Вокруг домов голо, деревца еще не успели отрасти. И мрачные, темные лица людей, недоверчиво глядящие на пришельца, потому что каждый пришелец мог принести несчастье, такое же несчастье, как то, что вихрем ужаса пронеслось два года назад над испуганно прильнувшей к земле деревней.
Кровавыми буквами писалась история этой земли. Украинский крестьянин, привыкший к пространству и воздуху, умирал от туберкулеза в камерах Равича, Вронок, Коронова, в бараках Березы-Картуской.
Люди по деревням жили непосильным трудом, тщетно пытаясь свести концы с концами. Деревни, расположенные ближе к городам, еще кое-как перебивались. Можно было все же продать сельскохозяйственные продукты и раздобыть таким образом кое-какие гроши. Но подальше от городов, подальше от трактов пышно разрасталась нищета. Дети вымирали без медицинской помощи, потому что врач никогда не добирался до разбросанных на огромных пространствах деревень. Дети росли без школ, потому что не было ни школьных зданий, ни учительских сил, хотя столько учителей в Польше погибали без работы. Путь из деревни в город был закрыт – в городе хватало своих безработных. Безземельный и малоземельный крестьянин нанимался за любую цену, за гроши, но и за гроши работы не было. Деревня голодала, погружалась в мрачную тьму без спасения, без надежды, хотя труднее всего лишить человека надежды. Об этом свидетельствовал процент заключенных из этих краев в тюрьмах и в Березе, об этом свидетельствовали вечные судебные процессы, где перед судейским столом проходили сотни крестьян, обвиняемых «в принадлежности к организации, имеющей целью ниспровержение существующего строя».
Но недовольство крестьян, их отчаяние удавалось иногда использовать и реакционным элементам, которые отравляли деревню чуждой ей по духу и по сущности агитацией, манили ее миражами мнимого счастья в государстве, прилегающем к Польше с запада.
А затем донесся отдаленный грохот орудий, гром сыплющихся на города и деревни бомб, зарделось зарево пожаров, быстро охватывающих соломенные крыши.
Гибель неслась с запада.
И вот 17 сентября грянула весть:
«Красная Армия перешла границу!»
Сейчас, с перспективы почти полного года, можно уже говорить о тех переменах, которые произошли за это время.
Я не люблю писать о вещах и делах, которые знаю не совсем точно. Поэтому, так как наиболее подробными материалами, находящимися в моем распоряжении, являются материалы Львовской области, Львовскую область я и возьму в качестве примера. Помножьте все это на число областей, и вы получите полную картину.
За перестройку, за исправление всего, что было запущено, за уничтожение всех обид и всех несправедливостей – взялись сразу.
Наиболее жгучей проблемой была земля. Преобладающую часть населения представляют здесь крестьяне, а большинство их было малоземельными или совсем безземельными. В одной Львовской области около 25 тысяч хозяйств вовсе не имело земли, 35 тысяч хозяйств имели не больше чем по одному гектару, 30 процентов хозяйств не имело лошадей для обработки земли.
В руках 300 помещиков и 7 тысяч осадников и кулаков, составлявших 3 процента общего количества населения, было сконцентрировано 39 процентов всей земли…
Я вспоминаю свои прежние странствия по этим землям, по этим зеленым, усеянным цветами лугам. Я спрашивала встречных крестьян:
– Чье это?
Крестьянские глаза смотрели на меня недоверчиво и удивленно. И слышался неохотный, неизменно один и тот же ответ:
– Господское.
Крестьянин удивлялся: о чем тут спрашивать? Чей же и может быть расцветший на солнце луг? Конечно, господский, панский, помещичий. Крестьянские коровы паслись на обглоданных догола выгонах, щипали кислую болотную траву, жевали клочья вырванной из крыши соломы. Луг всеми своими красками цвел только для помещика, для него одного.
– Чей лес? – спрашивала я при виде шумящих высоких дубов, березовых рощ, темных еловых чащ, розоватых сосновых стволов.
Крестьяне пожимали плечами.
– Господский.
Ну, конечно, чей же он может быть, если не господский? Крестьянину нечем было затопить печку, нечем огородить поле, не из чего сделать ясли в конюшне. Вокруг шумели господские леса, огромные, непроходимые, пригожие, как радзивилловская пуща над Львой, как лес над Белым озером, как сотни других. Но крестьянке часто приходилось расплачиваться жизнью за вязанку хвороста: лесник недолго раздумывал, прежде чем спустить курок.
Вода тоже была господская – пруды, озера, ручьи, в которых плескалась хищница-щука, медленно плавал сверкающий карась, копался в иле толстый линь. Господские земля, вода и лес.
С этим покончено раз навсегда. Теперь крестьянин говорит: «Моя земля». Он говорит: «Наша земля». Крестьяне получили от советской власти больше 134 тысяч гектаров земли, 5 тысяч лошадей, машины. Вырастают колхозы. К ним переходят не сразу: мудрые распоряжения Никиты Сергеевича Хрущева привели к тому, что крестьянин постепенно врастает в колхозную систему. Великая перестройка сельского хозяйства проходит без потрясений, без внезапных скачков, без суматохи.
Для крестьянина начинается эра, когда он, наконец, сможет жить как человек. Но эта эра началась не только для крестьянина.
Тотчас после вступления Красной Армии было издано распоряжение приступить к школьным занятиям.
Школьный вопрос был вечной язвой прежних лет. На тему о школе говорили, декламировали, произносили пышные фразы. Государство взывало к обществу, требуя пожертвований в пользу просвещения. Общество требовало от государства строительства школ, а среди шума этих призывов и требований положение не менялось. Сотни тысяч детей не могли попасть в школу. Росли сотни, тысячи неграмотных людей. Перегруженные работой, плохо оплачиваемые учителя не могли справиться с переполненными классами, дети, посещающие школу, получали в ней очень мало. Ширилась повторная неграмотность. Достаточно было нескольких лет, чтобы жалкие школьные знания выветрились из головы, чтобы молодой парень или девушка снова не умели подписаться.
Я видела на Сельскохозяйственной выставке в Москве диаграммы, показывающие успехи ликвидации неграмотности в Советском Союзе, и мне вспомнились знакомые деревни.
Я сидела раз в дверях сарая в деревне над Стоходом и писала письмо. Крестьяне сошлись толпой, как везде, впрочем, где появлялась байдарка, в которой мы странствовали по этим краям. Они с изумлением заглядывали через мое плечо:
– Гляди, гляди, женщина пишет!
То, что женщина умеет писать, казалось им редким, необычным явлением…
Впрочем, так было не только в деревне. Сколько домашних работниц в городе, сколько фабричных рабочих не умели читать и писать! Целые толпы безработных учителей гибли у нас с голоду. И в то же время в скольких деревнях только пожимали плечами, когда я спрашивала, где у них школа.
– Откуда у нас школа…
– Уже два года, как у нас ее закрыли…
– Собирались у нас открыть школу, да куда уж!..
Малышам приходилось иногда брести шесть, десять километров, чтобы добраться до школы в третьей, четвертой деревне. Но часто этой школы не было ни в третьей, ни в четвертой, ни в пятой деревне. Дети росли, не умея читать и писать. Мальчика пытались впоследствии выучить азбуке в армии, девочка так и оставалась всю жизнь неграмотной. Это положение ухудшалось с каждым годом. И вот с этим покончено. На территории одной только Львовской области открыто 412 школ. В них учится 61 тысяча детей. Раньше, если украинский ребенок попадал в школу, его заставляли выполнять двойную работу: овладевать знаниями на чуждом для него языке. Украинских школ было немного. Их количество сейчас увеличилось с 91 до 878. Украинскими школами, учебой на родном языке пользовались 14 тысяч детей, теперь – 142 тысячи.
Конституция гласила, что в Польском государстве начальная школа является бесплатной. Но каждый, у кого был ребенок школьного возраста, знает, как выглядела эта «бесплатность». Не было предлога, под которым, под видом школьных надобностей, не выжимали бы денег из крестьянских и рабочих карманов. А средняя школа, университет для огромного большинства оставались несбыточной мечтой.
Я сама несколько лет была учительницей средней школы в тот период, когда рабочему или крестьянину было еще сравнительно легче поместить туда ребенка. Я руководила как раз таким классом, где было довольно много пролетарских детей. Пролетарских детей, у которых не было денег на книги, на тетради, которым приходилось готовить уроки в тесных, набитых людьми каморках, при слабом свете керосиновой лампы, которые питались как попало и чем попало. Я глядела на лица их родителей, измученные лица тружеников. Ценой какого напряжения, каких жертв они пытались дать образование своему ребенку!
И как часто случалось, что, когда наступало время взноса платы за учение, мальчик исчезал из класса.
Достаточно было одного града, который уничтожал ожидаемый урожай, одной засухи, сжигающей хлеб, одной внезапной болезни, и все рассыпалось в прах, ребенку приходилось возвращаться в деревню, к нищенскому хозяйству, отказываться от несбыточных мечтаний об учебе.
А высшие учебные заведения? С каждым годом уменьшалось количество пролетарских детей в университетах. Университетская наука была дорога. Двери знаний узки для бедняков. Эти двери неохотно приотворялись перед теми, у кого не было золотого ключа богатства и происхождения.
Теперь дорога для молодежи открыта.
Позаботились и о здоровье человека. В Львовской области организовано 16 новых больниц. Количество мест в больницах увеличилось почти на полторы тысячи, организованы 62 амбулатории, созданы родильные дома, антитуберкулезные и антивенерические диспансеры. Вместо 318 врачей теперь работают 890.
Несколько дней тому назад я разговаривала с молодой актрисой. Она только что вернулась из поликлиники и наивно, по-детски сказала мне:
– Подумай, сколько времени я болела и не мечтала вылечиться: никогда не было денег. А теперь меня лечат даром, и еще посылают в санаторий, и… я буду здорова!
Это актриса. Не крестьянка, не работница, а интеллигентка, которой в конце концов жилось лучше других. Но и ей нужно было дождаться советской власти, чтобы быть в состоянии лечиться. А раньше? Деревни, которые не знали врача; дети со струпьями на головах, опухшие, вымирающие без числа и меры; изнуренные болезнями женщины; туберкулез, опустошающий ряды пролетариата; знаменитые больничные кассы, выжимающие из рабочих деньги и выплачивающие вспомоществования, как из милости, с ограничениями, с препятствиями, – вспомоществования, мало помогающие и не всем доступные. Перегруженные работой врачи, ничего не могущие сделать вопреки предписаниям, имеющим в виду не больного, а «учреждение». Хождение по мытарствам из одной больницы в другую; ожидания целыми месяцами операции, потому что в палатах нет места; огромная плата за жалкую больничную пищу; подымание роженицы с кровати на третий день, потому что следующая ожидала очереди, лежа на полу, на носилках. Отчаяние больного человека, который погибал без помощи и спасения, который знал, что только деньги дали бы ему жизнь, но этих денег нет, а поэтому придется промучиться месяцы или годы и потом умереть.
Теперь это прошлое. У меня все еще звучит в ушах голос молодой актрисы: «Знаешь, я буду здорова. Меня лечат даром и вылечат!»
Здоровье стало правом человека. Этому здоровью служат вновь возникшие больницы, санатории, диспансеры, которые раньше были совершенно недоступны для труженика. Бесплатная врачебная помощь, о которой у нас так много говорилось, но которая, как и много других вещей, оставалась на бумаге, в области деклараций и никогда не реализуемых лозунгов, сейчас действительно проведена в жизнь.
И так в любой области. На предприятиях и фабриках до 1 сентября 1939 года были заняты 16 500 человек, теперь работают 38 тысяч. Кошмар безработицы отходит в область прошлого, как и сотни других призраков, нависающих над жизнью человека, существующего в условиях капиталистического строя.
А вслед за изменением условий жизни меняется и сам человек. Люди, скованные цепями нищеты, гнета и страданий, теперь видят перед собой великую дорогу – ту дорогу, которой идет весь Советский Союз. Люди, изнуренные вечной безработицей, видят теперь перед собой перспективы труда. Люди, лишенные всего, ныне становятся хозяевами величайшего в мире государства.
Эта перемена нелегка. Нужно еще преодолеть тысячу сопротивлений и тысячу предрассудков, нужно выковать волю и бдительность, нужно воспитать понимание многих проблем, многих дел.
Но здешний пролетарий прошел тяжелый жизненный путь под капиталистическим ярмом. Он умеет работать и хочет работать. Он вел долгую и кровавую борьбу, закалился в этой борьбе и поэтому сумеет твердо стоять на страже того, что получил. Он умел верить даже в самые тяжкие, самые темные дни, а теперь-то его вера будет несокрушима. Он умел отдавать свою жизнь и свою кровь за дело рабочего класса – сумеет и теперь отдать жизнь за Советский Союз. Он сумеет жить так, чтобы всей своей жизнью служить делу Советского Союза, великому, трудному и возвышенному делу освобождения!
1940








