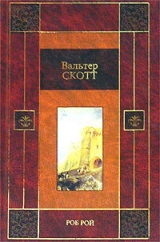
Текст книги "Роб Рой"
Автор книги: Вальтер Скотт
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)
– Пользуйтесь минутой, мистер Рэшли! Покажите, что пара ног стоит двух пар рук. Вам не впервой.
– Благодарите этого джентльмена, мой любезный родственник, – сказал Рэшли, – за то, что я не выплатил вам долг сполна. И если сейчас я от вас ухожу, то лишь в надежде, что скоро мы встретимся опять, но уже в такой обстановке, где нам не помешают.
Он поднял свою шпагу, отер ее, вложил в ножны и скрылся за кустами. Шотландец отчасти силой, отчасти увещаниями помешал мне кинуться за ним. И в самом деле, я начинал понимать, что этим я все равно ничего не достиг бы.
– Не есть мне хлеба, если это не так! – сказал Кэмбел, когда после некоторой борьбы, в которой доказал свое решительное превосходство в силе, он убедился, что я готов стоять спокойно. – Отроду не встречал я такого бешеного мальчишки! Я бы высек первейшего человека в стране, если б он доставил мне столько возни, сколько вы. Куда вас несет? Хотите полезть за волком в его берлогу? Знайте же, юноша, он расставил вам старую ловушку – подбил таможенную крысу Морриса поднять опять ту старую историю, а здесь я не выступлю свидетелем в вашу пользу, как у Инглвуда, не ждите! Мне вредно для здоровья наведываться к судьям из породы вигаморов. Ступайте вы домой, как пай-мальчик, нырните поглубже и ждите, пока спадет волна. Старайтесь не попадаться на глаза Рэшли, и Моррису, и этой скотине Мак-Витти. Помните о клахане Эберфойле, как был у нас уговор, и вот вам слово джентльмена, я вас не дам в обиду. А до нашей встречи держитесь потише. Я должен выпроводить Рэшли из города, пока он чего не натворил, – где он покажет свой нос, там всегда жди какой-нибудь пакости. Помните: клахан Эберфойл!
Он повернулся и ушел, оставив меня одного размышлять о моих странных приключениях. Первой моей заботой было оправить на себе одежду и снова накинуть плащ, уложив его складки так, чтобы они скрывали кровь, струившуюся из правого бока. Едва я это сделал, как сад начал наполняться группами студентов – занятия, видимо, окончились. Я, разумеется, поспешил уйти, и по дороге к мистеру Джарви (приближался час обеда) я остановился у маленькой, невзрачной лавки, вывеска которой сообщала, что в ней обитает Кристофер Нилсон, хирург и аптекарь. Я попросил маленького мальчика, растиравшего в ступке какое-то снадобье, исхлопотать мне прием у многоученого фармаколога. Мальчик отворил дверь в заднюю комнату, где я увидел веселого старичка, который недоверчиво покачал головой, когда я, не задумываясь, рассказал ему какую-то басню о том, как я упражнялся в фехтовании и был случайно ранен, потому что у моего противника соскочила пуговица с острия рапиры. Приложив к моей пустяковой ране корпию и что-то еще, что он считал полезным, аптекарь заметил:
– На рапире, нанесшей эту рану, никогда и не было пуговицы. Эх, молодая кровь! Молодая кровь! Но мы, хирурги, умеем держать язык за зубами. Не будь на свете горячей крови да больной крови, что сталось бы с двумя учеными сословиями – аптекарей и хирургов?
Высказав это нравственное соображение, он отпустил меня, и я после этого не ощущал особенной боли или беспокойства от полученной царапины.
ГЛАВА XXVI
Народ железный там живет в горах,
Он жителю равнин внушает страх.
Твердыню скал обводит гордый глаз,
Приют нужды и воли, – и не раз
Уверенностью вскормленная сила
Низине разорением грозила.
Грэй
– Что вас так задержало? – спросил мистер Джарви, когда я вошел в столовую этого честного джентльмена. – Час давно пробило, сейчас уже добрых пять минут второго. Мэтти два раза подходила к дверям с блюдом на подносе, и ваше счастье, что сегодня у нас на обед голова барашка,
– она от задержки не испортится. Овечья голова – та, если чуточку ее переварить, – сущий яд, как, бывало, говаривал мой достойный отец. Он больше всего любил ушко – правильный был человек!
Я должным образом извинился за свою неаккуратность, и вскоре меня усадили за стол, где председательствовал мистер Джарви, с великим усердием и гостеприимством понуждая и меня и Оуэна оказывать шотландским лакомствам, под которыми ломился его стол, больше чести, чем это было приемлемо для нашего южного вкуса. Я лавировал довольно успешно, пользуясь теми светскими навыками, которые помогают человеку спастись от такого рода благожелательного преследования. Но на Оуэна смешно и жалко было смотреть: придерживаясь более строгих и формальных понятий о вежливости и желая всеми законными средствами почтить и уважить друга нашей фирмы, он со скорбной покорностью глотал кусок за куском паленую шерсть и расхваливал это блюдо срывающимся голосом, в котором отвращение почти заглушало учтивость.
Когда сняли скатерть, мистер Джарви собственной рукой замешал небольшую чашу бренди-пунша – первую, какую довелось мне выпить.
Лимоны, поведал он нам, были с его собственной маленькой заморской фермы (в Вест-Индии, как показало нам пояснительное движение его плеча), а рецепт составления напитка он узнал от старого капитана Коффинки, который сам перенял это искусство, как полагают в народе, – шепотом добавил бэйли – от вест-индских пиратов.
– Но напиток превосходный, – сказал он, потчуя нас. – Ведь нередко на дурном рынке можно купить хороший товар. И надо сказать, капитан Коффинки, когда я водил с ним знакомство, был вполне достойный человек, только вот божился он отчаянно. Он умер, бедняга, и дал свой отчет Всевышнему, и я надеюсь, что отчет его принят, надеюсь, что принят.
Пунш показался нам чрезвычайно вкусным и привел к долгому разговору между Оуэном и нашим хозяином о выгоде соединения королевств, открывшего для Глазго благотворительную возможность завязать торговлю с британскими колониями в Америке и Вест-Индии и благодаря новым рынкам расширить свой вывоз. Однако на замечание Оуэна, что Шотландии трудно было бы удовлетворить американский спрос, не закупая товаров в Англии, мистер Джарви стал возражать горячо и красноречиво:
– Ну нет, сэр, мы твердо стоим на своих ногах и нащупываем все, что нужно, на дне своей кошелки. В Стерлинге есть у нас шевиот, в Массельбурге – дамское сукно, в Эбердине – чулки, Эдинбург поставляет нам шелун и всякие сорта шерстяной пряжи; и есть у нас полотно всех сортов, лучше и дешевле, чем у вас, в Лондоне; а ваши североанглийские товары – манчестерскую мануфактуру, шеффилдскую сталь, ньюкаслскую глиняную посуду – мы покупаем не дороже, чем вы у себя в Ливерпуле. А с бумажными тканями и с муслинами мы делаем просто чудеса. Так-то, сэр! Дайте каждой селедке висеть на своей голове, каждой овце – на собственном окороке, и вы увидите, сэр, что мы, глазговцы, не так уж сильно от вас отстали, – как бы еще не пришлось вам нас догонять. Вам скучно слушать нашу беседу, мистер Осбалдистон, – добавил он, заметив, что я давно молчу, – но вы знаете пословицу: коробейник всегда говорит о своем коробе.
Я извинился и объяснил, что причина моего рассеянного внимания – печальные обстоятельства и необычное приключение, случившееся со мною утром. Таким образом я достиг того, чего искал, – удобного случая ясно, без помехи рассказать свою повесть. Я только умолчал о полученной ране, находя, что она не заслуживает упоминания. Мистер Джарви слушал с большим вниманием и явным интересом, моргая серыми глазками, часто прикладываясь к табакерке и перебивая меня только короткими восклицаниями. Когда я дошел в своем отчете до поединка и Оуэн сложив руки, возвел глаза к небесам – живой образ скорбного удивления, – мистер Джарви перебил мой рассказ словами:
– Нехорошо, очень нехорошо! И Божеский закон и человеческий запрещают обнажать меч против родича; обнажать же меч на улице королевского города есть преступление, наказуемое штрафом и тюрьмой; дворы колледжей в этом смысле не дают никаких привилегий – в таких местах, мне кажется, надлежит соблюдать покой и тишину. Колледж получает добрых шестьсот фунтов в год из епископских доходов (к большому огорчению для епископской братии) и субсидию от самого глазговского архиепископа вовсе не для того, чтобы разные бездельники учиняли драки на его дворе или чтоб озорники мальчишки кидались там снежками, как они это нередко себе позволяют: когда мы с Мэтти там проходим, мы должны то и дело приседать и кланяться или же идти на риск, что нам раскроят головы. Тут бы надо принять кое-какие меры. Но продолжайте ваш рассказ. Что случилось дальше? note 72Note72
Шотландские мальчишки в прежние времена устраивали в снегопад нечто вроде сатурналий, забрасывая прохожих комками снега. Но те, кому грозила неприятность попасть под обстрел, могли откупиться легким штрафом: женщины – реверансом, мужчины – поклоном. Гроза обрушивалась только на неучтивого упрямца. (Прим. автора.)
[Закрыть]
Едва я упомянул о появлении мистера Кэмбела, Джарви встал, сильно удивленный, и зашагал по комнате, восклицая:
– Опять Робин! .. Роберт сошел с ума, просто спятил, рехнулся! Роб дождется, что его повесят, и позор падет на всю его родню. Разговоров тогда не оберешься! Мой отец, почтенный декан, выткал его первые штаны, а декан Триппи, сучильщик каната, чего доброго, сплетет ему последний галстук! Да, бедный Робин идет прямой дорогой к виселице… Но продолжайте, продолжайте. Послушаем, чем это кончилось.
Я старался вести свое изложение как можно обстоятельней, но мистер Джарви все же находил в нем кое-какие неясности, пока я не вернулся вспять и не рассказал, хоть и очень неохотно, свою повесть о Моррисе и о встрече с Кэмбелом в доме судьи Инглвуда. Мистер Джарви серьезно выслушал все до конца и довольно долго хранил молчание, когда я закончил рассказ.
– Теперь я должен, мистер Джарви, попросить относительно всех этих дел вашего совета, который, я уверен, укажет мне верный путь, как поправить мне дела отца и оградить мою собственную честь.
– Вы правы, молодой человек, вы правы, – сказал бэйли, – всегда обращайтесь за советами к тому, кто старше вас и умнее; не уподобляйтесь нечестивому Ровоаму, который держал совет с кучкой безбородых юнцов, обходя старых советников, сидевших у ног отца его Соломона и, несомненно, причастных к мудрости его, как справедливо заметил мистер Мейклджон в своей проповеди на текст из соответственной главы. Но я ничего не желаю слышать о «чести» – мы знаем здесь только кредит. Честь – человекоубийца и кровожадный буян, затевающий драки на улицах, а кредит – достойный, честный человек, который сидит дома у огня и следит за своим котелком.
– Совершенно верно, мистер Джарви, – сказал мой друг Оуэн, – кредит – это итог баланса. Если б только мы могли его спасти какой угодно ценой…
– Вы правы, мистер Оуэн, вы правы. Вы говорите хорошо и мудро, и, я надеюсь, мячи у нас пойдут как надо, хотя сейчас они и забирают немного вкось. А что касается Робина, я держусь того мнения, что он, если это будет в его силах, поможет юноше. У него доброе сердце, у бедного Робина; и хоть я потерял по его прежним обязательствам двести фунтов стерлингов и не очень-то надеюсь получить назад даже и ту тысячу шотландских фунтов, которую он мне сейчас обещает, я все-таки всегда повторю, что Робин с каждым готов поступить по справедливости.
– Значит, я могу, – спросил я, – считать его честным человеком?
– Гм! .. – откликнулся Джарви и осторожно прокашлялся. – Да, он по-своему честен – честностью горца; честен, как говорится, на свой манер. Мой отец, декан, всегда, бывало, смеялся, объясняя мне, откуда взялась такая присказка. Некто капитан Костлет вечно говорил о своей преданности королю Карлу, и клерк Петтигру (вы услышите еще о нем немало занятных историй) спросил капитана, каким же это он манером служил королю, сражаясь против него под Вустером в армии Кромвеля. Но капитан Костлет был боек на язык. Вот он и ответил, что служил королю «на свой манер». Отсюда и пошла присказка.
– И вы полагаете, – сказал я, – что Кэмбел сможет услужить мне «на свой манер» и что я смело могу ехать на назначенное им свидание?
– По-моему, откровенно говоря, стоит попытаться. Вы видите сами: оставаться здесь вам небезопасно. Пройдоха Моррис получил место при таможне в Гриноке – в портовом городке на Форте, неподалеку отсюда; и хотя всему свету известно, что он двуногая тварь с гусиной головой и цыплячьим сердцем, которая разгуливает по пристани и пристает к добрым людям со всякими разрешениями, клеймами, пломбами и прочими скучными материями, – все же, если он подаст жалобу, всякий судья посодействует ему, и вы можете очутиться за решеткой, что вряд ли хорошо отразится на делах вашего отца.
– Правильно, – ответил я. – Но едва ли я исправлю их, если уеду сейчас из Глазго, откуда, по всей вероятности, Рэшли будет вести свои происки, и доверюсь сомнительной поддержке человека, о котором я только и знаю, что он боится правосудия и, бесспорно, имеет на то веские причины, – человека, который к тому же ради тайной и, вероятно, опасной цели состоит в тесной связи и союзе с виновником нашего разорения – если оно свершится.
– Ох, вы строго судите Роба! – сказал бэйли. – Строго вы судите, мой бедный мальчик. Все дело в том, что вы совсем не знаете Верхнюю Шотландию – Горную Страну, как мы ее зовем. У горцев совсем другой уклад, чем здесь, у нас: нет у них ни суда народных представителей, ни бэйли, ни выборных властей, которые недаром носят меч и стоят на страже закона, как стоял мой отец, достойный декан, – упокой Господь его душу! – и, смею сказать, как сам я стою в настоящее время вместе с прочими членами нашего глазговского магистрата. А у горцев – как лэрд приказал, так тому и быть. Они не знают иного закона, кроме длины своего клинка. Палаш у них истец, а щит ответчик; кто сохранил голову на плечах, тот и прав, – другой правды в Горной Стране не найти.
Оуэн глубоко вздохнул. Признаюсь, такая характеристика не слишком укрепила во мне желание отправиться в страну, такую беззаконную, какой описал нам бэйли Горную Страну.
– Мы, сэр, – добавил Джарви, – мало говорим об этих вещах, потому что нам они и так хорошо известны. А что проку хулить свою родину и порочить своих соплеменников перед южанами и чужестранцами? Только дурная птица гадит в собственном гнезде.
– Вы правы, сэр. Но так как меня толкает на расспросы не дерзкое любопытство, а подлинная необходимость, я надеюсь, вас не оскорбит мое желание получить от вас еще кое-какие сведения. Мне придется вести дела от имени отца с несколькими джентльменами, уроженцами этой дикой страны, и я должен обратиться к вашему ясному разумению и опытности – так сказать, попросить у вас светильник, чтобы мне не блуждать в потемках.
Скромная доза лести не пропала даром.
– Опытность! – сказал мистер Джарви. – Да, опыт у меня, бесспорно, есть, и я сделал кое-какие подсчеты, да и, говоря между нами, я даже навел некоторые справки через Эндрю Уайли, своего бывшего клерка. Сейчас он служит у «Мак-Витти и Компания», но в субботу после службы он иногда выпивает стаканчик с прежним своим хозяином. И раз вы говорите, что намерены следовать совету глазговского ткача, не такой я человек, чтоб отказать в нем сыну негоцианта, с которым я издавна веду дела, и мой покойный отец, декан, тоже был не таким человеком. Я не раз подумывал зажечь светильник перед герцогом Аргайлом или его братом, лордом Айлеем (зачем же прятать светильник под колпаком? ). Но большие люди не стали бы слушать человека вроде меня, какого-то жалкого суконщика, – для них важно, кто говорит, а не что, по сути, говорится. Тем хуже, тем хуже! То есть я не хочу сказать ничего дурного о Мак-Каллуморе. «Не кляни богатого и в спальне своей, – говорит сын Сираха, – ибо птица небесная может разнести твои слова, и у жбана длинные уши».
Опасаясь, как бы за таким предисловием не последовала длинная речь, я прервал мистера Джарви, сказав, что мы с Оуэном будем держать в строгой тайне все, что будет сообщено нам доверительно.
– Не в том дело, – ответил бэйли, – я никого не боюсь. Чего мне бояться? В моих словах нет крамолы. Но у горцев цепкие руки, а я иногда заезжаю в их горные долины проведать кого-нибудь из родни, и мне не хотелось бы ссориться ни с одним кланом. Да, на чем же мы остановились? Я, вы понимаете, основываю свои замечания на цифрах, а цифры, как хорошо известно и мистеру Оуэну, – единственный подлинный и осязательный корень человеческого знания.
Оуэн охотно подтвердил высказанное положение, столь согласное с его собственными взглядами, и наш оратор продолжал:
– Горная Страна, как зовется у нас этот край, дорогие джентльмены, представляет собой совсем особенный, дикий мир: лощины, леса, пещеры, озера, реки, горы такие высокие, что самому дьяволу не долететь до их вершины в один перелет. В той стране и на островах, которые немногим лучше, а по совести сказать, даже хуже материка, имеется около двухсот тридцати приходов, включая оркнейский, где говорят, я сам не знаю, по-гэльски ли или на другом каком языке, но жители его совершенно нецивилизованный народ. Так вот, сэр, я кладу на каждый приход по самому умеренному счету восемьсот человек, не считая детей до девятилетнего возраста, а затем прикинем одну пятую на ребятишек девяти лет и моложе. Итого имеем население круглым счетом… восемь разделить на четыре пятых, это будет у нас множимое, двести тридцать – множитель…
– Произведение, – подсказал мистер Оуэн, с восхищением следивший за статистикой мистера Джарви, – составит двести тридцать тысяч.
– Правильно, сэр, совершенно правильно. А войсковое ополчение по Горной Стране, где призывается каждый мужчина, способный носить оружие, от восемнадцати до пятидесяти шести лет, должно составлять без малого пятьдесят семь тысяч пятьсот человек. Так вот, сэр, печальная и страшная истина: половина этих несчастных ходит без работы, без всякой работы, иными словами – земледелие, скотоводство, рыболовство и все другие виды честного промысла в стране не могут охватить и половины населения, дать людям возможность работать хотя бы так лениво, как они сами пожелали бы, – а они работают обычно так, точно плуг или заступ обжигает им руки. Прекрасно, сэр! Значит, безработная половина населения достигает…
– … ста пятнадцати тысяч душ, – подсказал Оуэн, – половины найденного нами произведения.
– Правильно, мистер Оуэн, правильно… Из которых имеем двадцать восемь тысяч семьсот здоровяков, способных носить оружие, – они его носят и палец о палец не ударят, чтоб заработать на пропитание честной работой, даже если б она у них и была; сейчас у них ее нет и не предвидится.
– Но возможно ли, мистер Джарви! – сказал я. – Неужели такова подлинная картина жизни столь значительной части острова Великобритания?
– Сэр, вам это сейчас покажется простым и очевидным, как палка Питера Пейсли. Допустим, что в каждом приходе занято в среднем пятьдесят плугов, – это совсем немало, если вспомнить, на какой жалкой почве приходится работать этим беднякам, – и что в нем хватает пастбищ на соответственное количество упряжных лошадей и быков и на сорок – пятьдесят коров. Так вот, положим на обслуживание этих плугов и скота семьдесят пять семей, по шесть душ в каждой, да накинем для круглого счета еще пятьдесят: итого получим пятьсот человек на приход – ровно половина населения! – занятых трудом и получающих возможность кое-как прокормиться коркой хлеба да кислым молоком. Но хотел бы я знать, что должны делать остальные пятьсот?
– Боже милостивый! – вскричал я. – Но что же они все-таки делают, мистер Джарви? Меня бросает в дрожь, когда я подумаю, в каком они положении!
– Сэр, – ответил бэйли, – вас и не так бы еще зазнобило, доведись вам пожить с ними бок о бок. Допустим даже, что половина из них может честно заработать кое-что в Нижней Шотландии, нанимаясь в пастухи, помогая при уборке сена и хлеба, на разных промыслах, – все же остается еще много сотен и тысяч долгоногих горцев, которые не находят работы и слоняются, побираясь note 73Note73
Это был особый вид благородного нищенства, вернее – нечто среднее между нищенством и разбоем, когда неимущий шотландец вымогал скот или какие-нибудь средства к существованию у тех, кто мог что-нибудь дать. (Прим. автора.)
[Закрыть]по своим знакомым, или живут, выполняя повеление лэрда, правые и неправые. А кроме того, многие сотни горцев спускаются к границе Низины, где есть что взять, и живут воровством, разбоем, уводом скота, всяческим хищничеством, – обстоятельство весьма прискорбное для христианской страны. И, что хуже всего, – они этим гордятся! На их взгляд, угнать стадо чужого скота – доблестный подвиг, который больше подобает «порядочному человеку», как величают себя эти разбойники, нежели честный поденный труд ради куска хлеба. А лэрды ничуть не лучше этих голодранцев; они, правда, не приказывают им воровать и разбойничать, но и не запрещают. Черта с два – запретишь! После любой проделки они укрывают их или разрешают укрываться в своих лесах, и горах, и замках. Каждый лэрд содержит при себе столько бездельников одного с ним имени, или, как мы говорим, клана, сколько он может навербовать и прокормить, – или, что одно и то же, всех, кто может каким бы то ни было способом, честным или бесчестным, сам промыслить себе хлеб около него. И вот они бродят с ружьем и пистолетом, с ножом и дурлахом (Кожаной сумкой.), готовые по первому слову лэрда нарушить мир в стране. И в этом – несчастье Горной Страны, которая и сейчас и тысячу лет назад – всегда была гнездом самых отъявленных, самых нечестивых беззаконников, постоянно тревоживших благонравное население долин по соседству, таких, как наш западный Лоуленд.
– А этот ваш родственник и мой друг – он один из таких крупных владельцев, содержащих при себе небольшое собственное войско? – спросил я.
– О нет, – сказал мистер Джарви, – он не принадлежит к знати, к вождям, как у нас их зовут, вовсе нет. Но все же он хорошего рода, прямой потомок старого Гленстрэ, – мне, понятно, известна его родословная: ведь он мой близкий родственник и как-никак отпрыск благородного шотландского корня, как я уже говорил, хотя, смею вас уверить, я не придаю значения этой чепухе: это все равно что отсвет месяца на воде: одни, как мы говорим, очески. Но я могу показать вам письма от его отца, потомка Гленстрэ в третьем колене, к моему отцу, декану Джарви (благословенна будь его память! ), которые все начинаются словами: «Дорогой наш декан», и подписаны: «Ваш любящий, готовый к услугам родственник». Почти во всех этих письмах речь идет о деньгах, взятых в долг, так что покойный декан хранил их как документ и свидетельство: он был предусмотрительный человек.
– Но если ваш родственник и не принадлежит к их вождям или патриархальным предводителям, о которых мне немало рассказывал мой отец, – вернулся я к своей теме, – то все же он пользуется в Горной Стране большим влиянием, не правда ли?
– Что верно, то верно: от Леннокса до Бредалбейна нет более известного имени. Робин был когда-то преуспевающим трудолюбивым скотоводом, какого встретишь одного на десять тысяч. Любо-дорого было смотреть, когда он в затянутом поясом пледе, в брогах, с круглым щитом за спиной, с палашом и кинжалом у пояса шел следом за сотней горных бычков и двенадцатью молодцами, такими же косматыми и дикими, как погоняемый ими скот. В делах он был всегда справедлив и вежлив, и если ему казалось, что мелкий торговец, бравший у него скот на перепродажу, плохо заработал, он возмещал ему из собственного барыша. Я знаю случаи, когда он отдавал таким образом по пять шиллингов с фунта.
– Двадцать пять процентов, – сказал Оуэн. – Высокий процент!
– Тем не менее, сэр, говорю вам, он отдавал охотно, в особенности если думал, что покупатель – бедный человек и убыток ему не под силу. Но настали тяжелые времена, а Роб любил рисковать. Моей вины тут не было, ему не в чем меня упрекнуть: я всегда старался его образумить. Кредиторы, в особенности кое-кто из крупных владельцев, его соседей, наложили руку на весь его скот и на землю. И, говорят, жену его прогнали из дому – просто вышвырнули за порог, да еще поглумились над ней вдобавок. Стыд и срам! Я мирный человек и член магистрата, но если бы кто обошелся с моей служанкой Мэтти так, я, пожалуй, вынул бы из ножен саблю, служившую моему отцу, декану, в деле при Босуэле. Вернулся Роб домой и нашел полное запустение – помилуй нас, Господи! – там, где оставил полную чашу. Он поглядел на восток и на запад, на юг и на север, и видит: помощи нет ниоткуда – нет нигде ни крова, ни защиты. Надвинул он шляпу на лоб, заткнул за пояс обоюдоострый меч и подался в горы, стал жить «своим законом».
У доброго горожанина прерывался голос от кипевших в нем противоречивых чувств. Он хоть и выказал пренебрежение к родословной своего родича-горца, но, по-видимому, втайне гордился этим родством и говорил о своем друге с глубокой и явной симпатией, покуда речь шла о его счастливой поре, и с сочувствием к нему в его невзгодах.
– И после таких испытаний, – сказал я, видя, что мистер Джарви не думает продолжать свой рассказ, – ваш родственник с отчаяния сделался, верно, одним из тех грабителей, о которых вы нам рассказывали?
– Нет, не так уж худо, – сказал бэйли, – до такой крайности он все же не дошел. Но он стал собирать черную дань так широко, как она никогда еще не взималась в наши дни – по всему Ленноксу и Ментейту, вплоть до ворот замка Стерлинг.
– Черную дань? Я не совсем понимаю… – сказал я.
– Видите ли, Роб вскоре собрал вокруг себя шайку синих шапок, потому что он носит грозное имя, которое наводит страх на всех, кто его слышит… его настоящее имя! Он из рода, который долгие годы брал всегда свое, шел против короля и против парламента, даже, насколько мне известно, против церкви – древний и почтенный род, как ни жестоко его сейчас давят, притесняют и гонят. Моя мать была из Мак-Грегоров, мне нет нужды это скрывать. Так вот, Роб собрал вскоре шайку удальцов; и так как ему (говорил он) было больно смотреть на такой разор, на разбой и грабеж, опустошавший страну к югу от границы Горной Страны, – вот Роб и предложил: если какой-нибудь лэрд или фермер согласен платить ему четыре шотландских фунта с каждой сотни фунтов своих доходов в переводе на деньги (что составляет, конечно, довольно скромный процент), то он, Роб, обязуется обеспечить владельцу неприкосновенность его имущества. Случись, что уведут у него воры хоть одну овцу, Роб обязуется ее вернуть или уплатить ее стоимость. И он всегда держит слово, не могу отрицать, всегда держит слово, – каждый скажет, что Роб свое слово держит.
– Очень странный вид страхового контракта, – сказал мистер Оуэн.
– Конечно, спору нет, он идет вразрез с нашим уложением, – сказал Джарви, – совершенно вразрез; взимание и выплата черной дани караются законом. Но если закон не может оградить от ограбления мой хлев и амбар, почему не заключить мне договор с шотландским джентльменом, который может это сделать? Ответьте, почему?
– Но простите, мистер Джарви, – сказал я, – этот договор о черной дани, как вы ее зовете, вполне ли он доброволен со стороны лэрда или фермера, платящего страховку? Что случится с тем, кто откажется выплачивать дань?
– Ага, молодой человек, – сказал бэйли и со смехом приставил палец к носу, – думаете, вы меня поймали? Правда, я всем своим друзьям посоветовал бы договориться с Робом, иначе сколько бы они ни глядели, что бы ни делали, их непременно ограбят, когда пойдут длинные ночи. Кое-кто из лэрдов по кланам Грэма и Кохуна отказался от страховки. И что же? В первую же зиму они лишились всех своих запасов. Так что большинство считает теперь, что лучше вступать с Робом в соглашение. Он хорош со всяким, кто хорош с ним; но если вы с ним в ссоре… лучше ввяжитесь в ссору с дьяволом!
– И, как я понимаю, благодаря своим подвигам на этом поприще, – продолжал я, – он теперь не в ладу с правосудием?
– Не в ладу? Да, можно сказать – не в ладу. Его шея узнает вес его окороков, если он дастся им в руки. Но у Роба есть добрые друзья среди сильных мира сего; могу вам назвать одну весьма влиятельную семью, которая всячески его поддерживает – насколько позволяют приличия – назло другой семье. Да и то сказать, в наше время среди удальцов, промышляющих разбоем, не было еще такой умной и тонкой бестии, как Роб. Много ловких проделок он совершил – не одну книгу можно было бы ими заполнить! И были среди них проделки очень странные, в духе Робин Гуда и Уильяма Уоллеса – столько отчаянных подвигов, побегов из тюрьмы, таких, что люди рассказывают о них у камелька в глухие зимние вечера. Странная вещь, джентльмены: вот я как будто мирный человек и сын мирного человека, потому что мой отец, декан, ни с кем никогда не ссорился вне стен магистрата, – так вот, говорю я, странная вещь: мне кажется, кровь исконного горца разгорается в моих жилах при этих захватывающих рассказах, и я иногда выслушиваю их охотней, чем сообщение о барыше, да простит меня господь! Но они – тщета и суета, греховная суета, противная к тому же уголовным и евангельским законам.
Продолжая исподволь свое «следствие», я спросил, каким путем мистер Роберт Кэмбел может оказать влияние на дела мои и моего отца.
– Надо вам знать, – сказал мистер Джарви, совсем понизив голос, – я говорю среди друзей и под большим секретом, – надо вам знать, что с восемьдесят девятого года, то есть после Килликрэнки, в горах у нас было спокойно. Но чем, вы думаете, поддерживалось это спокойствие? Деньгами, мистер Оуэн, деньгами, мистер Осбалдистон. По заказу короля Вильгельма Бредалбейн роздал среди горцев добрых двадцать тысяч фунтов стерлингов, и львиную долю из них старый граф удержал, говорят, в собственном кошельке. Потом королева Анна, покойница, выдавала кое-какие пособия вождям, чтобы им было на что содержать своих удальцов, – работать они не работают, как я уже говорил; вот они и сидели, в общем, тихо, разве что учинят, по своему исконному обычаю, набег на Низину и угонят скот или затеют резню между собой, о которой цивилизованный человек не узнает и знать не захочет. Отлично. Но теперь, со времени короля Георга (все ж таки скажу: да благословит его Бог! ), порядок пошел иной: в горах теперь не пахнет ни раздачей денег, ни пособиями; у вождей нет средств содержать кланы, которые их объедают, как вы могли понять из того, что я сказал вам раньше; кредита в Нижней Шотландии они лишились; человек, которому довольно свистнуть – и тысяча удальцов, а то и полторы кинутся выполнять его волю, – такой человек с трудом получит сейчас в Глазго пятьдесят фунтов на прокорм своей шайки. Долго так продолжаться не может: будет восстание в пользу Стюартов, непременно будет восстание. Горцы ринутся на Нижнюю Шотландию, как было в печальные времена Монтроза, – года не пройдет, как мы станем тому свидетелями.
– Все же, – сказал я, – мне непонятно, с какой стороны это касается мистера Кэмбела, а тем более дел моего отца.
– Роб может поднять пятьсот человек, сэр, а потому война касается его так же близко, как и многих других, – ответил бэйли. – Его ремесло гораздо менее доходно в мирное время. Потом, сказать по правде, я подозреваю в нем главного посредника между некоторыми вождями Горной Страны и североанглийскими джентльменами. Все мы слышали о том, как Роб и один из молодых Осбалдистонов отобрал у ротозея Морриса казенные деньги где-то в Чевиотских горах; сказать по правде, шла даже молва, будто в ограблении участвовали именно вы, мистер Фрэнсис, и я был огорчен, что сын вашего отца пускается на такие проделки. Ну-ну, вам ничего не нужно говорить – я вижу, что ошибался. Но про актера я поверил бы чему угодно, – а ведь я считал вас тогда актером. Но теперь я не сомневаюсь, что это был Рэшли или кто другой из ваших двоюродных братьев, – все они одним дегтем мазаны: ярые якобиты и паписты и считают государственные деньги и государственные документы своей законной добычей. А эта тварь Моррис – презренный трус: он и по сей час не смеет заявить, что чемодан у него отнял не кто другой, как Роб. Впрочем, может он и прав, потому что таможенных и акцизников нигде не любят, и Роб может расправиться с ним втихую, прежде чем департамент (так он у вас зовется? ) успеет ему помочь.







