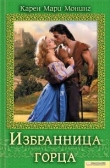Текст книги "Джесси"
Автор книги: Валерий Козырев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Гена молчал, лукавить перед отцом Марьяны не хотелось, да и сказать ему о своем решении ему было проще, чем Марьяне.
– Спасибо вам, Роман Васильевич, – глухо выдавил он из себя, – за ваше такое отношение ко мне. Хотя я, наверное, его и не заслуживаю… Но хочу, чтобы вы знали – я люблю Марьяну! Она первая моя девушка и как бы я хотел, чтобы она осталась ею на всю жизнь!.. И для меня то, что я сейчас хочу вам сказать – это то же самое, что и жизни себя лишить …
– Подожди-подожди, Гена! По-моему, ты чего-то лишнего накручиваешь, – остановил его отец Марьяны.
– Нет, Роман Васильевич! Просто, выслушайте меня… – Гена чуть помолчал и продолжил: – Мы не можем быть с Марьяной вместе. Моя болезнь – это не ангина или еще что-то, с чем можно жить без особых проблем. Это – прогрессирующее заболевание, и в определенной стадии – с сильными осложнениями, делающими человека нетрудоспособным… В больнице мне рассказал свою историю один человек с таким же диагнозом, как и у меня. И рассказал о том, как страдала его жена всего лишь после двух лет более-менее нормальной совместной жизни. И в конце концов, они все равно расстались…
Гена посмотрел на отца Марьяны – тот сидел, склонившись чуть вперед, сцепив пальцы на коленях. Было видно, что ему тяжело его слушать; но Гена уже не мог остановиться, не выговорив все до конца, иначе не было бы смысла вообще начинать этот разговор.
– Конечно, это было безумием с моей стороны, – продолжил он, – начинать с Марьяной какие-то отношения… Но если это может хоть как-то оправдать меня – я действительно плохо представлял что меня ждет. Но с моей стороны было бы еще большим безумием эти отношения продолжать. Марьяна достойна лучшей участи, нежели жить с больным мужем. Хотя верю, что она смогла бы пронести этот крест до конца… Да только – кому это нужно? Лучше уж пусть один раз будет больно, чем потом обоим мучиться всю жизнь!
– Послушай, Гена, – прервал его Роман Васильевич, – ты с Марьяной обо всем этом разговаривал?..
– Ещё нет.
– Тогда ты просто не имеешь право решать за неё – это нечестно и несправедливо. Ведь в ваших отношениях вас двое, и для каждого решение другого должно быть важным и с ним нужно считаться!
– Роман Васильевич, – сказал Гена, – я уже сейчас могу предположить, что скажет Марьяна. Она скажет, что согласна жить со мной, что бы ни случилось, и будет искренна. Но кто-то в этой ситуации должен быть мудрее и дальновиднее. Конечно, мы можем пожениться, но что её ожидает дальше?.. Жизнь с больным мужем, больницы, тревоги, переживания, вой скорой помощи под окном!.. Нет, Роман Васильевич, я принял решение, от которого будет лучше нам обоим. Одному мне будет гораздо легче справляться со всеми грядущими проблемами, чем часть их перекладывать на плечи Марьяны…
– Трудно мне, Гена, что-то тебе сейчас сказать и уж тем более – посоветовать. Умом вроде начинаю понимать тебя, а вот в сердце несогласие… Неправильно ты поступаешь! Хотя… Делай, как знаешь! Только об одном тебя прошу… – начал было говорить Роман Васильевич, но не закончил. На его глазах выступили слезы, он обреченно махнул рукой, встал с дивана пошёл к гостям и в дверях комнаты, столкнулся с Марьяной. Куда сразу делась улыбка и радостное сияние её глаз. Она внимательно посмотрела на отца, затем перевела взгляд на Гену, подошла и осторожно присела рядом.
– Гена, может быть, ты мне расскажешь: почему у вас с отцом в Новый год такие унылые лица?
Она смотрела ему в глаза. Уклоняться от предстоящего разговора уже не было никакого желания, да и смысла тоже. Он сидел в точно такой же позе, как только что сидел Роман Васильевич: чуть склонившись вперед, с переплетенными на коленях и сжатыми до белизны на костяшках пальцами.
– Марьяна, – начал он, – извини, что прежде пришлось рассказать об этом Роману Васильевичу… И конечно – это неправильно. Раньше об этом должна была бы узнать ты. Но так уж получилось. Извини! Возможно, он тебе что-то расскажет из нашего с ним разговора… возможно, что нет. Но повторить его ещё раз я уже не смогу. Скажу просто: Марьяна, нам нужно расстаться, и причина тому – я.
– Расстаться!? Почему? – с недоумением переспросила Марьяна, не вполне ещё осознавая смысл сказанных им слов. Ведь ещё совсем недавно они сидели вот на этом самом диване, и она ощущала всем своим сердцем, что они любят и нужны друг другу. Это было так явно! Это нельзя подделать или как-то искусно сымитировать… – Может, это тебе папа что-то сказал?.. – спросила она первое, что ей пришло в голову.
– Нет, твой отец – замечательный человек и никогда не позволил бы себе ничего такого! Это решил я…
– Значит, ты всё это время притворялся, что любишь меня? И всё, что ты мне говорил – это ложь!?
В груди у Гены стало пусто и холодно.
– Нет, Марьяна, я люблю тебя. И дороже чем ты у меня никого нет и, наверное, уже не будет… Но мы должны расстаться!
– Но почему?! Почему?!! Кому это нужно? Зачем?!.
Гене было лучше умереть, чем видеть рвущую его сердце боль Марьяны.
– Это твоё окончательное решение? – спросила она, немного успокоившись.
– Да, Марьяна. Так нам обоим будет лучше …
Марьяна вытерла платочком слезы и уже спокойным голосом предложила выйти на улицу, прогуляться. Они прошли в прихожую, никто на это внимания особо не обратил. Мало ли чего – молодым захотелось прогуляться. Только отец Марьяны проводил их тревожным взглядом.
Природа расщедрилась и подарила настоящую новогоднюю ночь. С неба, покрывая все вокруг белым пушистым ковром, медленно кружась в воздухе, бесшумно падали большие снежинки. В воздухе не ощущалось даже легкого дуновения ветра. Ветви деревьев и кустов, растущих возле домов, в сквериках и вдоль улиц были покрыты толстым слоем снега и дополняли собой вычурный сказочный пейзаж. Казалось, что весь обозреваемый мир был против, чтобы в эту ночь рушилась гармония любви. И природа, казалось, всей своей красой говорила: «Люди, одумайтесь! Остановитесь! Не разрушайте того, что намного прекраснее всего, что есть в мире, того, что вы видите вокруг; прекраснее всех благ, существующих под солнцем, дороже всей земной роскоши. Ведь любовь – это то, что даровано небом! Берегите её как нежный, драгоценный сосуд, осколки которого уже не склеить. Цените её, дорожите ею, ибо она не покупается и не продается…» Они ни разу не обмолвились о предстоящей разлуке. Лишь долго, взявшись за руки, ходили по тем местам, которые были им так дороги. Они прошли к памятнику, – месту их свиданий, затем через скверик на соседнюю улицу, по обеим сторонам обрамлённую молодыми клёнами, на ветвях которых сейчас лежал снег. Накопившись, он срывался и падал вниз, оставляя за собой шлейф белой холодной пыли. Это был их любимый маршрут – здесь они часто гуляли по вечерам. И кто знает, может, это и были самые счастливые дни их жизни…
Вернувшись к подъезду, ещё долго стояли и смотрели друг другу в глаза. Когда пришло время прощаться, Гена прикоснулся губами к её щеке. Глаза Марьяны были полны слёз, они копились, и вот две большие слезинки покатились по её щекам, оставляя за собой мокрый след… А затем ещё и ещё. Она приподнялась на носки сапожек и, коснувшись мокрой от слез щекой его губ, поцеловала его в щёку. Затем попрощалась и ушла… А он пошел в скверик, сел на ту самую скамейку, где они с целовались в первый раз и, всё еще ощущая на губах солоноватый привкус её слез, заплакал. Редкие прохожие не обращали на него внимание. Мало ли почему могут плакать люди в новогоднюю ночь…
Кто может с уверенностью сказать: был ли Гена прав. Люди чувственные и по натуре горячие сразу же воскликнут «нет!». И это радует! Значит, не потеряна ещё вера в любовь. Другие, скажут «да!». Что, мол, у этих отношений не могло быть будущего – уж так устроен человек, думает только о себе, и на жертвенную любовь, которая не заботится о собственном благе, способен лишь на непродолжительное время. Но суть в том, что как те, так и эти будут правы по-своему. Ведь человеческие отношения одним шаблоном не измерить, и у каждой судьбы – свое лекало…
Как сложилась бы жизнь у Гены с Марьяной в дальнейшем, могло показать только время – самый мудрый и праведный судья. Ну, а сейчас, что есть, то есть. И надо было с этим как-то жить. А как жить, если эта самая жизнь потеряла всякий смысл без любимой, да еще и вгрызается как голодная мышь мыслью, что во всём виноват он сам. И чем больше проходило времени, тем больше и больше сомневался Гена в правильности своего решения. И, когда уже не оставалось сил бороться с подступившей злой тоской, набирал номер телефона Марьяны, но, не дождавшись даже первого гудка, клал трубку. Все чаще стала появляться мысль о том, чтобы уехать в деревню, к родителям. И если в будние дни работа хоть как-то отвлекала от мыслей, связанных с Марьяной, то выходные превратились в сущий ад.
Вока после школы тоже пошел работать на автобазу слесарем, и заочно поступил в автодорожный институт. В последнее время они виделись не столь часто, как это было раньше. Гена жил своими интересами, Вока – своими. Но он не мог уехать, не попрощавшись с другом.
– Надолго? – спросил Вока.
– Как получится. Возможно, что и насовсем.
– Тебе еще никто не говорил, что ты бежишь сам от себя?..
– Пока что нет.
– Считай, сказали…
Разговор явно не клеился, и продолжать его не было смысла. Гена встал и попрощался, собираясь уходить.
– Подожди! – остановил его Вока. – Меня, скорее всего, весной в армию призовут… И если ты уедешь, то мы долго не увидимся. Так что, давай на всякий случай попрощаемся и… И прости, Гена, за нравоучения! Поступай, как знаешь, тебе видней…
И они, прощаясь, обнялись.
Вечером, сразу же после ужина, Гена сказал о своём решении Михаилу Ивановичу и Людмиле Александровне. Михаил Иванович пил чай из своей большой, красиво расписанной чашки, однако, услышав новость, отставил её в сторону. За столом повисла тишина.
– Тебе что, Гена, плохо у нас живется, или обидели тебя чем? – первым спросил Михаил Иванович.
За эти годы они привыкли к нему как к родному сыну, да и сам Гена всем сердцем привязался к этим добрым, отзывчивым людям. И сообщить им о своём намерении ему тоже стоило определенного мужества.
– Нет, Михаил Иванович вы меня ничем не обидели! Просто, мне надо уехать…
– По-ня-ятно… – многозначительно протянул тот и взглянул на жену. Конечно же, они заметили изменения, которые произошли с ним за последнее время.
Людмила Александровна со свойственной ей женской простотой спросила:
– Гена, это как-то связано с Марьяной?..
Сказать, что он уезжает из-за Марьяны, было бы неправдой.
– Нет, Людмила Александровна, это связано не с ней… Скорее, только со мной.
И, уловив на себе её вопросительный взгляд, посчитал, что одни из самых близких ему людей не должны оставаться в неведении и только лишь догадываться о причине его отъезда. Поэтому он как есть, безо всяких чувственных подробностей, рассказал им суть дела и объяснил причину своего решения.
Иван Михайлович только крякнул и, шумно отодвинув стул, встал из-за стола, достал из холодильника бутылку «Жигулевского» и отправился в комнату, дабы по горячности своей натуры не наговорить чего лишнего, а потом сожалеть об этом. Людмила Александровна хоть и вела себя в жизни просто, по сути была натурой утонченной; она осторожно, дабы не ранить опрометчивым словом, подступила к разговору.
– Гена, – сказала она, – ты извини, но я должна спросить: вы действительно с Марьяной любили друг друга?
– Да… А что касается меня, то люблю её и сейчас.
– Ваши отношения, если я правильно поняла, остались прежними. Вы не ссорились, и ничего примерно такого у вас не было, и это не произошло из-за ревности, когда в подобных отношениях появляется кто-то третий?.. Вы расстались потому, что так решил ты, верно? Марьяна же, как и подобает порядочной и воспитанной девушке, не могла настаивать на продолжении ваших отношений – и это совершенно правильно. Девушке неприлично отстаивать свое чувство любой ценой. А теперь, Геннадий, выслушай мое мнение, – продолжила Людмила Александровна уже строже. – Ты хочешь поиграть в романтичного и благородного героя… Что ж, хорошо! Ты уже поиграл в него, и у тебя это неплохо получилось. Но Марьяна! Марьяна же не кукла – живой человек, ты о ней подумал!? Конечно, ты думаешь, что сделал этот поступок ради неё, и этим оправдываешь себя. Но пройдет время, Гена, и ты поймешь, что не ради неё ты это сделал, а ради себя. Что ты просто испугался! А твое решение уехать не что иное, как лишнее тому подтверждение.
Ничего не смог сказать Гена в своё оправдание. Очень лаконично и правильно, словно хирургическим скальпелем, раскрыла Людмила Александровна суть его поступка, на который он нагромоздил, было, миф о благородстве и жертвенности. Теперь он уже и сам понимал, что никакой он не герой – обыкновенный трус. От такого обличающего своей простотой откровения ему стало даже легче. Уж больно тяжела была эта ноша – ложного благородства…
– Ты, Генка, давай не дури! – сказал появившийся на кухне Иван Михайлович. – Оставайся-ка лучше в городе. Работа у тебя хорошая, мастер тебя хвалит, а для нас ты – роднее родного. Ну, а с Марьяной вновь сойдетесь… Скажешь, по глупости все, мол, вышло; так, мол, и так… Цветы там купи и всё такое… Девичье сердце – оно отходчивое. Мы вон, с Людмилой, сколько раз из-за моего характера расставались, а потом приходил! Осознал, мол, прости… И прощала! А как поженились, так и живем душа в душу. Может, и ссорились когда, да только я уж и не помню… – он взглянул на жену и улыбнулся своей широкой, чуть с хитринкой, добродушной улыбкой.
Но что мог на все это сказать Гена, уже, по сути, ставший рабом своего решения, которое не в силах было изменить даже признание собственной ошибки?!
Часть вторая
Внутри просторного колхозного гаража, построенного из белого кирпича, с железной крышей, выкрашенной в зелёный цвет, в углу находилась небольшая мастерская, из года в год захламлявшаяся нужными и ненужными запчастями. Гена два дня наводил в ней порядок и, с одобрения механика, вынес всё лишнее. Вымыл большое окно, которое из-за толстого слоя пыли, годами копившейся на стеклах, преобразовывало даже яркий свет солнечного дня в сумрачно-серый. И механик, зайдя, только ахнул от изумления: свет, беспрепятственно проникая сквозь блистающие чистотой стекла, ярко освещал отгороженную от общего помещения дощатой стенкой мастерскую. Токарный станок блестел, протёртый от пыли и тёмных, масляных пятен. Весь инструмент был приведен в порядок и аккуратно разложен в шкафах и на слесарном столе. Да и во всём остальном чувствовалось, что в мастерской появился хозяин.
– Услышал-таки Бог мои молитвы, послал работника! – то ли всерьёз, то ли в шутку сказал он и добавил: – Ну вот, Гена, тебе, значит, и карты в руки. Работы у нас навалом.
Работы было действительно много – хозяйственный механик, как и положено прилежному земледельцу, загодя готовил технику к весенним работам. А так как отныне, чтобы выточить какую-нибудь, пусть даже незначительную деталь, не нужно было мотаться за семь километров на центральную колхозную усадьбу и ублажать поллитровкой за срочность вечно поддатого, замурзанного водкой и жизнью токаря, – которому убей, а не определишь, сколько лет, то дела двигались очень даже неплохо. Да и слесарную работу Гена тоже знал, а к рюмке, загубившей не одни золотые руки, не притрагивался вовсе. Таких людей на деревне уважают, к их мнению прислушиваются; и даже почтенные старики при встрече первыми приветствуют их. За работой время летело незаметно, и воспоминания были не столь мучительны. Хотя не раз ловил себя Гена на том, что, включив станок, подолгу смотрит на вращающуюся заготовку, будучи в мыслях рядом с Марьяной. Да бабушка, замечала, что нет-нет, да и пробежит по его лицу тень. Догадывалась она, что внучек неспроста вернулся в деревню, и что сердце его осталось там, в городе. Но не спрашивала ни о чём, не желая причинить лишней боли. Годы даруют мудрость, и знала бабушка, что только время – целительный подорожник ран души, и с этим уже ничего не поделаешь… И лишь дольше, чем обычно, молилась, преклонив колени перед иконостасом в своей комнате.
Пришла весна, удлинились дни, а вместе с этим работы только прибавилось. Вскоре началась посевная, и Гена с утра до вечера, вместе с ещё двумя слесарями, на стареньком уазике с будкой мотался по полям, ремонтируя поломавшуюся технику. Все работы бригада завершила в срок – как никогда дружно да слаженно работали в эту весну. И дожди не подвели – прошли вовремя; отсюда ранний и дружный всход посевов, потому и урожай ожидали тоже хороший. Гена по-прежнему занимался токарным да слесарным делом, а если надо, то помогал и на выездах технику ремонтировать. Но токарной работы поубавилось: не то, чтобы он её всю завершил – работу эту в деревне делай, всю никогда не переделаешь. Просто разгреб всю скопившуюся, да впрок наготовил деталей, которые чаще всего из строя выходят. А в свободное время стал захаживать на конюшню. Конюхом там был Кузьмич – невысокий худощавый старик с вислыми, желтоватыми от махорки усами, которого Гена знал ещё с детства. Внешне он мало изменился; время, казалось, остановилось над ним. Гена и в детстве, вместе с друзьями, частенько забегали на колхозную конюшню. Забавы ради помогали они Кузьмичу поить и кормить лошадей; чистили денники и посыпали затем пол соломой. «Это для того, чтобы копыта у коней были здоровые, чтобы мокрец, значит, там не завелся», – пояснял словоохотливый конюх ребятам. Хоть и прошло с тех пор почти восемь лет, на здоровье Кузьмич не жаловался, с работой справлялся и на пенсию не торопился. «Пока хожу, буду с лошадьми, – говорил он, – а уж как не смогу, там и видно будет». Да и захирел бы дед, зачах, оторви его от любимого дела.
Гене лошади были по душе, ощущалось в них благородство и какое-то особое понимание жизни. В чувствах они были сдержаны, в работе безотказны, в боли терпеливы. И лошади, заметил Гена, они как собаки – чем больше в них намешано всяких кровей, говоря попросту – беспородные, как дворняжки, тем покладистей они и добродушней. А чем чище порода – тем более горды, высокомерны и своенравны. Лошадей в конюшне было десять, а ещё не так давно, – говорил Кузьмич, было больше тридцати. Не так давно в понимании Кузьмича было лет двадцать назад; а сколько Гена помнил, лошадей всегда было примерно столько же – десять.
Всю свою жизнь Кузьмич провел рядом с лошадьми, и отец его и дед тоже были при лошадях, царское ли то было время, либо советское – все равно. Еще подростком поступил он на конный двор, и в его трудовой книжке всего одна запись: принят на работу конюхом, тогда-то и тогда-то. И в этом была вся трудовая биография деда Кузьмича, полная, насыщенная радостями и трудностями; которой он дорожил и которой был доволен. Душой понимал Кузьмич лошадей, зная привычки и повадки каждой. А чтобы определить, заболела лошадь или нет, ему не было нужды и к ветеринару обращаться, сам видел. И тут уж, что бы ни случилось, какая бы безотлагательная работа не была, хворую лошадь Кузьмич из конюшни не выпускал. Лечил он их тоже сам, своими, еще дедовскими средствами; и выздоравливали они у него быстрее, чем у ветеринара. Лошади тоже любили Кузьмича, и было за что – лошадь к человеку просто так, за красивые глаза, не потянется. Лелеял и холил их Кузьмич. Только причитал постоянно, что извели, мол, лошадь: породу, дескать, начисто вывели. Им, де, наплевать: была бы только лошадь, а какая? – это мол, без разницы. Кого он подразумевал под «им» можно было только догадываться, поскольку в подворьях лошади давно уже стали редкостью. «А вот раньше, – вспоминал Кузьмич, – когда в каждом хозяйстве лошади были, так каждый старался породу блюсти; кобыл с каким попало жеребцом не сводили. Бывало, что за пятьдесят с гаком верст кобылу вели, чтобы, значит, племенным производителем покрыть. Отсюда и стать была… А сейчас – что? Вывели породу! – по-старчески жаловался он Гене. – Только, разве что, в телегу и годятся запрягать … Ну, да и на том спасибо».
Лошади в колхозе были нужны. Поэтому днем редко какая из них оставалась в конюшне – всех разбирали на работы. Конскую упряжь Кузьмич содержал в идеальном порядке. В одном конце конюшни, отгороженная бревенчатой стеной, была сбруйная; с отдельным входом и внутренней дверью прямо к денникам. В сбруйной стояла небольшая, аккуратно сложенная печь, вдоль стен тянулись деревянные лавки. На одной из них, в углу, громоздилась пара седел. В бревенчатую стену, в высверленные коловоротом отверстия, были вставлены толстые деревянные штыри. На штырях висели хомуты и прочая упряжь, всегда тщательно просмотренная и починенная Кузьмичом. И над каждым из штырей – табличка с именем лошади. И не дай Бог, если кто-то путал и запрягал лошадь не в свою упряжь. Кузьмич разносил такого не жалея ни слов, ни крепких выражений. А под конец приводил всегда один и тот же очень убедительный пример:
– Вот, к примеру, – говорил он, – одеть бы на тебя чужие сапоги, на два размера, скажем, больше… Или же наоборот – на размер меньше, да прогнать бы тебя, дурака, с десяток вёрст, понужая кнутом – что бы с твоими ногами стало, а?! В кровь бы стер, остолоп несчастный! А на лошадь чужой хомут одеваешь, недоумок… – обычно так заканчивал он свое нравоучение.
Часто, особенно длинными, зимними вечерами мужики коротали время у Кузьмича за разговорами да шутками, наполняя сбруйную слоящимся табачным дымом. Только выпивать Кузьмич строго настрого запрещал. «Не любят этого лошади», – говаривал он. В сбруйной, несмотря на эти ежевечерние посиделки, было всегда чисто – пол выметен, всё расставлено по своим местам; ощущался за всем этим хозяйский глаз Кузьмича. Он и раньше-то почти всё своё время проводил на конюшне, а когда у него два года назад умерла жена, так он и вовсе переселился в сбруйную, лишь изредка наведываясь домой – там жил его старший сын с семьёй – в баньке попариться да белье сменить. Спал он, сдвинув одна к одной две лавки положив на них попону и другой попоной укрывшись. И там же, в сбруйной, на печке, готовил себе холостяцкую неприхотливую еду. Гене нравилась спартанская обитель Кузьмича, в которой перемешались запахи дёгтя, сыромятной кожи, табачного дыма, сена и ещё какого-то особого, присущего только конюшням, духа. Веяло тут теплом и уютом, хотя кроме голых лавок, печи, хомутов да прочих принадлежностей конской упряжи там ничего и не было. Ещё когда мальчишкой Гена прибегал в конюшню, Кузьмич приметил его тягу к лошадям. «Хороший бы, Генка, из тебя лошадник получился, – говаривал он, наблюдая, с какой любовью Гена ухаживает за лошадьми. – Да только вот жалко – извели коня, и многие люди через это себя потеряли… – как обычно сетовал он. – Должен, вот скажем, к примеру, человек с лошадьми быть… ну, не обязательно конюхом – мало ли какая работа при лошадях есть! Душа, скажем, у него к этому лежит, а он – трактористом станет. Тьфу!..» Не любил дед трактора. Считал, через них коня на деревне и не стало.
Гена попросился у бригадира помощником к Кузьмичу.
– Давай, – согласился тот. – Кузьмич-то уже старый у нас, помощь ему давно нужна. Ну, а если какую детальку стокарить надо будет, так мы тебя выдернем из конюшни-то! – сказал он и улыбнулся всем своим широким веснушчатым лицом.
В хозяйстве Кузьмича было три мерина. Мерин – это конь, у которого люди операционным путем отняли способность продолжать лошадиный род, и у меринов, осталось теперь только одна радость – поесть. Вид у них был постоянно скучающий, они казались равнодушными ко всему, что их окружает, хотя шерсть их лоснилась, гривы и хвосты были аккуратно расчесаны. Звали их Буран, Гнедко и Рыжик. Было также шесть кобыл: одну из них, серую в яблоках, звали Ласточкой, к ней жался жеребёнок-сосунок, не отходивший от неё ни на шаг; был он тёмного цвета, но его настоящая масть обещала проявиться только к шести-семи месяцам. Ещё две кобылы гнедой масти очень походили друг на дружку, с одной лишь разницей: у той, которую величали Сударушкой, ото лба по носу тянулась белесая полоса. Другую – звали Кумушкой. Их денники, отгороженные от общего прохода невысокой переборкой, находились рядом. И казалось что они, изгибая шеи и касаясь друг друга головами, все время сплетничают про всякие лошадиные дела. Сударушка была жеребая; на работу её не брали, и она всякий раз тихим ржанием провожала подругу, когда ту под уздцы выводили из конюшни. Ещё одну, чистой белой масти, доброго нрава и весьма трудолюбивую – звали Сметанкой. Масть следующей, молодой, игривой кобылы, можно было определить как соловая, а упряжь её висела под табличкой «Резвая». Шестая кобыла, Звёздочка – вороная, с белой отметиной на лбу, короткими подвижными ушами, сильной упругой шеей и выпуклыми, хорошо развитыми грудными мышцами, великолепной гривой и длинным хвостом; на высоких тонких ногах – она была настоящая лошадиная красавица. Любимица Кузьмича и единственная более менее породистая лошадь в конюшне. Кузьмич говорил, что её мать чистокровная донская кобыла, которую на выпасе покрыл безродный жеребец. Но Звёздочка унаследовала всю стать матери. Кузьмич разрешал запрягать её только в легкую телегу или сани. А когда у бригадира выходил из строя мотоцикл с коляской, на котором он постоянно мотался по полям да на центральную усадьбу, то в легкий тарантас на рессорах запрягали только Звёздочку. А зимой и вовсе – запряженная в кошевку, она была полностью в распоряжении бригадира. Её и Звёздочкой то редко кто называл, а все больше – «бригадирская лошадь». И не так давно в конюшне появился жеребец – звали его Алтын, что в переводе с татарского означает «золотой». Купили его в колхоз год назад и, говорят, за большие деньги. Это был высокий, чёрного цвета жеребец с сизоватым, как воронье крыло, отливом, длинной косматой гривой и огромным, чуть не до самой земли, хвостом, которые были чуть светлее его основной масти. Алтын был полукровок – помесь рысистой и какого-то именитого тяжеловоза. Поместили его в крайний просторный денник с глухой перегородкой до самого потолка. Но Алтын, чуя кобыл, зычно и протяжно ржал. А когда могучий инстинкт размножения начинал действовать особенно сильно, принимался бить толстые доски переборки крепкими, словно из железа литыми копытами. Алтына никогда не запрягали, хотя его упряжь висела там же, где и упряжи других лошадей. Просто, не нашлось бы такого смельчака. Авторитет же для него был только один – Кузьмич. Только ему он позволял чистить и расчесывать себя. Да и предназначение у Алтына было не телеги тягать, а совсем иное. Это был единственный на всю округу племенной жеребец, и кобыл со всех окрестностей водили теперь только к нему. Сразу же за конюшней находился загон, огороженный изгородью из жердей, в него заводили кобылу, а затем и Алтына, который, почуяв её еще в конюшне, начинал бить копытом пол, рвал повод из рук Кузьмича, всхрапывал, злобно скашивая глаза с большими, в красных прожилках белками. Когда его запускали в загон, он на рысях, выгнув шею и отставив хвост, делал полный круг вдоль изгороди, словно демонстрируя кобыле всю свою мощь и стать, затем выбегал на середину, останавливался и, тихо всхрапывая, шёл к ней. В этот миг он был больше дикий зверь, чем конь. Дело свое Алтын знал хорошо, и через некоторое время Кузьмич уводил его обратно, а кобылу под уздцы ещё некоторое время прохаживали по загону, чтобы завязалась в ней Алтыново семя, а не излилось понапрасну на землю. Алтын был ответом на сетование Кузьмича и его утешением: Ласточка уже родила крепкого, с высокими, нескладными ещё ногами, жеребёнка, а Сударушка была от него жеребая.
В начале лета, как только поднялись травы и потеплели ночи, стали гонять лошадей в ночное. И настала радостная пора для деревенских ребятишек. Потому что Кузьмич позволял им, взнуздав лошадей, мчаться на них просто так, без седла, километра три вниз по реке, где та разделялась на два рукава, образуя посередине большой остров. И, обогнув его длинным и широким овалом, за островом река соединялись вновь. По краям острова густо рос ивняк; за ивняком – вглубь – поросший сочной травой большой луг, с разбросанными по нему ярко-зелеными шапками тальника. На остров переходили вброд. Это было идеальное место для ночного выпаса, с хорошей травой, водопоем и естественной преградой, не позволяющей лошадям разбрестись. Ведь сама по себе лошадь в воду лезет не с такой-то уж и охотой, а больше по принуждению или крайней необходимости. И ночью ребята могли спокойно варить уху из подъязков, ершей да сорог, наловленных еще с вечера; или же, не беспокоясь о лошадях, спокойно спать в шалаше.
В ночное Гена ездил за старшего, на Звездочке – быстрой, чуткой и послушной. Стоило ему лишь чуть натянуть поводья уздечки и затем ослабить их, как она легко переходила с рыси на галоп. На Алтына никто не садился – он был дик и непредсказуем; но, зная дорогу, выполнял данную ему природой миссию – вел к выпасу свой небольшой табун. И Гене приходилось натягивать поводья, чтобы не опередить его. Алтын, ревнуя за свое место, мог укусить Звездочку, хотя был явно к ней неравнодушен. Частенько рано по утрам, когда над серебристым от росы лугом еще лежал плотный туман, проведывая лошадей, Гена видел, как Алтын мирно дремлет, положив свою большую голову на её круп. И было видно, что она совсем не против такого внимания…
Вскоре подошла сенокосная пора. Пока трава в соку, нужно успеть скосить её. Тогда она и высушенная сохранит в себе вместе с душистостью запаха все свои ценные качества, и будет для скота и пищей и витаминами. И будет потом какая-нибудь буренка жевать да пережевывать сено из такой травы, и та даст ей силу, которой сама напиталась от земли и солнца.
Сенокосные угодья начинались вниз по реке, ниже острова, на который в ночное гоняли лошадей. Дорога к ним пролегала через молодой дубняк и, лишь только он заканчивался, сразу же открывался вид на сенокос. Не с легковесными травами степей да перелесков, а ярко зелёным, густым и сочным травостоем заливных лугов. И кажется – сорви такую травинку, перегни пополам, и брызнет её живительный сок – так она сочна. Вниз, вдоль речки окаймлялись луга ивняком, кустами шиповника, дикой смородины, крушины, перевитыми понизу крапивой и колючими зарослями ежевики; влево, широко раскинувшись, упирались в подножие пологой горы, покрытой дубами, вязами, клёнами и по ложбинам – островками темно-зеленого ельника, а в подлеске – кустами можжевельника и лещины. Гора покато тянулась вдаль и соединялась на горизонте с темной полосой лиственного леса. По всему лугу встречались небольшие озерца, поросшие по краям осокой. В озерцах из икринок, выметанных рыбами во время полой воды, выклёвывались мальки и, имея надежное убежище среди густой травы и в изобилии – пищу, к осени подрастали в небольших рыбёшек. А сейчас они, взмутив воду, шустро прятались в осоке, лишь только слышались чьи-нибудь приближающиеся шаги.