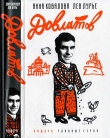Текст книги "Довлатов"
Автор книги: Валерий Попов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Много говорить о Бродском здесь бессмысленно – о нем написана уже целая гора литературы, в частности прекрасная книга Льва Лосева в серии ЖЗЛ. Могу лишь добавить некоторые впечатления о Бродском тех лет. Судьба свела нас на некоторое время в одной школе на Моховой улице, как раз напротив журнала «Звезда». Конечно, я бы не вспомнил его – школьника, если бы в шестидесятые годы он не стал так известен и знаменит. И я вдруг вспомнил – солнечный угол школьного коридора, и рыжий веснушчатый мальчик что-то весело, слегка картаво, кричит, бурно жестикулируя.
Потом я увидел его уже в славе. Бродский был тогда слегка невнятен, читал стихи громко, нараспев, и притом как бы смущенно-неразборчиво. Его веснушчатые щеки часто покрывались румянцем смущения, которое тут же вытеснялось высокомерием и агрессией. В его стихах (мне попалась копия на полупрозрачной оберточной бумаге) явно шевелилось что-то могучее, но обращенное не к тебе, а куда-то мимо, в какие-то горние выси. Он и сам уже пребывал там. Образ нобелевского лауреата был уже, в общем, готов. Свое место на вершине Олимпа он подчеркивал постоянно и определенно (хотя совсем уж безусловных доказательств его будущей победы пока не было). Но стоит лишь вспомнить его манеру разговаривать! Например, он хотел что-то сказать о ком-то, но при этом ну никак не мог вспомнить имя этого бедолаги! «Этот… – он мучительно морщился, щелкал пальцами. – Он еще так смешно одет… Ну?» Предполагалось, что все, кто сейчас рядом, должны услужливо кинуться к нему, стараясь угадать, о ком речь, подряд называя фамилии. Так и выходило. «Да нет же!» – Бродский отмахивался. Что за бестолковый народ – ну ни в чем нельзя положиться! «Ну этот… человек!» Когда он говорил о ком-то «человек», это было, конечно, слегка унизительно, но не совсем еще безнадежно. Чаще он говорил: «Этот… господин!», что звучало уже вполне уничижительно. А порой он произносил: «Этот… товарищ!» И тут уже было абсолютно ясно, что ниже этого «товарища» уже нет никого.
Потом те бывшие ленинградские знакомые, кто оказался с Бродским в Америке и в той или иной степени зависел от него, порой с иронией, а чаще с отчаянием отмечали его гениальность еще и в карьерных делах, его умение рассаживать людей у себя за столом «сверху вниз», по признаку их знаменитости и полезности. Рядом с ним непременно сидел бывший нобелевский лауреат, чуть ниже – будущий нобелевский лауреат, далее, по степени убывания, прочие знаменитости и влиятельные люди. Наши, считавшие себя ленинградскими корешами «Оси», вдруг неожиданно обнаруживали себя в самом дальнем конце стола, если не за его пределами. Известно, как «осадил» Ося поначалу гораздо более знаменитого, чем он, всеобщего любимца Василия Аксенова, представив его в мировых литературных кругах как второсортного писателя. Аксенов от этого удара так и не оправился – и единственное место, выделенное на западном Олимпе для пришельца из России, прочно и навсегда занял Бродский.
Порой он похваливал кого-то, но к серьезной помощи это обычно не приводило. Я знаю лишь двух людей из ленинградской литературной компании, кого он любил нежно и постоянно, и всеми силами старался им помочь. И надо отметить, он не ошибся, выбор его был абсолютно снайперским. Первым его закадычным другом и любимым поэтом был замечательный питерец Владимир Уфлянд. Поэт абсолютно уникальный, не заунывно-трагический, как большинство знаменитостей, а жизнерадостно абсурдный, добрый и ласковый, что как бы не признается «высоколобой поэзией». Уфлянда приятно и радостно читать – такое же чувство возникало и при общении с ним. Он, безусловно, в ранге Хармса, раннего Заболоцкого, Олейникова. Веселая, принципиальная бестолковость привела его к полной безвестности. Но Бродский ценил его выше многих, искренне любил – и то и дело упоминал и старался помочь.
Вторым, кого всегда поддержи вала «длань» Бродского, – был Сережа Довлатов. Бродский отличал действительно лучших. И то, что они тогда встретились и подружились на обшарпанных ленинградских улицах, в забитых бутылками, окурками и будущими гениями богемных квартирах, сыграло в судьбе Довлатова решающую роль. Бродский помогал ему с самого начала до самого конца – и лучшей поддержки в литературном мире просто быть не могло. Так что Довлатов еще в ранней молодости выбрал себе неплохих друзей – и, главное, оказался достоин их.
Да – недурная была компания! Далеко не всем посчастливилось входить в литературную жизнь в составе столь блистательной «литературной банды»! Другое дело – быстро реализовать свои таланты не получалось никак. «Банк», который им предстояло «взять», существовал пока только в их воображении. Конечно, существовал тогда могучий Союз писателей со своими кумирами, связями, поликлиниками и неплохими издательствами… Но Довлатову туда не к кому было идти, да кстати, по большому счету, и не с чем. И самое главное – незачем! Теперь все это величие бесследно растаяло, а довлатовская компания до сих пор на самом виду. Да – компания сбилась гениальная. Теперь им оставалось совсем немного – прославиться.
«1960 год, – фиксирует Довлатов. – Новый творческий подъем. Рассказы, пошлые до крайности. Тема – одиночество. Неизменный антураж – вечеринка. Выпирающие ребра подтекста. Несчастная любовь, окончившаяся женитьбой…»
Глава третья. Первый брак
Женитьба – это, конечно, сильный сюжет, хотя и не всегда удачный. Но надежда маячит – может быть, женитьба все прояснит, поставит на ноги, даст хоть какое-то развитие этой жизни, наполнит ее событиями? Теперь хоть что-то определенное можно будет сказать о себе: «Женился!» Потому что прежняя форма существования («учусь вроде») – тает на глазах. Может быть, женитьба – спасение? Ведь был же знаменитый литературный герой, сказавший: «Не хочу учиться – а хочу жениться!» – и этим прославившийся.
Конечно, тут я уже сочиняю за Довлатова. Но что первый его брак был насквозь литературный, сочиненный, искусственный – в этом я, хорошо зная обоих супругов, абсолютно уверен. И в том и в другом начисто отсутствовали качества, необходимые для обычной семейной жизни. Ни разу у них не мелькнуло желания обзавестись детьми или хотя бы каким-то хозяйством. Была ли страсть? Тоже почему-то сомневаюсь. Познакомившись с Асей Пекуровской в полутемных пучинах модного тогда кафе «Север», я сразу был поражен ее южной красотой, нежной матовостью кожи, сиянием огромных, умных, веселых глаз, роскошными ее формами под красным дорогим платьем. Но главное, что восхитило меня, – умная, насмешливая, дружеская, сразу как-то сближающая речь. Впрочем, я тогда тоже был неплох и уже маячил в литературных неофициальных кругах – перед кем попало Ася свое обаяние не расточала.
Довлатова рядом с ней не было (не помню – «еще» или «уже»), и мы стали с ней пересекаться, состязаясь в остроумии, в самых знаменитых тогда местах – в «Восточном», «Европейской», «Астории». Несколько раз компания вокруг нас вдруг рассеивалась, и я ее провожал до родительского дома – на Четвертой, кажется, Советской… и ни разу рядом с этой роскошной и известной женщиной не возникло у меня желания как-то приласкаться, прильнуть (хотя вообще-то такие наклонности у меня были)… или даже что-то такое нежное сказать. Понимал – сразу напорешься на насмешку. И дружески простившись с ней, бежал, помню, к одной знакомой портнихе, с которой, надо признаться, никогда не бывал в обществе, но она замечательно годилась в темноте… а для показухи – была Ася.
Мне кажется, для того же она была нужна и Довлатову.
… Были действительно судьбоносные женитьбы – к примеру, Достоевский и Анна Григорьевна, столько сделавшая для него. Но Достоевский уже был гигант – и жена подобралась вровень. И в тюрьме он, кстати, уже посидел. А мы по молодости женились поспешно. «Побудем теперь вот под этой крышей, пока… пока не напишем что-то настоящее. Хоть к какому-то берегу притулимся». Но «берега», как правило, выбирали крутые.
Послушаем саму Асю – отрывок из мемуаров с насквозь литературным, как водится, заглавием «Когда случалось петь С.Д. и мне»:
«Будучи человеком застенчивым, с оттенком заносчивости, к концу третьего семестра в Ленинградском университете, то есть к декабрю 1959 года, я не завела ни одного знакомства, исключая, пожалуй, некий визуальный образ гиганта, идущего вверх по лестнице вестибюля университета… Вероятно, картина так засела в моем воображении, что когда я услышала вопрос, адресованный явно мне: “Девушка, вам не нужен фокстерьер честных кровей?” – и увидела Сережино участливое лицо, я охотно и поспешно откликнулась:
– Фокстерьер у меня уже есть, а вот в трех рублях сильно нуждаюсь».
Так и вижу их сейчас, какими они были тогда: красивыми, умными, азартными, самоуверенными, с неясными еще мечтами о непременно яркой судьбе. И у них – сбылось. Но у каждого по отдельности. Начался их поединок – на всю жизнь. И вы, наверное, сразу почувствовали, что фокстерьер и три рубля тут абсолютно ни при чем, главное – выигрышная поза и блестяще построенная фраза. Это «фехтование» и было их основным занятием, упражнением в совершенстве, доказательством своего превосходства перед другим. Но хорошая ли это основа для женитьбы?
«Моментально мы почувствовали себя, – пишет Ася, – уже давно знакомыми людьми, и Сережа пригласил меня к себе домой: покормить и познакомить с мамой… Как закрепить новое знакомство, уже построенное на обоюдном желании покинуть университет и в то же время сдать зачет, требующий, наоборот, присутствия в университете?»
Тут же, используя Асино знание языка, Сергей получает перевод немецкого текста и за десять минут сдает зачет, отсутствие которого могло его погубить. Так что кто из них кого больше в их жизни использовал – большой вопрос. В своей книге Ася обвиняет Сергея в корыстном использовании людей и происшествий – и ее доказательства достаточно убедительны. История их брака мучительна, противоестественна. Каждый его участник стремился к победе, самоутверждению – и значит, к поражению и унижению другого. Более неподходящих для семейного испытания людей, чем Ася с Сережей, трудно было найти – но, несомненно, этап этот был важен и даже необходим, причем для каждого из них. При этом два таких ярких лидера уступить другому лидерство не соглашались никак. Ася была уже избалована поклонением ленинградского «бомонда» (помню постоянного ее спутника, шикарного адвоката Фиму Койсмана), а Довлатова явно не устраивала роль «пажа». Он был измучен комплексами и тщеславием (как показала жизнь, вполне обоснованным), терпеть Асино высокомерие и постоянное унижение не хотел и все, что мог делать в таком положении, – пытался унизить ее в ответ.
В изощренной борьбе друг против друга они виртуозно пользовались тем, чем сильнее всего были одарены, – талантом сочинительства, язвительно сочиняя историю их отношений так, как каждому из них было интересней.
И получается убедительно у каждого из них! Только что мы ознакомились с вполне убедительной и весьма обаятельной версией их знакомства в изложении Аси. Но по свидетельству Игоря Смирнова, самого первого университетского друга Довлатова, все происходило совершенно не так. Сергей пришел в университет, уже влюбленный в Милу Пазюк, «чьи светлые глаза и тонкие укоризненно поджатые губы (как сказано в уничижительной версии Аси) робко выглядывали из-под гигантового локтя». На самом деле они вместе учились в школе, и любовь их расцвела еще там. Вряд ли при этом он стал бы так сразу подкатываться к Асе. Впервые он как следует заметил ее на знаменитом университетском балу в Павловском дворце. Бал этот, похоже, действительно был замечательный – судя по тому, что потом он встречается в воспоминаниях сразу нескольких его участников, в том числе в повести Феди Чирскова, коллеги Довлатова и тоже замечательного прозаика, – но с еще более драматической судьбой. Все друзья уверяют, что роман Довлатова и Аси начался на этом балу – а фокстерьера и три рубля сочинила блистательная Ася, которую эта версия устроила почему-то больше.
Незаинтересованность и даже случайность их союза с Довлатовым Ася, конечно, тоже придумала. Свои действия и их последствия она прекрасно контролировала. Просто тогда не было на факультете человека, который был бы уже так любим всеми и знаменит, как Довлатов. Вспоминает преподавательница Марианна Бершадская:
«Я поднимаю голову и вижу странного человека огромного роста. Он идет мне навстречу, а перед ним все расступаются, и вокруг слышен шепот: “Довлатов! Это Довлатов!” Это “явление Довлатова народу” было зрелищем потрясающим. Ведь сколько раз мы могли видеть: идут профессора, декан с заместителем, наконец – ректор университета – и никто не расступается. А тут! Подобное я еще раз наблюдала, пожалуй, лишь однажды: когда к нам на факультет зашел приехавший в Советский Союз Жерар Филип».
Так что случайный их союз был отнюдь не случайным. Теперь было бы хорошо, чтобы вокруг собралось «лучшее общество»:
«Как истый кавказец и жрец анклава… Сережа любил кормить гостей с избытком и по обычаю российского хлебосольства умел делиться последним куском. Раздел пищи происходил в Сережиной хореографии и при негласном (? – В. П.) участии Норы Сергеевны. Ее стараниями на плите коммунальной кухни вырастала порция солянки на сковороде, которая могла бы составить дневной рацион небольшого стрелкового подразделения, хотя и поедалась без остатка всего лишь узким кругом… чаще всего не превышающим четырех едоков. Круг Сережиных друзей стал пополняться “генералами от литературы” и продолжателями чеховской традиции: “Хорошо после обеда выпить рюмку водки и сразу другую”. Так на арену вышли Андрюша Арьев, Слава Веселов, Валера Грубин».
Уже из этого маленького отрывка из книги Аси видно, как она грациозно перетягивает центр событий к себе – мол, только тогда, когда она появилась в доме Довлатова и стала «хозяйкой салона», круг Сережиных друзей стал пополняться «генералами от литературы». Меньше чем на «генералов» Ася не соглашалась. Думаю, что свою гвардию Довлатов все же собрал сам и несколько раньше. Другое дело, что никто из них отнюдь не отказывался общаться с очаровательной Асей, с веселым добродушным взором, трогательно стриженной под мальчика… Вела она себя действительно очень просто, весело, симпатично, остроумно шутила, талантливо каламбурила.
Сам Бродский, по его воспоминаниям, тоже сыграл роль в их сближении, которое в его версии происходило так:
«Мы познакомились в квартире на пятом этаже около Финляндского вокзала. Хозяин был студентом филологического факультета ЛГУ (это мой будущий лучший друг Игорь Смирнов. – В. П.). Ныне он профессор того же факультета в маленьком немецком городке. Квартира была небольшая, но алкоголя в ней было много. Это была зима то ли 1959, то ли 1960 года, и мы осаждали тогда одну и ту же коротко стриженую, миловидную крепость, расположенную где-то на Песках. По причинам слишком диковинным, чтобы их тут перечислять, осаду эту мне пришлось скоро снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала».
* * *
Ну просто залюбуешься мемуарами великих! Как бы вскользь Иосиф сообщает, что не уехал бы он в Среднюю Азию – крепость, безусловно, была бы его. А так… Ну ладно уж! Но мало кто из писателей так гениально подготовил книгу-исследование о себе, как Довлатов. Буквально каждый этап его жизни тщательно зафиксирован им самим, «засвечен» колоритными его поступками, незабываемыми впечатлениями очевидцев, письмами самого Довлатова и письмами к нему… Мало у кого из писателей столь подробный архив. Смущает даже некоторое чрезмерное его изобилие – каждое событие вспомянуто разными свидетелями и с разных сторон.
Кроме бесценных сведений, полученных из Асиных мемуаров, впечатляет, конечно, их тон, который говорит об авторше гораздо больше, чем даже факты… Тон несколько высокомерный и как бы лишь «для посвященных», равных по рангу. Даже на компанию вокруг Довлатова она смотрит снисходительно: первой, на голову выше всех прочих, должна быть она.
Ася сообщает, например, о публичном провале Бродского, который случился, конечно же, из-за ревности Довлатова:
«Соотнесясь с той же памятью, могу продолжить, что Сережа впервые встретился с Осей в собственном доме на Рубинштейна, куда Ося был приглашен на свое первое и, как мне кажется, единственное в Сережином доме авторское чтение стихов. Их встреча закончилась обоюдной неприязнью, хотя у каждого были на то особые причины. Ося, тогда немного в меня влюбленный, усмотрел в Сереже недостойного соперника, особенно после того, как опознал в нем типа, ранее примеченного в моем обществе в состоянии, как он тогда выразился, “склещенности". Сережа же занял снобистскую позицию, разделенную всеми другими участниками этого вечера, включая меня, согласно которой Осе было отказано в поэтическом даровании.
Дело было так. К приходу гостей были выставлены угощения, увенчанные горой из грецких орехов, которая и оказалась тем даром данайцев, роковым образом сказавшимся на памяти Оси и Сережи. Когда Ося, встав у рояля, готовился озвучить комнату (?! – В. П.) раскатами будущего громовержца, аудитория уже направляла осторожные взоры в том запретном направлении, где возвышался ореховый контур. Когда пространство комнаты оказалось до удушья заполненным переносными рифмами, извергаемыми самим создателем, аудитория, оставив ему будущие лавры нобелевского лауреата, сплотилась вокруг стола, приобщившись к орехам сначала робко, а затем со все возрастающей сноровкой. Закончив “Шествие”, только что написанное им вдогонку цветаевскому “Крысолову”, и не взглянув на угощение, от которого к тому моменту осталось жалкое подобие (?! – В. П.), Ося направился к двери, предварительно сделав заявление представшей перед ним книжной полке: “Прошу всех запомнить, что сегодня вы освистали гения!” Не исключено, что если бы это первое знакомство не началось так бесславно для освистанного Иосифа и так неосмотрительно для освиставшего Иосифа Сережи, их версии первого знакомства могли бы совпасть, разумеется, если исключить такую возможность, что их обоих могла подвести память».
Высокомерие Аси изумляет. Мол, да – мелковатый вокруг собрался народец! Лучший поэт нашего поколения, и, пожалуй, лучший прозаик, но сказать о них интересного абсолютно нечего – разве только вспомнить историю их столкновения из-за нее.
Известно, что отношения Бродского и Довлатова были весьма уважительны и плодотворны. Но, по версии Аси, главное в этих отношениях – борьба за нее.
Трудно, конечно, построить здоровую семью с таким характером, как у Аси. Впрочем – любовь, говорят, бывает зла. Единственное, что можно точно сказать, – что Довлатов, всю жизнь стремившийся к ясности и чистоте стиля, не смог бы долго терпеть рядом с собой женщину, пишущую так топорно-витиевато:
«С едой и вокруг нее был связан разговор, который тек то в ключе футуристическом… то на фасон Хармса… то к Кафке и Прусту, которых то возносили на Олимп, то сбрасывали с Олимпа, при этом следуя главным образом колебаниям маятника Фуко или просто измерителей степени алкогольного погружения…»
Стиль тяжеловатый и довольно нескладный для «законодательницы высокого вкуса». Сперва снисходительно похвалив довлатовскую компанию, она тут же, через несколько страниц, вдруг резко «опускает» ее: мол, с утра до вечера бессмысленно сотрясают воздух, перемывают кости классикам, ничего толком не делая. Но, конечно же, в этих бесконечных разговорах и варилась новая литература. Как же было можно тогда не обсуждать свалившихся на нас как будто с неба, до этого почти неизвестных Пруста и Кафку, Бабеля и Платонова, Олешу и Булгакова? Разумеется, без этой роскоши, без этого счастья не расцвела бы и литература шестидесятых. Открылся прежде тайный мир – и было теперь кому подражать и с кем пытаться соревноваться! Нашему поколению необыкновенно повезло – другим судьба не делала уже таких щедрых подарков. Прежнее литературное поколение практически не знало этих гениев, «объявленных небывшими» советской властью, а следующее за нами уже относилось ко всему, как к данности, а не как к открытию – и это касалось не только литературы, но и других восторгов жизни, которые щедро открылись нам, а потом потускнели и выцвели.
А мы, конечно же, чуть выпив, говорили не о политике (чего о ней говорить-то, хоть тогда, хоть сейчас?) и даже не о девушках (чего тут говорить – надо действовать) – мы с утра до вечера говорили о литературе. И когда сейчас высокое начальство мается – куда же вдруг задевалась культура? – ответ прост: перестали говорить о главном, то есть о книгах… важнее этого для духовности общества нет ничего, и никакой рекламой это не заменишь.
Не были студенты той поры и учеными сухарями, глотавшими книжную пыль… Глотали мы и кое-что еще. На долю нашего поколения выпало первое цветение жизни после сталинской зимы. Появилось вдруг огромное количество элегантных, интеллигентных, небедных людей, возникло вдруг светское общество. Помню роскошные залы лучших городских ресторанов, в которых тогда мы сразу стали своими… Взгляд движется по столикам, и почти за каждым кто-то знакомый машет тебе рукой, а если не знакомый, то симпатичный, близкий, наш!
Мы с обычной стипендией в кошельке могли посещать лучшие городские кабаки – и официанты нас любили, почитали и давали в долг. В этих «храмах роскоши» были вполне приемлемые для нас цены. Очень важно для дальнейшего успеха жизни – в самом начале почувствовать себя принадлежащим к высшему свету, который тогда, несомненно, был. В эти неповторимые годы уже пробудившаяся свобода духа счастливо сочеталась с благоприятной для нас тоталитарной жесткостью иен, и мы могли свободу не только почувствовать, но и отпраздновать. Может быть, потому наше поколение и выросло таким уверенным и даже нахальным, что привычки наши складывались не в подворотнях, как у тех, кто постарше, и не в подвалах, как у последующего за нами «андеграунда», а в лучших местах города, где мы чувствовали себя вполне уверенно.
«Астория» и «Европейская», не говоря уже о более скромных заведениях – «Крыше» и «Восточном», – были постоянным местом наших встреч, как задуманных, так и случайных.
Ася вспоминает:
«В круг друзей, связанных встречами в "Восточном”, входили Сережа Вольф, Андрей Битов, Володя Марамзин. Володя Герасимов, Миша Беломлинский, его жена Вика, Ковенчуки, Глеб Горбовский, а также всегда элегантный, всегда женатый на ком-то новом и загадочном, любимец прекрасного пола и его же покоритель, ученый-физик Миша Петров».
До сих пор стоит перед глазами тот зал, чуть затуманенный сладким дымом от шашлыков, проникающим с кухни. С той поры я не видел более красивых, элегантных людей. Сейчас, в эпоху торжества рынка и прорыва к нам лучших мировых брендов, все одеты как-то кургузо и потерто (хитрости моды, втюхивающей задорого дешевку) – а элегантно одевались только тогда. Какие костюмы, галстуки, пиджаки! Сейчас все это заменено мешковатыми свитерами и джинсами. А тогда! Радостно было смотреть на элегантного кудрявого, румяного, беззаботного – и уже знаменитого Мишу Беломлинского. Их постоянные веселые перешучивания с другом и тоже знаменитым художником Гагой Ковенчуком, составляли радость всей компании: «Послушай, ты, говорящая ветчина!» И то были вовсе не светские бездельники. Их талантливые, и главное, сразу узнаваемые рисунки (не то что нынешние безликие компьютерные поделки!) занимали все, что тогда печаталось – детские и взрослые книги, газеты, журналы, – и как это было талантливо, весело, как поднимало дух! И притом все это делалось как-то легко, беззаботно, играючи. Рядом были их жены, роскошные, красивые и тоже талантливые: Жанна Ковенчук, совершенство в слегка азиатском стиле, и Вика Беломлинская – южная красавица с уклоном на Кавказ.
За соседним столом – тоже мощные, красивые, уверенные и тоже, разумеется, с красавицами – знаменитые режиссеры Венгеров, Шредель и Менакер, вкусно выпивая и закусывая, беседовали о своих киношных (тогда весьма успешных) делах. А чуть дальше – богатый художник Желобинский в неизменном белом жилете, с известной «светской львицей» Ирой Бергункер…Тогда были не просто красавицы – каждая была «в единственном экземпляре». Это не нынешний «конвейер звезд»; каждая знаменитая красавица была знаменита не просто красотой, но умом и характером. То было «штучное» время. И чувствовать себя здесь своим… или хотя бы участвующим, причастным к этой жизни – нет лучшего старта для молодого человека!
Над блюдом роскошного сациви, за бутылкой сухого и разговоры велись роскошные – о Бабеле, Олеше, Платонове, Вагинове, Замятине! Не было лучше тех лет. И Довлатов успел вкусить этого счастья, получил нужную закваску.
Вспоминая Довлатова той поры. Ася демонстрирует немалую проницательность: четко отмечает хищные склонности Довлатова, его умение завербовать в свои сторонники даже классиков (Достоевский – местами очень смешной писатель, читай – почти как Довлатов!), его постоянную «охоту за пользой», умение повернуть любое событие выигрышной для него стороной, через некоторое время пересказать чужую историю, как свою, с мгновенной ловкостью «наперсточника» переместить «шарик», то есть – самое ценное слово, эпизод и даже сам смысл рассказа в нужную плоскость.
При всей негативности Асиных оценок нужно сказать, что это, пожалуй, одно из самых первых и точных наблюдений постоянной, тайной и скрупулезной довлатовской работы. В книге своей она живописует возмутительные истории, с помощью которых Довлатов пытался «соорудить сюжет», «выбить» из своей «прекрасной дамы» хотя бы каплю обычных человеческих чувств – сочувствия, сострадания, не говоря уже о любви! Ася рассказывает, как ее заманили в пригород, где лежал якобы избитый Сергей, но бинты его оказались декорацией, а синяки – гримом.
История эта, если она хотя бы отчасти подлинная, рисует Довлатова весьма невыигрышно. Но при его темпераменте, амбициях и комплексах историю эту можно объяснить как отчаянную попытку внести что-то человеческое в их отношения. Действительно – вытащить из Аси доброе, а уж тем более сочувственное слово было невозможно никакими клещами. Ася придерживалась другой стилистики. Целый ворох блистательных насмешек – пожалуйста, но человеческое слово… ни за что!
Довлатов, конечно, тоже поэкспериментировал с ней, отрабатывая свои сюжеты, не всегда удачные, исследуя реакции на различные стрессы и непредвиденные ситуации.
Ася тоже была не железная, хотя старалась такой казаться, и жаловалась своей университетской подруге на то, что Довлатов ведет себя непредсказуемо, а порой и возмутительно – например, вдруг оставляет ее со своими весьма сомнительными собутыльниками где-то в тьмутаракани, а сам исчезает… или вдруг приходит на ночь глядя с красоткой, вроде бы иностранной переводчицей, и они чуть ли не собираются ложиться спать. Может быть, такой «встряской» он пытался-таки выбить из Аси эмоциональную реакцию и, чем черт не шутит, даже светлую женскую слезу? Не на такую напал!
Все, что они, как высокоинтеллектуальные люди, могли позволить себе – это выяснение стилистических тонкостей: «Скажи, пожалуйста, вот ты сказала вчера… объясни, пожалуйста – это следует понимать в смысле таком – или противоположном?» Ответ должен был изощрен и язвителен, и рассматривать, как минимум, две версии, и каждая потом разбивалась на три альтернативных… и все шесть виртуозно опровергались! И не дай бог – мелькнет что-то простое и грубое! Фи! Не семейная жизнь – а непрестанная «работа над текстом» – что, конечно, было чрезвычайно важно для обоих. Прямо-таки гимназия с литературным уклоном! Притом Ася явно считала себя первой ученицей, а Довлатова двоечником. Поглядим хотя бы, как выспренно она назвала одну из глав своих мемуаров: «Апокалипсическое пустынножительство»! Да – это была школа. Но не семья.
Кстати, именно в этой главе со столь трудным названием Ася как раз рассказывает об их ни с чем несравнимой попытке создать семью… хотя, конечно, и здесь не столько делится переживаниями (хотя, наверно, они были), сколько демонстрирует совершенства своего стиля – и облика:
«Сережа сделал две попытки на мне жениться…»
Дальше, увы, идут две страницы изысканных словесных упражнений с легкими стилистическими погрешностями, которые, увы, придется опустить (как упражнения, так и погрешности). Вот – суть. История их запоздалой (когда и смысла-то уже не было) женитьбы излагается Асей в крайне невыигрышной для Довлатова версии – да и для нее выигрышной не слишком. Характерная их особенность – и Сережи, и Аси, – ради красного словца не жалеть не только близких, но и себя. Ася согласна была даже себя выставить в невыигрышном свете, лишь бы еще глубже утопить соперника в интеллектуальном поединке.
Она рассказывает о серии каких то таинственных свиданий с друзьями Довлатова, которые требовали от нее выйти за Сергея замуж, угрожая его самоубийством или даже уходом в армию. Довлатов тоже был не железный, и может, надеялся хотя бы после женитьбы зажить по-человечески, с нормальными отношениями. Может быть, он в отчаянии думал, что Ася держится так независимо и дерзко лишь потому, что не оформлен их брак? Или это для изощренного Довлатова выглядело слишком просто, и он проводил очередной сюжетный эксперимент?
Совсем уже невероятным (но таков уж был накал их отношений) выглядит история с винтовкой, когда Довлатов закрыл Асю в комнате и произнес, видимо, заранее заготовленную и отточенную фразу: «Самоубийства от тебя не дождешься – но в эпизоде убийства ты незаменима», и выстрелил – правда, мимо.
Ася скрупулезно, мастерски и как бы с абсолютным профессиональным хладнокровием прослеживает расчетливое и циничное использование всех этих «безумств» Довлатова в дальнейшей его работе над «Филиалом» и даже «Зоной». Мысль ее прихотливо-изысканна, но понятна: все главное и ценное, что сделал Довлатов, зарождалось при ней, при ее участии и даже под ее «художественным руководством».
Но кроме литературного соперничества было, увы, и другое. Вспоминает близкая Асина подруга Лариса Кондратьева:
«Мне кажется, Сережа не был ее единственной любовью. Я наблюдала и хорошие ее отношения и к другим молодым людям. К Алику Римскому-Корсакову, например. Может быть, после долгой жизни с родителями в коммунальной квартире ей очень уж хотелось узнать что-то другое, из темного коридора выйти на свет. Возможно, красивым женщинам вообще присуще желание новых побед. Я не знаю, в чем было дело».