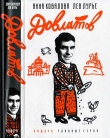Текст книги "Довлатов"
Автор книги: Валерий Попов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
С момента их встречи прошло полвека – но Андрей Юрьевич Арьев, кажется, совсем не изменился. Все такой же мягкий, но непоколебимый, блистательный, но скромный, стойко перенесший все тяготы всех эпох и ставший, к общему восторгу, главным редактором замечательного питерского журнала «Звезда» – пожалуй, самого интеллигентного среди прочих. Достойная судьба!
Пожалуй, именно Андрей был и «главным редактором» довлатовской жизни, больше всех помогая ему. Разумеется, он не правил довлатовских текстов (тут Довлатов был вне досягаемости). Но Андрей на всех этапах жизни друга, даже когда они были надолго разлучены, как-то умудрялся быть с Сергеем рядом и очень вовремя помогать ему. Известно, что Довлатов страдал приступами неуверенности – и тут «стальной», спокойный, уверенный Арьев был незаменим. Встречи их порой носили характер тяжелых и продолжительных выпивок – но только так и создается полная доверительность, расширяется кругозор, появляются неожиданные смелые рещения. И конечно, великая заслуга Арьева – бурный, великолепный финиш Довлатова еще при жизни и особенно после смерти… В момент, когда нужно было поднимать «довлатовское знамя», умный, толковый и целеустремленный Арьев как раз оказался в самом правильном месте, в кресле главного редактора «Звезды» – оттуда и пошла по Руси Сережина слава!.. Но до финиша, до смерти и славы в годы их университетского знакомства было еще ой как далеко…
Слегка особняком от всех стоял Валера Грубин. Самый ближний, повседневный – и самый загадочный друг Довлатова. Необыкновенный умница и эрудит, за глубокое знание древнегреческой литературы заслуживший прозвище Тетя Хлоя – при знакомстве произвел на меня очень странное впечатление. Большая голова, объемистая, как колокол, грудь, мощные руки. Он был чемпионом, кажется, по метанию молота, а кроме того – одним из светил философского факультета университета. При этом говорил как-то мало, тихо и невнятно, как бы ленясь вести разговор. Все могучие его знания и способности сводились на нет какой-то чуть заметной примесью абсурда, которая была в этом вроде бы воспитанном, серьезном человеке, никогда не повышающем голоса. Но – забыть, опоздать, по совершенно необъяснимым причинам не явиться вдруг на заседание кафедры, где решалась его судьба, и вылететь навсегда из списка перспективных кандидатов на то и на это… такое он проделывал постоянно, без малейшего напряжения и мук, ничуть не переживая и не изменяясь в лице, как говорят в народе – «за милую душу». Когда его с отчаянием спрашивали, как же так – он спокойно отвечал что-нибудь вроде «знаете, забыл», или «ничего страшного, сделаю позже». Наверное, именно он наиболее полно и честно выполнял модную тогда в нашей жизни программу: «Маразм – лучшая форма протеста». Когда я его увидел впервые, он, по-моему, уже растерял все, что могла бы ему дать наука, или спорт, или что-то еще, и работал на какой-то фантастической должности, не требующей никаких усилий и даже появления на рабочем месте… При этом он был ровен и спокоен в общении, вовсе не казался гулякой и разгильдяем, был серьезен и всегда сосредоточен на чем-то далеком, невидимом глазу.
Что так сближало их? Может, Довлатова привлекала в его друге абсолютная, невозмутимая душевная свобода? Думаю, это был первый настоящий довлатовский персонаж, существовавший в реальности, а не только в текстах, как многие другие. Грубин удостоверял своим существованием подлинность довлатовских героев, невозмутимо соединяя необычными своими выходками вымысел и реальность. Думаю, реальное существование Грубина придавало Довлатову уверенности при создании его знаменитой полуфантастической галереи питерских чудаков.
Вторым столь же роскошным персонажем довлатовской летописи был его легендарный двоюродный брат Борис – внебрачный сын тети Мары, знаменитой литературной редакторши. Борис с таким же спокойствием и невозмутимостью разрушал все, чего с блеском достигал. В этой компании, думаю, и начал вырисовываться перед Довлатовым его будущий литературный герой, теперь почти столь же любимый и популярный, как попадающий из одной передряги в другую и при этом всегда невозмутимый солдат Швейк.
Не думаю, что Довлатов хотел находиться в этом состоянии всегда – «повар не должен вариться в супе». Писатель должен хорошо знать своих героев, но не должен с ними погибать – иначе кто же напишет эту трагедию? И писатель Довлатов отнюдь не так прост, как его непутевые герои.
В длинном и светлом коридоре главного корпуса можно увидеть много бюстов, преимущественно бородатых. Если ставить в университете довлатовский бюст, то вряд ли стоит помещать его в этот чинный ряд. Лучше уж водрузить его в курилке на самом верху лестницы; оттуда славная компания часто взирала на жизнь свысока, и их речи в курилке – вот настоящие довлатовские университеты. Встретив тут то главное, чего он искал, компанию веселых единомышленников, он не так уж стремился теперь сдавать зачеты.
Самый первый по времени университетский его друг, Игорь Смирнов, университет закончил довольно успешно, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую и лишь на стадии работы над докторской не выдержал серых будней советского ученого и уехал в Германию. Он вспоминает, как они сидели в курилке над лестницей и состязались – кто из них отыщет самого нелепого человека в толпе студентов и преподавателей, проходивших по лестнице. Занятие вполне довлатовское, развивающее и укрепляющее его издевательскую наблюдательность. По воспоминаниям Смирнова, Довлатов, не слишком усердный в учебе, в этой игре побеждал почти всегда – «герои», замеченные им, были всегда самыми странными и смешными, что всегда почти вызывало вспышку яростного несогласия у главного его соперника – Феди Чирскова.
Вспыльчивый Федя происходил из высшей литературной аристократии того времени – его отец был знаменитым сценаристом; сейчас мы, наверное, вспомним, поднатужившись, лишь картину «Два билета на дневной сеанс», но вообще-то Чирсков был автором сценариев многих фильмов, составивших славу советского кино. У них была квартира на Марсовом поле и большая и красивая дача в Комарове – месте жительства самых успешных и популярных деятелей науки и искусства той поры… Нынче там совершенно другие хозяева жизни. Но тогда Федя, как и положено элитному подростку, учился в университете, играл в теннис… и боже, как печально кончилась его жизнь! Но тогда Федя считался не просто аристократом, а еще и талантливым прозаиком (в отличие от ничем еще себя не проявившего Сергея), и наглые выходки и насмешки этого «Далметова» (так Федя презрительно называл Сергея всю жизнь), бесили его. Однажды он даже вызвал Сергея на поединок. Сергей, на голову выше Феди, был настроен насмешливо-добродушно, но Федя с ходу ударил его, и папироска в Серегиных зубах разлетелась искрами. Их стали разнимать – и тогда Федя потребовал пойти и продолжить бой у него дома, в квартире на Марсовом поле, где им никто не будет мешать. И там сразу же двумя мощными «теннисными» ударами сбил огромного Довлатова с ног и пошел молотить, и Сереже пришлось бы туго – но друзья прекратили побоище, с трудом оттащив разъяренного Чирскова… Учитывая его дальнейшую трагическую судьбу (может быть, эти вспышки уже были предвестниками будущего помешательства), Федю не хочется осуждать. И тем не менее – таков был накал литературного соперничества.
Потом к этому еще добавилось соперничество из-за прекрасной Аси, ставшей женой Довлатова, но часто на словах (а потом и в своих воспоминаниях) упоминавшей Федю с гораздо большим почтением, чем Сергея, что вполне соответствовало ее характеру… но об Асе речь еще впереди.
Дружеская компания высокомерных снобов, спевшаяся в стенах университета, была, наверное, одной из самых ярких в те годы – но совсем не однородной. Долгое время в ней несомненно лидировал яркий, замечательно образованный, уже закаленный жизнью провинциал из Кургана – Слава Веселов. Он успел уже побывать летчиком-штурманом и привык «рулить», подавляя друзей эрудицией и силой характера. Другие друзья, вспоминая те годы, в один голос утверждают, что Веселов, побывавший в боях и еще не расставшийся с гимнастеркой, оказывал огромное влияние на Довлатова, изображая из себя супермена, которому положено подражать. Сергей на его фоне смотрелся робким и неумелым учеником. Впрочем, умение прикинуться в трудные минуты «валенком» и неумехой – гениальная находка Довлатова, главный его «сюжетный ход», который он и изобрел, может быть, под давлением того же Веселова. Потом он стал уже подсмеиваться над старшим товарищем: «Сейчас Слава Веселов переписывает “Анну Каренину”. У него с этим произведением особые счеты». Затем Веселов как-то «сошел с дистанции» – слишком уж бурно начал. Началась «ломка голоса», «ведущий» стал как-то комплексовать перед своими «ведомыми», чуя в них нутром что-то такое, чего не было у него. Потом он «щегольнул» каким-то странно размашистым, «Достоевским» поступком – ушел из-под венца, отменил брак с дочерью крупного ленинградского начальника (к тому же очень симпатичной девушкой), сломал предстоящую успешную карьеру и вернулся в свой Курган. Потом он еще раз активно проявился в судьбе Довлатова… но в «святцы» самых близких друзей не попал, и в объемистом томе воспоминаний «Малоизвестный Довлатов» Веселова нет. Как говорится, «с глаз долой – из сердца вон».
Но в Кургане, как и в других местах, где побывал Довлатов (как, впрочем, и в тех, где он никогда не бывал), живут страстные почитатели Довлатова – они же и справедливые ценители и хранители памяти Веселова. Одна из них, Анна Вержблович, прислала мне местную газету, где в рубрике «КИК» («Курган и курганцы») от 16 сентября 1995 года напечатаны весьма примечательные воспоминания Веселова о первых шагах Довлатова-писателя:
«Он отличался смелостью и безоглядностью, касалось ли это литературы или друзей. Суждения его казались размашистыми, они были не в традициях питерского воспитания с его сухим политесом. Впрочем, часто он бывал сдержан, подчеркнуто вежлив, с некоторыми старыми знакомыми так и не перешел на “ты”. С людьми незнакомыми был неизменно доброжелателен. Но вот он сталкивался с неискренностью, хамством, пошлостью и взрывался. Пошлость во всех ее видах он не переносил. С глупостью, скажем, Сергей легко мирился, порой находил ее очаровательной. Но пошлость его убивала, он кривил рот, менялся в лине. Потухал. Он страдал. Не от этого ли ощутимый привкус горечи во многих его вещах? Случалось, этот большой и шумный человек выглядел беззащитным – слабая, виноватая улыбка, гуляющий, растерянный взгляд… Гардеробный его облик студенческой поры я помню плохо: какая-то вязаная вроде бы фуфайка, "вольные брюки типа штаны”, стоптанные, но явно иностранные башмаки… Словом, одет он был небрежно, хотя толк в одежде знал. Как-то в полдень он поймал меня на Невском, глаза его горели: в комиссионном продавался арабский свитер (его размер!) красивый, чистая шерсть!»
Далее Веселов рассказывает драматическую историю… Сюжеты уже вязались к Довлатову – или он, с его бурным темпераментом, сам их создавал? В тот день он вдруг страстно захотел купить свитер в комиссионном. Они пришли занимать деньги к знакомому фарцовщику – и тот, зевая, небрежно вытащил из кармана халата комок денег: «Сколько тебе?» Довлатов деньги взял – но, уже выйдя, возмутился. Бывает так называемое «остроумие на лестнице», но в данном случае была продемонстрирована «лестничная совестливость».
«…Мы сбежали по лестнице. Сергей держал деньги в руке. Казалось, они жгут ему руку.
– У него халат набит деньгами, понимаешь? – спросил он свистящим шепотом – Моя мать слепнет за такие деньги. На… видел я этот свитер!
Минут через двадцать мы уже сидели в шашлычной на Садовой, и радушный официант нес нам графинчик и дымящийся чанахи».
Весьма характерная для Довлатова (и его героев) развязка мучительных моральных проблем. Не просто очередная острая ситуация, перешедшая, по нашему обычаю, в спасительно-губительный загул, а еще и модель будущих рассказов. Мол, моральных проблем мы не отрицаем, но решаем их по-нашему, по-довлатовски. «Компромиссом». Деньги в лицо негодяю не бросим, но зато – возмущенно пропьем. Правильно говорят, что в моральной снисходительности – главное обаяние довлатовской прозы.
Но тогда высокомерный Веселов относился к довлатовским опытам весьма снисходительно. Еще бы – в те годы на нас обрушились все шедевры мировой литературы, от Кафки до Булгакова, а тут просто приятель, с которым вместе пьешь!
«В ту пору Сергей писал так: “Прошлой зимой, будучи холодно и не располагая вигоньевых кальсон и ушанки, я отморозил пальцы ног и уши головы”.
Баловался Сергей и стихами. Один из его шедевров мне запомнился:
Хоть она и неказистая.
Зато ходит на танцы
В клуб имени Козицкого.
Я встречал Сергея и уже знал, что обречен смеяться. Дело даже не в его остротах, многие из которых вошли в студенческий фольклор. Этот симпатичный двухметровый верзила провоцировал жизнь, и будничная или даже тягостная ситуация внезапно разрешалась смехом.
Наша жизнь была молодой, пестрой, веселой, трагичной, живой – всякой. Но всепоглощающей любовью Сергея, всепоглощающей страстью его была литература. Не презрительная разборчивость эстета, не снисходительность академического всезнайки, а именно страсть, цепкость мастерового, все лучшее пускающего в дело.
Тогда мы с молодым снобизмом отвергали недавно изданные книги, читали труды ОПОЯЗа, книжки давно исчезнувших издательств на оберточной бумаге. У меня была "Виза времени” Илья Эренбурга 1931 года.
– Эренбург? – удивился Сергей. – Прочти что-нибудь.
– “Копенгаген – последний аванпост того Севера, который начинается с мхов и лопарей и для которого благородство так же естественно, как длинные ноги и голубые глаза”.
Всё. Об Эренбурге мы больше не говорили. Вообще ни разу за два десятка лет знакомства.
И вот через тридцать лет в довлатовском “ Ремесле” я с изумлением читаю: “Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычно, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония”. Сергей помнил все прочитанное или услышанное.
…Следуя рекомендациям Хемингуэя, мы прочитали лучшие рассказы Стивена Крейна. Начало “Голубого отеля” Сергей знал наизусть. “Отель “Палас” в форте Ромпер был светло-голубой окраски, точь-в-точь как ноги у голубой цапли, которые выдают ее всюду, где бы она ни пряталась”.
Много лет спустя читаю в "Филиале”: “Затем мы побывали в форте Ромпер… ” Не исключено, что так оно было. Но Довлатов вполне мог сочинить это посещение, вспоминая “Ромпер” своей юности.
Он хранил все, как рачительный хозяин, знающий, что в хозяйстве все сгодится. В творчестве, я думаю, такая скаредность простительна.
…Есть хорошие литераторы, равнодушные к живописи или безразличные к музыке. Но это скорее исключение, чем правило. О таких всегда говорят с изумлением, как об отступниках, нарушителях закона».
В самом деле, талантливый человек талантлив во всем. Литературная одаренность Довлатова была проявлением его общей широкой одаренности. Как-то при очередном расставании он достал из портфеля и тут же подписал мне свою детскую акварель. Она не была детской – автор знал секреты размывки, игры пятен и чистой бумаги. Я видел его рисунки – легкая, точная рука. Неожиданно он занялся резьбой, и отнюдь не как любитель. Сергей знал цену своим поделкам, берег их. В шкафу за стеклом стояли портреты его друзей, первой жены, его самого. Порой он начинал насвистывать джазовую тему, перевирая ее, но тут же украшая собственными вариациями.
Он любил джаз, любил в нем то, что составляет сокровенную его сущность – творчество в открытую. Он и в общении был джазистом: слушал застолье, видел в нем собеседника, соперника… Если он ощущал в компании или в человеке эту энергетику, он заводился. Вспыхивал. Если этого “манка”, как говорят актеры, не было, он мгновенно замыкался, скучнел… О чем говорить?
…Я долго не понимал, почему его оставляют равнодушным замечательные пейзажи, зрелища или рассказы о невероятных событиях. Почему он мрачнеет, замыкается в себе? Это была досада художника: все сделано, добавить нечего.
…Он и шага бы не сделал, чтобы увидеть нечто диковинное. Был равнодушен к затейливым историям, которые уже не нуждались в рассказчике. Он писал о прозе жизни. Повседневность предстает в довлатовских книгах как что-то захватывающее, веселое и трагичное одновременно. Это и есть любовь к жизни, а не вера в ее посулы и жадность до утех».
…Вы, конечно, помните, начало «Конька-Горбунка»:
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Вот как раз о среднем, то есть нормальном сыне, и рассказывал Довлатов. В его книгах нет героических персонажей, «положительно прекрасной личности», но нет и отъявленных мерзавцев. «Только пошляки боятся середины, – писал Довлатов в «Ремесле». – Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное».
Никаких там тебе полетов в космос и марш-бросков на целину – хотя такие варианты тогда всячески приветствовались… Но это не про нас. Дело, безусловно, великое… но – не наш жанр! Не то, что мы были яростно против завоевания космоса и целины, успехи нашей страны нас радовали, но писать об этом… Никак! Не наше это. И нестыковка тут более всего стилистическая. Как правильно говорил Бродский – «у меня расхождения с советской властью лишь эстетические». То, что значится великим, навязывает соответствующий, незаблемый, «неколебаемый» стиль. А мы чувствовали себя успешными творцами лишь в рамках своего собственного стиля, который усиленно тогда создавали. Не лезло в наши ворота и многое другое: расхожее напыщенное «интеллигенство», восхищение общеизвестными «художественными ценностями». И вообще все то, что называли вечным и прекрасным, вызывало у нас легкую тошноту. Я вспоминаю лишь мою студенческую компанию… но именно такой взгляд был весьма распространен. Помню, я тогда как заклинание повторял любимое изречение Оскара Уайльда: «То, что общеизвестно, – неверно». И особенно – все так называемое «великое и прекрасное», о чем так охотно и напыщенно говорят так называемые «культурные люди». Табу! То, что великолепно само по себе, – в дело не годится. Особо наглядно я почувствовал это на примере голландских натюрмортов. Великолепная золотая ваза на картине не трогает совсем! Но когда художник передает прелести и оттенки потертого горшка – дух захватывает. Художник обязан создавать свою красоту, а не пользоваться уже открытой и существующей. Роскошь изображаемого убивает роскошь изображения. Помню, как моя смущенная редакторша заметила мне, что я выпустил уже три книги, но ни в одной из них ни разу не встречаются ни Ленинград, ни белые ночи, ни Эрмитаж… И не потому что мне не нравилось слово «Ленинград» из-за имени Ленина в нем, но главное – это название как-то сразу же разворачивалось в ряд чудесных открыточных пейзажей. Долой! Свое рисуй!
Нелегко придерживаться своей тропки, когда и государственные, и романтические трубы зовут на «широкие дороги», там и шумно, и красиво. Но «подвигами», выходящими за рамки обычной повседневности, Довлатов не занимался. «Он бы и шага не сделал, чтобы увидеть что-то диковинное», – еще раз повторим Веселова. Он сразу сам надел на себя эту узду. «Определиться – значит, сузиться». Значит – найти свою работу. Работа Довлатова в том, чтобы показать диковинность текучей, массовой жизни, замысловатость вроде бы ничем не примечательного «среднего сына». А кидаться «к вершинам духа» – стоит ли? Может оказаться, что все известные вершины уже заняты.
Придирчивый, хоть и дружественный критик Довлатова Андрей Арьев писал: «В крайности Сергей впадал постоянно – но безусловную содержательность признавал лишь за расхожими (то есть обычными) прелестями бытия». Никаких тебе Данко, вырывающих из груди сердце и освещающих людям путь! Такой жест в годы молодости Довлатова вызвал бы у большинства лишь усмешку – не тот был настрой. По Довлатову, только обычная жизнь обыкновенного городского горемыки представляется заслуживающей писательского внимания. Лишь самые заурядные типы присутствуют в рассказах Довлатова – и под его рукой переливаются алмазными гранями. «Определиться – значит, сузиться». И Довлатов сделал это более дисциплинированно, чем остальные.
Он избегал культурных мероприятий, активно не любил театр и, даже принимая Арьева в Нью-Йорке, водил его всюду, но отказывался ходить в музеи и театры. Общеизвестные гениальные творения оставляли его равнодушными (если не раздражали). Зачем тратить на это время и силы, когда столько работы своей, той, которую можешь сделать только ты? И не надо представлять его универсальным гением, щедро распыляющим свой талант во все стороны. Четкий отбор, железная дисциплина вкуса. По-настоящему его интересовало лишь то, из чего можно сделать литературу, причем не абы какую, а исключительно довлатовскую. Ко всему остальному он был, в общем-то, равнодушен. И это внушает огромное уважение: в столь юные годы так четко ограничить и прочертить свой путь!
«Недурная компания» Довлатова тем временем успешно и, я бы сказал, расчетливо пополнялась:
«Знакомство с молодыми ленинградскими поэтами Рейном, Найманом, Бродским».
Вспоминает Евгений Рейн:
«Мы жили по соседству, через дом. Мой 19, его 23 по улице Рубинштейна. Сережа приходил ко мне почти ежеутренне, он выходил гулять с фокстерьером Глашей, добывал две-три бутылки пива и появлялся в моей комнате. При этом Глашу он неизменно нес под мышкой. Через тетку – Мару Довлатову, одного из лучших литературных редакторов Ленинграда, – Сережина семья была связана с литературой очень основательно. Я сразу же обратил внимание на очень высокий профессиональный уровень его рассказов. Сюжет проводился изобретательно и расчетливо. Характеры обозначались ясно и ярко, реплики стояли на точных местах, были доведены до афоризма, гротеска, пародии».
Для юного автора оказаться в компании Рейна, Наймана, Бродского – все равно что начинающему экономисту задружиться сразу с Марксом, Энгельсом и Рокфеллером. Удачнее и быть не могло.
Громогласный, величественный, уже тогда похожий на памятник себе Женя Рейн! Оказаться рядом с ним значило (не говоря уже об уроках литературы) научиться держать себя гордо, весомо, выделяться в толпе. Урокам величия, преподаваемым Рейном, внимал и я. Помню, как я впервые оказался в его доме – на читке, как передавалось из уст в уста, новой его поэмы. Почти никого из присутствующих там я еще не знал, а если слышал о ком, то только как о небожителе. И глаза поднимать боялся: если вдруг встречусь взглядом с кем-то из великих, как вести себя, что говорить? Опозорюсь навеки! Поэтому больше всего мне запомнился из того вечера паркет – старинный, фигурный, ярко начищенный, блестящий – им в основном я и любовался. Иногда в поле моего зрения попадали ярко начищенные черные ботинки Рейна, восседающего посреди комнаты. но, увидев их, я тут же испуганно отводил взгляд: достоин ли?
И вот – гости собрались, и началось чтение поэмы. Строки ее были весомы и значительны – но вникать в смысл я боялся так же, как смотреть на ботинки Рейна: куда уж мне? Помню лишь, что речь шла о съезде гостей на какую-то дачу, в сочельник. Слово это, как и остальные, было из другой, несоветской жизни, и я точно еще не знал его значения – похоже, оно из жизни дореволюционной? Смело! Подругам деталям поэмы – больше смахивало на нынешнюю жизнь… но все же необыкновенную. Вот какая, оказывается, сохранилась еще у нас аристократия на отдельных дачах! – это и был главный смысл поэмы, как я понял ее. Это все усвоили сразу и понимающе кивали. Притом стихи Рейна, когда я смог в спокойной обстановке прочесть их, оказались действительно замечательны – но в те минуты я напряженно думал о главном: как себя держать, как реагировать, чтобы не опозориться. Один раз, осмелев, я даже поднял голову и встретился с взглядом одного из слушателей (слушательниц?). Я восхищенно прикрыл глаза (мол, потрясающе!) – и после этого смотрел только на паркет: все же я как-то обозначил свое присутствие, хватит для начала. И тут, потеряв бдительность, я чуть не опозорился… что бы тогда было с моей литературной судьбой, да и вообще с жизнью?
Рейн, повышая напряг, гудел: «Он ее аукнул… и башмак! С его ноги спадая, стукнул!»
Тишина. Никто не смел не то чтобы сказать… стулом скрипнуть. И тут вдруг раздался стук – в наступившей тишине этот лист именно «стукнул». Я увидел листок роскошной белой бумаги (видимо, прочитанный Рейном), который выпал из его рук и, будучи согнут вдвое, стукнул по паркету и так шалашиком и встал. Мастер уронил лист! В первом страстном порыве я чуть было не рухнул со стула на колени, чтобы поднять выпавший из обессилевших рук мастера лист великолепной этой рукописи и вернуть хозяину. Уже совсем свесился со стула вперед головой, собираясь грохнуться, но все же что-то мелькнуло в моем мозгу, тем более боковым зрением я уловил, что кроме меня никто нырять за этим листом не собирается… Тут что-то не то! Крутанув головой, я как-то умудрился выйти из штопора и на стуле усидеть. Что меня и спасло, и вскоре я вздохнул с облегчением – Рейн, снова поднимая голос к концу страницы, вдруг резко смолк – и второй лист грохнулся рядом с первым. Вот оно что! Это же он специально кидает! Точней – отдав всего себя художественной выразительности, бессильно роняет лист из рук. И хорош был бы я, бросившись поднимать: пафос сменился бы хохотом, чего Рейн никогда бы мне не простил. Испортил бы песню, дурак!
К концу поэмы Рейн весь пол закидал этими жесткими, стоящими коробом белыми листами и, не дождавшись бурных аплодисментов, которые грохнули чуть позже, скрипя прекрасными своими ботинками (он всегда великолепно разбирался в обуви), вышел из комнаты, не глядя ни на кого. И даже наступая на некоторые листы и давя их – в духе своей жестокой поэмы. Да, школу Рейна необходимо было пройти.
Кроме того, Рейн был известен как мастер псевдоисторических, невероятных, гомерически смешных, а порой ужасных историй из жизни знаменитостей – Горького, Толстого. Евтушенко… Вспоминаю знаменитую байку Рейна о Горьком. Откуда он взял эти факты? Неужели все сочинил?
«В голодные двадцатые годы два нищих петербургских поэта, кажется, Пяст и Чулков, пошли к великому Горькому (тогда он жил в Петрограде, на Кронверкском проспекте). Горький встретил их сурово – дальше двери не пустил:
– НичегО нет! Сам От гОлОда Опухаю! – за-окал Горький. – ЖОна Опухает!
– Побойтесь бога! – воскликнул Чулков – Вы же получаете спецпаек!
– Бога нету! – мрачно изрек Горький и закрыл дверь.
Покачиваясь от голода, они шли обратно через парк. Шумели деревья, каркали вороны. И вдруг с неба упал на поэтов целый круг пахучей колбасы! Они рухнули на колени и стали восхвалять милость Творца.
Съев колбасу и слегка обнаглев, поэты вернулись к Горькому, позвонили в дверь.
– Вот вы говорите, что Бога нет. А он только что совершил великую милость – накормил нас. Сбросил с неба колбасу.
Горький помрачнел:
– ПрОклятые вОрОны! Всю кОлбасу с балкОна растащили!»
Попасть под прищуренный взгляд Рейна, создателя современных мифов, было очень важно. И Сергей попал, сумел войти в этот пантеон – на память осталась книга Рейна «Мне скучно без Довлатова»… Ему, видите ли, скучно! Великолепная гримаса, великолепная поза!.. Где Рейн – там величие. И даже – рядом с ним.
Так же блистателен, хотя и более язвителен, Анатолий Найман. Хотя они тогда еще и крепко дружили с Рейном, но внешне были решительно противоположны. Рейн огромный, сутулый, губастый, с вечно растрепанными бровями и чувствами. Найман – маленький, изящный, очень красивый, с насмешливыми бархатными глазами, всегда собранный и готовый нанести короткий, но чувствительный укол.
Помню, когда меня приняли в замечательное литературное объединение при издательстве «Советский писатель» (лучше этого объединения в жизни не помню ничего: в одной комнате сидели Конецкий, Голявкин, Битов), там зачем-то на одно мгновение (мгновение укола) появился блистательный Найман, поздоровался с Битовым, потом глянул на меня – мы еще не были тогда знакомы, – и спросил Битова (но так, чтобы слышал я): «Андрей! А зачем тебе двойник?» И вышел. Тогда мы действительно внешне были похожи с Битовым – издалека.
Найман язвительно прочил Довлатову статус «прогрессивного молодого писателя» – тот с уже разработанной системой несчастий и провалов сумел этого избежать. Устоять под острым взглядом Наймана, уцелеть после укола его было непросто… но через это надо было пройти. Так же, как через «школу Рейна». Тот, кто не попал им на глаза и не получил их оценки (пускай даже язвительной), потом «в списках не значились». Отбор был строгий, но правильный. Все, кто тогда его прошли, – в литературе остались. Найман и Рейн жестоки не были и, полюбив тебя, делились своими щедростями, дружили и помогали, как считали нужным.
Найман тоже был автором литературной жизни, как и Рейн, – даже больше автором жизни, чем литературы. Знамениты его блистательные истории из жизни богемы… Тогда все ведущие «кандидаты в гении» имели шикарный «ход» – высшие литературные курсы в Москве: прорыв в привластные круги, в журналы, при желании возможность остаться в столице. Эти курсы, как великолепный трамплин, использовали и Найман, и Рейн, и Битов – и потом остались в Москве…
Так вот – анекдот! В начале занятий на курсах Найман жил в общежитии, кажется, с нанайцем.
Тот куда-то собирается. Толя спрашивает: «Ты куда?» – «В булочную – хочу батон купить!» – «Слушай – купи и мне, пожалуйста, батон». Вскоре тот возвращается. Один батон грязный. Он протягивает его Толе и говорит: «Слушай! Твой батон в грязь упал!»
И таких истории были десятки – наша тогдашняя жизнь была полна веселья и игры. И престижней литературной карьеры ничего не было – вот почему в нее ринулось столько блистательного народа и был такой блестящий результат!
В шестидесятые годы вдруг как-то все, кто пытался создавать новую литературу, оказались в одной компании, поскольку и жили все неподалеку. Довлатов от Бродского – пять минут по Литейному, Уфлянд от Бродского – две минуты от улицы Петра Лаврова до дома Мурузи на Пестеля, причем Уфлянд учился в школе 182, как раз напротив окон Бродского. В этой же школе учился до седьмого класса и я. Довлатов и Рейн жили на одной улице. Глеб Горбовский жил у самого Невского, на Пушкинской улице. Созвониться и встретиться – десять минут. Счастливое время и счастливое место. Мне кажется, такой компании в Питере дол го не было ни до, ни после.