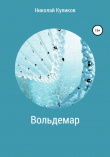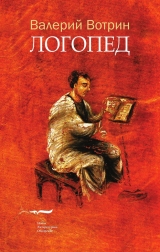
Текст книги "Логопед"
Автор книги: Валерий Вотрин
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Но мы же ничего не разоряем! – удивлялся Юра.
– А мед? Мед-то вы берете?
– Ну, мед! Его же у них полно.
– Мед, – раздельно отвечал Саша, поправляя очки, – осам необходим для кормления личинок. Вы у детей отбираете еду, понимаете?
Юра кивал, соглашался, но уже через пару дней, рискуя, крадясь, снова лез за жирным, черным, отдающим гнильцой осиным медом. Мед в лицее был самой ходовой валютой. Особым шиком было добыть сотовый мед, какой-то особенно черный, отдающий горечью, как смола. Горькими были и соты, но их все равно ели вместе с медом. За кражу сот осы мстили жестоко. Внезапно, посреди урока, в раскрытые окна влетал грозно жужжащий боевой отряд, и ученики с визгом начинали метаться по классу и выскакивать в двери. Обычно из помещения выбегали все, но Рожнов помнил и несколько случаев, когда весь класс во главе с учителем давал осам бой. Летучих захватчиков уничтожали всем, что под руку попадет, – учебниками, тетрадками, скинутыми с ног туфлями, половыми тряпками. Осы были юрки и ударопрочны. Их нужно было сначала сбивать тетрадью, а потом изо всей силы давить каблуком, иначе сбитая оса, угрожающе жужжа, поднималась с пола и вновь шла в атаку. В итоге покусаны бывали все, но счастья от одержанной победы это не омрачало. Однажды во время такого боя оса ужалила Юру в щеку, и потом недели две он ходил с раздутым лицом и заплывшим глазом, но гордый, словно раненый боец.
Осиным гнездом звал Юрин отец Управу. Петр Александрович Рожнов был человеком строгим, с взглядами на исправление языка совершенно инквизиторскими. Так, он полагал, что за несоблюдение языковых норм следует применять уголовную ответственность: за невыговаривание буквы «р» давать от пяти до десяти лет лишения свободы, за умышленную шепелявость – до 15 лет, за намеренное преподавание искаженных правил – пожизненное заключение. Таким Петра Геннадьевича сделала многолетняя служба земским логопедом. В молодости он решил посвятить себя искоренению орфоэпической неграмотности и попросился отправить его в самую дикую глубинку, где ему представлялся настоящий простор для такой деятельности. Их было много таких – тех, кто решал отправиться в народ и добрым правильным словом исправлять язык. Как много их там, в глубинке, и осталось – спилось, пало жертвой неизвестных болезней, слилось с народной массой и языком. Сколько земских логопедов было разорвано восставшим народом. А Петр Александрович продолжал свою деятельность. Девять лет, проведенных на колесах, в бесконечных переездах из одной деревни в другую, где он собирал толпы и заставлял повторять за собой: «У рока грозная рука. Рома дрожит: он не выучил урока. Срок проработки прошел. За срыв срока наказывают строго». И целые деревни испуганно повторяли за хмурым человеком в потрепанной шинели земского логопеда эти хмурые слова.
Но уезжал Петр Александрович – и все продолжалось по-прежнему. Лишь под Новый год дружно начинали тянуться к одинокому дому логопеда тяжелые телеги. Деревенские входили, низко кланялись, чинно садились у дверей. Петр Александрович, не поднимая головы и не здороваясь, сидел за столом, что-то быстро писал. На стене висели таблицы, орфоэпические и анатомические, на которых изображены были органы артикуляции в разрезе. Деревенские боязливо на них таращились. Кто-нибудь, осмелившись, робко кашлял. Петр Александрович поднимал голову и вонзал в пришедших горящий темной логопедической яростью взгляд.
– Мы это… мы, Петла Александлович, стало быть, поздлавить вот…
Петр Александрович молча грохал кулаком по столу. Деревенские подпрыгивали.
– Поздравить! – скрежещущим голосом говорил логопед. – Ну-ка, повторили!
Деревенские начинали клекотать, стараясь произнести трудное слово. Наконец, кому-нибудь из них удавалось его выговорить. Петр Александрович тут же успокаивался.
– Так мы это… – говорили деревенские, пятясь к двери. – Мы, стало быть, того…
Петр Александрович недобро смотрел на них, усмехался.
– А чего приходили-то? – напоминал он.
– Ох ты! – встряхивались деревенские. – Сенька, давай тащи мешок! Мишка, к телеге беги, волоки, что там есть!
За несколько минут скудный дом логопеда наполнялся вкусно пахнущими мешочками, свертками, связками. Приносились и уважительно ставились на стол внушительные бутыли. Петр Александрович, не евший второй день, с неудовольствием слышал бурчание собственного голодного нутра.
– Ну, хватит! Довольно! – приказывал он.
– Да вот тут еще сметанка, – бормотали деревенские, растерянно останавливаясь посреди комнаты.
– Не надо… не надо сметанки! Пошли вон!
– Как сказете, – кланялись деревенские, пятясь.
– Что?! – вскидывался Петр Александрович. – Скажете! Понятно?
– Скажете-скажете, – торопливо поправлялись деревенские и, толкаясь, выкатывались из дому.
Как только телеги скрывались из виду, Петр Александрович бросался к кулькам, ставил на стол тарелки и плошки с едой, торопливо разрезал огромные караваи. Он ел так, словно до этого не притрагивался к еде целый год.
Прошло время. В столице прослышали об успехах молодого логопеда. Петра Александровича пригласили работать в одну из столичных логопедических комиссий и тем спасли ему жизнь – он был уже близок к самоубийству.
Мать Юры была секретарем логопедической коллегии. Она происходила из захудалого рода провинциальных логопедов и семнадцатилетней приехала в столицу поступать на учительницу. Связей у нее не было: отец давно умер, а дядя, член одной из столичных коллегий, о бедной родственнице не хотел и слышать. Софья поселилась у троюродной тетки, глухонемой старой девы. В университет она поступила с первого раза и целиком отдалась учебе. Преподаватели сразу заметили молчаливую девушку в скромном темном платье. Ее прилежание было по достоинству оценено – окончила Софья с золотой медалью, и ее сразу же распределили в одну из самых престижных столичных школ.
Однако не этим горела ее душа. Софья хотела быть логопедом и страстно ненавидела доставшийся ей удел. Тогда как раз открылись популяризаторские курсы по «логопедческому нормоупотреблению», и количество слушателей на них превысило самые смелые ожидания. Посещали эти курсы почти одни девушки из логопедических семей. По окончании выдавался диплом – скорее красивая бумажка, чем путевка в жизнь. Но Софья была рада и этому. Неожиданно ей понравился один лектор – высокий худощавый, сурового вида человек в шинели земского логопеда. Он, кажется, тоже заметил ее – во всяком случае, перестал обращаться к аудитории и начал говорить, обращаясь только к ней, не сводя с нее темного напряженного взгляда. Однажды после курсов они столкнулись в коридоре – и уже не расставались. Через полгода они поженились.
Их разговорами было наполнено Юрино детство. Слово «палтус» превратилось в семье в шутливое ругательство. Оно стало синонимом слова «олух». «Во палтус!» – мог в шутку выбранить Юру отец, когда Юра чего-то не улавливал и переспрашивал. Или Юра приносил плохую отметку, и Петр Александрович крутил головой и восклицал:
– Форменный ты, Юрка, палтус!
И Юре было от этого очень стыдно.
Партия была предметом постоянных обсуждений родителей, их едких насмешек. Когда по телевизору показывали очередной парад и одинаковые лица на высшей трибуне, в доме стоял хохот. У каждого члена Управы была в доме своя кличка. Так, генерала Евстигнеева, министра внутренних дел, называли Газырь. Надутому солдафону, обожавшему черкески с газырями, очень шло это прозвище.
Министра печати Прасолова называли Пря. Темный этот человек с морщинистым лицом склочника, редактор одной из провинциальных газет, неожиданно назначенный министром печати, пользовался особой любовью Юриных родителей.
– Пря поперла! – радовался Петр Александрович, когда по телевизору показывали выступление Прасолова. – Ишь, плюется! Глянь, Соня, – пля прюется!
Но пришло время, когда Юра захотел узнать больше. Одноклассники шептались о каких-то тарабарах. Жора Лызлов, важный сынок главного логопеда страны Германа Лызлова, показывал всем какую-то тетрадку – это были, как выяснилось, протоколы допросов. Когда к нему начинали приставать любопытные, Жора тетрадку прятал и надменно ронял:
– Мне папа дал. Он розыском всяких болтунов занимается.
Эти обрывочные сведения жутко занимали и волновали Юру. Фантазия рисовала мрачные казематы, горящие факелы, худых людей, прикованных цепями к стенам. Низкий столик, за ним сидит Герман Лызлов, о котором ходили страшные слухи: поговаривали, что он метит на пост генерал-прокурора. Но сейчас он занят. Жуткие черные тени скачут по стенам. Лызлов допрашивает болтунов. Это люди, прикованные цепями к стенам. Что они сделали? Почему здесь? Верно, сболтнули лишнее. Что с ними будет?
Запретная история страны не давала Юре покоя.
Он было пристал с расспросами к родителям, но реакция отца испугала его. Лицо Петра Александрович исказила гримаса, он придвинулся к Юре.
– Петя! – строго сказала мать.
– Откуда он узнал? – клацнул зубами Петр Александрович.
– Петя, он всего лишь ребенок!
Петр Александрович сильно взял Юру за плечи и встряхнул.
– Чтоб я больше ничего этого не слышал! Это сам Жорка болтун. Понял?
И он снова встряхнул Юру.
– Понял, – испуганно пробормотал Юра.
Потом были годы учебы в привилегированном Речевом корпусе, в котором получали образование только отпрыски из логопедических семей. Эти четыре года, проведенные в стенах Корпуса и наполненные непрерывной зубрежкой, Рожнов потом не мог вспоминать без дрожи. Преподавали в Корпусе сплошь страшные горбатые старики с ухающими голосами. Они заставляли повторять за собой разные правила. Собственно, учеба к этому и сводилась. Студентов приучали к мысли, что нарушения звукопроизношения – не болезнь, а проступок, за который следует суровая кара. «Давно отошли в прошлое времена, когда логопеды были врачами, – вещали преподаватели своими ухающими голосами. – Логопеды стали нормоблюстителями с тех самых пор, когда народ перестал обращать внимание на нормы. От нас, и только от нас, зависит теперь спасение языка. Ибо народ не с нами. Народ – против нас!»
Здание Корпуса, построенное в незапамятные времена, было населено серыми, как пыль, тараканами и призраками бывших преподавателей. Саша Ирошников, который и здесь стал однокашником Юры, на полном серьезе рассказывал, что один такой, страшный горбатый старик с ухающим голосом, однажды целых два часа распространялся с кафедры о дизартрии, а когда прозвенел звонок, медленно растворился в воздухе. Рассказу нашлись свидетели, вскоре пол-Корпуса доказывало, что присутствовало на той лекции и видело призрака своими глазами. Рожнов истории не поверил, но оставалось признать, что это было самое интересное событие за четыре года, проведенных в Корпусе. К концу учебы вопросы распирали Рожнова так, что он готов был задавать их птицам, деревьям, придорожным кустам. Запретная история страны не давала ему покоя ни днем ни ночью.
И ответ на его вопросы был, наконец, дан. Месяца за два до окончания Корпуса их начали готовить к церемонии присяги. Появились какие-то шустрые человечки в нелепых мантиях – церемониймейстеры Совета логопедов, которым было поручено «физически» подготовить студентов к присяге. Дни напролет Рожнова вместе с другими студентами заставляли ходить, выпрямившись и вытягивая носок, потому что, по словам церемониймейстеров, осанка у будущих выпускников была ни к черту.
– Таких не только из Корпуса выпускать нельзя! – орал один. – Таких за ворота выпускать нельзя! Ты посмотри, как ты идешь! Ты идешь, как старая бабка!
– Как развалюха! – орал другой.
– Как паралитик! – орал третий.
– Вы ходите, как параличные бабки! – орали все трое.
– А ты? – орал первый. – Как фамилия? Рожнов? Что у тебя с лицом? Ты выглядишь так, словно съел лягушку!
– Гнилушку! – орал второй.
– Дохлую кошку! – орал третий.
– Ты выглядишь так, будто сожрал дохлую лягушку! – орали все трое.
Эти церемониймейстеры так измотали студентам нервы, что когда, наконец, настал день присяги, никто в это не поверил. С утра все выглядело так, будто сегодня ничего не произойдет. Кому-то сунули в руки метлу и заставили мести двор. Большая часть студентов без дела сидели в классах. На улице искрилось солнце, пели птицы. Тоска снедала студентов, тоска и неясные тревоги.
Вдруг по корпусам разнесся звучный удар гонга. Это было настолько неожиданно, что все повскакивали со своих мест. По коридору кто-то шел – медленные шаги приближались к аудитории. В дверях выросла фигура ректора, профессора Восленского, пышнобородого, в огромных очках.
– Вставайте! – приказал он. – Ступайте за мной!
Вслед за ректором дошли до конца коридора и принялись спускаться по лестнице. Спускались долго – вот и первый этаж прошли, и сами подвалы, обследованные любопытными студентами еще на первом курсе, а лестница все вела вниз. Уперлись в низкую дверь. Ректор отомкнул ее ключом и вновь повел всех вниз по нескончаемой лестнице. Так они оказались в катакомбах. Об этих подземельях ходили смутные слухи – будто система подземных ходов ведет в самую Управу, будто здесь хранится библиотека Леонида Мезенцева, «первого из главных».
Правда оказалась страшнее. Их вели низким влажным подземным коридором. По обеим сторонам его располагались десятки ниш, в которых виднелись истлевшие тела.
– Это древние логопеды, – не оборачиваясь, пояснил ректор. Казалось, огонек его фонаря маячит где-то далеко впереди. – Традиция предписывает хоронить их здесь. Главных логопедов хоронят под Управой – там есть особые усыпальницы.
Неожиданно он остановился.
– И вы будете здесь погребены, – ровным голосом произнес он.
Рожнову было так же жутко, как и другим. Кто-то из студентов несмело спросил:
– А если я не захочу?
– Это традиция, – донесся голос ректора. Огонек его фонаря поколебался. – Вы не вольны выбирать.
Коридор вывел их в большой, освещенный сотнями факелов зал. Факелы держали в руках преподаватели Корпуса – множество седых сгорбленных стариков собралось здесь. Их было так много, что Рожнову показалось, что к собранию примкнули и давно умершие профессора. Стояла тишина, слышно было только потрескивание факелов.
В середине зала возвышалось изваяние богини Нормы, с книгой и мечом. Ректор приблизился к его подножию и повернулся к студентам.
– Новые логопеды! – торжественно произнес он. – Под этими священными сводами, помнящими клятву первых логопедов и главного из них – Леонида Мезенцева, основоположника нашего братства, – произнесете вы сейчас нашу клятву. Повторяйте же за мной!
И они хором стали произносить за ректором слова древней присяги:
– Клянусь богиней Нормой, повелительницей и правительницей, исполнять честно, соответственно моим силам и разумению, следующую присягу и письменное обязательство: почитать научившего меня наравне с моими родителями, делиться с ним своим достатком и в случае надобности помогать ему в нуждах; его потомство считать своими братьями,и это искусство преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям и сыновьям своего учителя, но никому другому. Обязуюсь изо всех моих сил и стараний выявлять и пресекать случаи брадилалии, логоневроза, дизартрии, ринолалии, тахилалии, афазии. Все, происходящее в стенах этого братства, я буду хранить в тайне и передавать только своим детям и детям своих детей. Клянусь!
– Братья! – произнес ректор, когда последние слова присяги отзвучали под сводами зала. – Теперь вы имеете право знать. На это у вас уйдут годы. Что вам хочется узнать в первую очередь?
Новоиспеченные логопеды мялись и переглядывались.
– Что ж, братья, – произнес Восленский, кивая, – тогда слушайте. Я расскажу вам, кто такой Тарабрин.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
У здания столичной логопедической коллегии было пять входов. Один, центральный, предназначался только для работников коллегии. Другой, поменьше, рядом с главным входом, был устроен для курьеров и почтальонов. Третий, в левом крыле здания, предназначался для кандидатов. Он вел в узкую длинную, как коридор, комнату без сидений, которая во все дни была битком набита кандидатами, ждущими своей очереди на комиссию. В правом крыле здания была устроена подъемная железная решетка, которая поднималась один раз в месяц, – то был вход для речеисправителей.
О пятом входе никто не знал, потому что это был вход для посетителей. Его постоянно переносили: то где-нибудь на задах здания переделывали окно в дверь, которую через пару недель заколачивали, то устраивали вход через пожарную лестницу, то через захламленный подвал, то через помещение охраны, куда пускали только по предъявлении особого документа – не паспорта, не водительских прав, не военного билета, не пропуска, не удостоверения личности, не служебного удостоверения, а особого, заверенного нотариально, документа, форма которого была уже утверждена, но, как выяснялось на входе, еще не согласована соответствующим контролирующим ведомством.
Заблукаев внимательно следил за перемещениями входа и скрупулезно отмечал очередное его местоположение в специальной книжке. Он знал, что в один прекрасный день ему понадобится этот вход, и времени на его поиски будет немного. За три дня до своего похода в коллегию он провел очередную рекогносцировку и узнал, что за день до этого вход опять перенесли. Теперь посетители могли попасть в здание коллегии только через окно на первом этаже. Перед зданием недавно начался ремонт теплотрассы, и вдоль фундамента была прорыта широкая и глубокая траншея. Через эту траншею была перекинута тонкая доска, которая упиралась в окно-вход. Прежний вход для посетителей был уже надежно заперт на огромный замок.
Заблукаев появился перед зданием Коллегии ровно в десять часов утра. Привычно обошел здание и уперся в траншею. Доска еще была здесь – но где же вход? Заблукаев подбежал к доске. Так и есть – окно-вход на том конце доски уже начали закладывать изнутри кирпичом. В проеме виднелись равнодушные лица строителей. Работа шла споро – еще минут пятнадцать, и вход исчезнет.
– Подождите! – отчаянно закричал Заблукаев, маша папкой. – Пустите меня в здание!
Работы по заделыванию окна остановились, и строители уставились на Заблукаева.
– А где ве ты раньфе был? – недовольно спросил один.
На это у Заблукаева имелся ответ.
– Приемные часы! Приемные часы! – прокричал он, потрясая папкой.
Строителям крыть было нечем, но так просто они сдаваться не хотели.
– Да ты уве не пролезефь!
– Пролезу! – настаивал Заблукаев, ступая на прогибающуюся доску. – Тут еще для двоих место!
– Ну, лезь, – уступили строители и добавили насмешливо: – Только в транфею не сковырнись.
Заблукаев осторожно перешел траншею по шатающейся доске, стараясь не смотреть вниз, словно там была пропасть, и уперся грудью в полузаложенное окно. Оттуда ему протянули руку. Он сунул в эту руку папку и, кряхтя, полез в узкий проем. С той стороны ему помогали – тянули за руки, плечи и голову, довольно нелюбезно. Через некоторое время он оказался внутри, весь в пыли и известке.
В комнате, чьем-то брошенном кабинете, было шестеро строителей. Работали только двое, а остальные сидели на старых стульях в углу и играли в карты. Их старшой обратился к Заблукаеву:
– Кулево есть?
– Не курю, – гордо ответил Заблукаев и осведомился: – Куда идти-то?
– А ты выходи, там разберефься, – ответили ему.
Но едва он вышел, как дверь за ним захлопнулась, и он оказался в длинном, без указателей коридоре с рядами одинаковых дверей без номеров. Заблукаев, поразмыслив, пошел направо и вскоре вышел к некой приемной, где за печатной машинкой сидела секретарша и читала газету. При появлении Заблукаева она бросила газету и бешено застрочила на машинке. Заблукаев подошел к ней и откашлялся.
– Вы к кому? – резко спросила она, поднимая лицо.
– Я вот с бумагами… – начал он объяснять, показывая папку.
– Проситель? – оборвала она его. – С обращением?
– Да, но…
– Вам в двести восемнадцатый. На третьем этаже, налево.
Он поблагодарил и отправился искать лестницу, но в середине коридора вдруг остановился. Минуточку, какой он проситель? И не обращение у него вовсе. Он повернул обратно, и вовремя – секретарша торопливо собирала бумаги и уже собиралась улизнуть. При виде него лицо ее вытянулось.
– Извините, – сказал Заблукаев, подходя к столу. – Я вообще-то не проситель, а посетитель.
– С жалобой? – снова прервала она его. – Тогда вам в двести первый. Третий этаж, направо.
– Нет-нет. Не с жалобой. У меня предложение.
Ее лицо вытянулось еще больше.
– Давайте, что там у вас.
Он передал ей папку.
– Подождите здесь, – произнесла она кисло и, не заглядывая в папку, скрылась за дверью. Он сел в свободное кресло и стал ждать. За дверью слышался какой-то разговор. Секретарша вышла, ни слова не говоря, села на свое место и принялась подкрашивать губы. Закончив, произнесла в пространство:
– Просили подождать.
Заблукаев кивнул. Нервная дрожь пробила его, еще когда секретарша скрылась за дверью. Теперь с дрожью невозможно было совладать – он весь трясся.
На столе у секретарши зазвонил телефон. Она взяла трубку и, меряя Заблукаева взглядом, принялась слушать. Заблукаев, сотрясаясь с головы до ног, ждал.
– Да, – говорила секретарша, глядя на Заблукаева. – Понятно. Нет, сидит. Нет, один. Сидит, ждет. Видела, конечно. Ну, просто бумаги. Не просто бумаги? Нет. Да. Хорошо.
Она положила трубку и зло проговорила:
– Входите, вас ждут.
И Заблукаев вошел. Много лет спустя он пытался вспомнить, как выглядел кабинет, – и не мог. Кажется, там был какой-то шкафчик с книгами и на нем чей-то бюст. Из памяти вылетело также имя-отчество разговаривавшего с ним. Александр Сергеевич? Александр Юрьевич? Или Михаил Юрьевич? Одно он помнил точно – человек был настолько заурядной внешности, что она не затрудняла взгляда. Сквозь человека можно было спокойно рассматривать интерьер комнаты. И голос его был пустой и ровный, как дуновение ветерка.
– Заблукаев, Заблукаев, – шелестел этот голос. – Конечно, конечно. Бывший студент, исключен за антиправительственную деятельность. Нигде не работает. Поступали сигналы на вас, очень неблагоприятные. Установлен надзор. Как, не знаете? Установлен, установлен.
– Где я?
– Где я, где я… – шелестел голос в ответ. – А где вы думаете? Это Четвертый департамент Коллегии. Мы вас прекрасно знаем. Хотели лично познакомиться, а вы сами явились. Похвально, похвально.
– Я хотел, чтобы вы извлекли уроки…
– Уроки, уроки… Какие такие уроки? Вы сами должны извлечь урок, Заблукаев. Впрочем, уже поздно. Что вы тут принесли? Бумаги, бумаги…
– Это не просто бумаги. Я хотел пролить свет… раскрыть злодеяния… речеисправители…
– Конечно, конечно. А зачем? Вы думаете, мы этим не занимаемся? Думаете, спим на рабочем месте?
– Нет. Я просто…
– Что вы просто?
– Я просто хотел стать логопедом.
– Вот как? Вы из логопедической семьи?
– Нет.
– Тогда почему дерзаете?
– Болею душой за язык. Посмотрите вокруг! Что делается! Враги проникли повсюду, вредители. Язык гибнет… Я…
– И вы поэтому решили стать логопедом?
– Хочу бороться. Знаю пути улучшения. Вот, видите, папка. Долгое время собирал. Там рассказы о жертвах. Десятки жертв. Это заговор!
– Заговор, заговор… И что же, логопеды не справляются? Так вы считаете? Некомпетентны, возможно?
– У меня и в мыслях не было…
– Тогда что же? Вы ведь сын учителя? Почему не учительствуете?
– Как вы не понимаете! Учителя задавлены министерскими циркулярами. Их роль хранителей языка, просветителей сведена к минимуму. Их авторитет ничтожен.
– Стало быть, поэтому вы пренебрегаете своим долгом?
– Мой долг – бороться с распадом языка!
– Откуда вы взяли, что язык распадается?
– Я это вижу.
– Это все глупости, Заблукаев, – прошелестел голос. – Пустые глупые выдумки. Сейчас мы вас отпустим. Но если вы, черт вас подери, еще раз рыпнетесь, если станете приходить сюда и требовать, чтобы вас приняли в логопеды, мы дадим вашему делу ход.
– Я просто хотел…
– Хотели, хотели… Вы просто хотели открыть всем глаза. Знайте – эти глаза открыты. Да-да, мы не сидим без дела. Мы замечаем все. Замечаем и принимаем меры. А вы – пустая трещотка, трепло балабольное. Только наша крайняя занятость мешает нам передать ваше дело в прокуратуру.
– Но я ничего не сделал!
– Не прикидывайтесь дураком, Заблукаев. А в этой папке что? Кем вы себя вообразили? Пинкертоном? Ведете антиобщественный образ жизни, не работаете, вращаетесь в подозрительной компании. Расследование затеяли?
– Речеисправительные…
– Вы опять за свое, идиот. Знаете пословицу о сверчке и шестке? Так вот, если будете высовывать из своего сословия нос, вас по нему пребольно ударят. Потому что логопедами не становятся – ими рождаются. Поняли, Заблукаев?
– Понял. Папку разрешите?
– Папка останется у нас. Идите и позаботьтесь о том, чтобы мы о вас никогда больше не слышали.
На ватных ногах выполз из кабинета Заблукаев. Но испытания этого дня еще не кончились. Почти час не мог он выбраться из здания коллегии. Никто не мог указать ему выхода. Встреченные им только бормотали в ответ: «Выход для посетителей еще не утвержден», – и старались побыстрее прошмыгнуть мимо. Охранники на парадном входе криками погнали его назад, когда он попытался выйти через центральный турникет. Наконец, изнуренный Заблукаев просто зашел в какой-то пустой кабинет на первом этаже и выбрался на улицу через раскрытое окно. Никто его не заметил.
Юбин встретил его сочувственно, вытащил откуда-то из-за печи закуску, налил стопку.
– Я те говорил, я те говорил, – приговаривал он.
– Что говорили-то? – очнулся Заблукаев, опрокинув стопку.
– Что Язык тя подведет.
– Не понимаю я вас, Фрол Иванович. Разве в языке тут дело? Они меня не пустили! Знай, говорят, свой шесток!
– Да именно что в Языке, дура! В одиночку-то кто против него борется? Вот такие дурни, как ты. Против него сообща надо. Глаза им раскрыть. Обнаружить, значит, Его.
– Да кого обнаружить-то, Фрол Иванович?
Юбин досадливо помотал головой.
– Я те, Левка, о чем последние недели талдычу? Пискунова-то, инженера, помнишь?
– Да при чем тут Пискунов ваш?!
– А я те скажу при чем. Ну-ка, смекни, против кого логопеды воюют?
Заблукаев задумался.
– Ну, ну? – подбадривал Юбин.
– Против болтунов?
– Та-ак, – расплылся в улыбке Юбин. – А почему?
– Потому что у них широкая поддержка населения?
– Во-от! А я еще тя дурой называл! Голова ты, Левка! Именно что широкая поддержка. Любит, значит, наш народ родную речь. А теперь поразмысли-ка, что такое эта самая родная речь?
– Язык?
– Именно что Язык. Стало быть, против народа логопеды воюют. Против Языка. А Он совсем не такой, как в книжках. Он другой, Левка. Он стра-ашный!
– Да бросьте вы, Фрол Иваныч. Сказки все это.
– Это не сказки, Лева. Ой, не сказки! Я сам его видел однажды. Хочешь, расскажу?
Но тут его перебили.
– Эй, челаэк! – послышалось из соседней комнаты, где уже шумело какое-то застолье.
Заблукаев встряхнулся, перекинул через руку салфетку, побежал на зов. В углу расположился какой-то военный.
– Чего изволите?
– Принеси-ка мне, дружок, закусочек, грибков там, водочки, известное дело, да бараний зоб с кашей.
– Эйн секунд!
И Заблукаев привычно побежал услужать. Про Юбина и его разговоры он тут же забыл, зато перенесенная обида не проходила. И вдруг к вечеру, когда чад трактирный сгустился до невозможности, а от пьяных воплей ломило уши, Заблукаев вспомнил, о чем собирался рассказать ему старик. Бросился он в кандидатское отделение. Юбин уже мирно спал за печкой.
– Фрол Иванович! Фрол Иванович! – принялся тормошить его Заблукаев.
– А? Кому? – очнулся Юбин. От него уже ощутимо пахло. – Ты чего, Левка? – узнал он Заблукаева.
– Вы рассказать мне хотели про Язык!
– Чего? Какой праязык? Не было никогда никакого праязыка, это все логопеды врут.
– Да нет, о Языке, о Языке вы хотели рассказать!
– Спи, Левка! Спи, скаженная голова! Утро вечера мудренее.
– Фрол Иванович!
– Уймись, нуда! Дай отдохнуть рабочему человеку.
И Заблукаев ушел от него ни с чем. Лежа без сна в своей крохотной комнатке, которую он снимал неподалеку от трактира, он думал о словах Юбина. Как же это получается? Значит, любить родную речь плохо? А в старых книжках разве не родная речь? Неужели скоро по его душу придет Язык? Он вспомнил, что рассказывали ему про последние слова отца, и ему стало страшно. В ночи думать об этом было еще страшнее. Он постарался отвлечься, но слова отца не шли у него из головы. Вдруг ему показалось, что кто-то смотрит на него через оконное стекло. Заблукаев вскочил на ноги и быстро задернул занавеску. Нет, не может всего этого быть. Юбин себе все мозги пропил. Но откуда тогда все эти истории? Такое невозможно придумать. Ему вспомнился рассказ о Пискунове. Грамотный инженер, прекрасный специалист, большая, судя по всему, умница. Пришел на завод и тут же объявил, что всех, кто говорит правильно, ждет прибавка к жалованью. Рабочие возмутились – говорящих правильно на заводе были единицы. Последовали одна за другой три стачки, во время которых производство полностью останавливалось. Однако Пискунов был непреклонен – он любил родную речь.
Но только стали замечать, что приходит на работу он бледный, с кругами под глазами. Кто-то подслушал под дверью разговор Пискунова с директором – и выяснилось, что по ночам Пискунова терроризирует Язык. Страшные глаза заглядывают по ночам в квартиру Пискунова. Бьются в окно, каркают какие-то странные птицы. Его стали одолевать кошмары – будто его рвут в клочки жуткие псы, из темноты прилетают черные слова-слепни и вонзаются в уши. Кончилось тем, что однажды нашли Пискунова в петле. Рядом лежала записка: «Я никогда не буду на тебе говорить. Желаю тебе поскорее отправиться к хеттскому». Все книги в квартире Пискунова были словно изгрызены бешеными собаками.
Нет, не мог быть жестокий деспот из многих рассказов Юбина Языком, на котором говорят все, на котором говорит тетя Валя, продавщица из соседнего овощного ларька. И, засыпая, Заблукаев твердо решил назавтра переговорить со стариком.
В трактире Заблукаев сразу почувствовал, что случилось что-то нехорошее. Половые его сторонились, никто не поздоровался. Из-за стойки манил его пальцем Диколаев. Лицо его было еще мрачнее, чем обычно. Заблукаев приблизился к нему, и у него вдруг начали слезиться глаза, потому что Диколаев смотрел прямо в них. Внутри у Заблукаева, непонятно в каком месте, возник легкий зуд, и он понял, что от страшного диколаевского взгляда чесотка распространилась на его душу.
– Ты что же это, – произнес Диколаев и замолчал.
Заблукаев стоял перед ним и не знал, что сказать. Так прошло несколько минут, после чего Диколаев покачал головой.