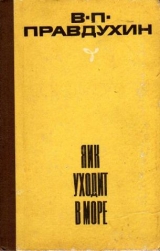
Текст книги "Яик уходит в море"
Автор книги: Валериан Правдухин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Казаков вечером увезли в станицу. На этот раз их сопровождал сам Виктор Пантелеевич.
Василист прожил в ауле четверо суток. Услыхав, что в поселке грабят несогласников, делят их имущество, и что Никита ушел из дому, обобрав все дочиста, он, однако, не утерпел, пошел рано утром в поселок.
На траве лежала роса. Она свежо и чисто поблескивала, и казак, глядя на нее, вспомнил счастливое, ясное свое детство, сенокосы, рыбалки. Томительно посасывало под ложечкой. Красные яры на реке, зной, пустота, все, как всегда, – и все это так непохоже на обычное. Даже на сонном Ерике, речушке, бегущей на задах форпоста, чувствовалась тревога. Ребятишки озирались вокруг, словно волчата. Одни кулички-песочники чувикали покойно.
Казак воровски пробрался задами домой. Дом Алаторцевых выглядел пустынно. Кара-Никита угнал скот, увез кованные сундуки, очистил кладовую. Ему удалось легко это сделать: в доме не осталось мужчин. Исчезли невода, сети, будары. Даже ребячьи переметы не постыдился забрать с собою родной дядя. Во дворе не видно было ни телег, ни тарантаса. Лишь в дальнем углу валялась опрокинутая старая, без колес, рыдванка. Она походила на скелет верблюда, наполовину сгнивший.
Оказалось, что Никита уже успел купить с торгов за бесценок опустевший дом одинокого Бонифатия Ярахты и хозяйски расположился в нем. Никто, кроме его жены, не пошел за ним. Даже Асан-Галей, батрак Алаторцевых, не пожелал перебраться к нему. Больше того. Он долго плевался вслед Никите:
– Уй, арам кара ит! (У поганая, черная собака!) Сейчас Асан, шаркая ногами, сонно двигался по затихшему двору. Останавливался, подолгу глядел на небо, словно прислушивался к особым, неземным, ему одному слышным голосам. Горестно схватился за голову, не найдя на обычном месте железных вил. Засиял, увидав Василиста, Крепко сжал его руку обеими своими и скорбно закивал головою:
– Ой баяй! Ой баяй! Усе Никитка тащил. Усе! Жяман!..
Асан старался поймать своими бесцветными глазами взгляд Василиста. Видно было, что он тщился сказать что-то очень значительное, чего никак не выговоришь словами. Василист не в силах ему был ответить ни одним звуком. Стыдно было сознаться, но слезы застревали у него в горле и мешали говорить. Василист только судорожно пожал Асану сухую руку, и тот сразу понял, что его сочувствие принято, – заулыбался и радостно затряс головою.
Казаку стало неловко перед самим собою. Он боялся разрыдаться. И было от чего. Родной дядя грабил свое семейство, а киргиз, нехристь, батрак, – жалел, сочувствовал, плакал над чужим горем...
Василист переступил порог дома. Настины синеватые глаза смотрели ему навстречу серьезно и тяжело.
– Ну, как?
Сестра резко повернулась к печке и вдруг зарыдала – горько и захлебисто. Плакала и рассказывала, как Никита грабил дом, как Клементий ловил отца и дядю. Про свое нечаянное предательство смолчала, но вспомнив о нем, зарыдала еще громче.
Перед Василистом сразу раскрылась картина грабежа. Зорили всех арестованных. Лошадей, овец, верблюдов и даже коров и птицу продавали с молотка. Без всяких торгов тащили телеги, снасти, ружья, трясли сундуки с одеждой. Вот где развернулась широкая казачья натура!
Самыми цепкими хищниками оказались Вязниковцевы, Вязовы и Ноготковы. Они бросились в степи и захватили стада несогласных. Они нападали на жертву открыто, как бьет ее узорнокрылый беркут – прямо в лоб. В схватке возле овечьих кошар был убит малолеток Василий Астраханкин. Киргизы-пастухи не выдали убийцу. Они сами были избиты до полусмерти и боялись дальнейших расправ.
Гагушины, отец и сын, и Щелоков Василий сами не участвовали в грабежах. Они приняли скот из других рук, погнали его на Бухарскую сторону и там перепродали богатым киргизам. Они заметали лисьим хвостом следы чужих преступлений, зализывали кровь на трупах. Яшенька-Тоска и Пимаша-Тушканчик держались наособицу. Ни разу не зашли на чужой двор, не коснулись добра соседей. А у себя дома – скупали у баб и ребят за бесценок одежду, кур, гусей, рыболовные снасти. Казачата с остервенением рвали головы курам несогласных, очищали их погреба, доставали из ям сваленную на солку воблу. У Яшеньки и Пимаши за эти дни в чуланах и амбарах скопились груды всякого добра. Часть его даже попортилась: птица тухла, рыба сохла и горела... Эти два казака были похожи на жалобно ноющих чаек-рыболовов среди стай черных и хищных бакланов – Вязниковцевых, Ноготковых и Вязовых.
Вечером Василист услышал выстрелы и осторожно прокрался на задний двор. Через три двора жена Андриана Астраханкина Фомочка-Казачок и его сестра Дарья Гвардейка, девка высокого, не женского роста, защищали от грабежа свое имущество. Они забрались с охотничьими ружьями на баз и не впускали никого к себе на двор. Они осыпали дробью плетень, когда по нему начали взбираться Вязов Игнатий и Гагушин Мирон. Группа казаков с любопытством смотрела с улицы на осажденный двор. Баб ругали и в то же время ими невольно восхищались. Многие посмеивались над отступавшими от плетня вояками.
Инька-Немец крикнул из толпы:
– Теперь свинец у вас на заду вырастет и весу внизу прибавится!
Казачки отбили первый натиск. Грабители ходили вокруг, злобно поглядывали на стволы ружей, торчавшие с поветей. Хотели было поджечь плетень, но их остановили: опасались, как бы не запылали соседние дворы. Ребята скакали вокруг, галдели и веселились. Им казалось, что взрослые играют в войну понарошку.
В сумерках Гагушин, Вязов и с ними Ноготков Василий прокрались в сарай и стащили баб за ноги сквозь дырявую крышу.
Визгу было на весь поселок. Дарья успела сильно поцарапать лицо паршивому Тас-Мирону. Фомочка укусила руку Игнатию. Казачек связали и принялись за дележ их имущества. Даже с ребят Астраханкиных стащили одежонку получше.
Ночью на берегу Ерика задымились костры. Подростки – к ним скоро присоединились и бородатые казаки – гуляли. Варили даровое мясо, вспоминали давние дни, когда жило казачье племя казакованьем – грабежами караванов и азиатских аулов. Казаки знали, что им сейчас не грозит никакая кара. Поручик Виктор Пантелеевич разрешил грабеж именем самого царя.
Было куда хорошо в этот вечер. Костры горели на лугах весело, как при встрече "хивинцев". Пылала багровая предосенняя заря над степями. Казаки пели песни. Василисту да, возможно, еще десятку казаков из несогласников эти песни казались неуместно дикими, но остальным они нравились. Песни будоражили кровь, напоминали старину, разливались по вечернему, тихому мраку разгульно и удало.
А бывало мы, казаки-братцы,
По твоим волнам лихо плавали.
На легких стругах за добычею,
За персидскою, за хивинскою.
Сквозь плетень с горечью на сердце Василист увидал, как вышла на яр с подружками Лизанька и начала пересмеиваться с молодыми казаками. Угощалась из общих котлов. Плясала на полянке у большого осокоря.
С Лизанькой он встретился лишь на другой день на Ерике – совсем нечаянно. Вышел к реке камышами, когда девушка черпала с мостков воду. Она и сейчас была одета по-праздничному, даже на лбу у нее репейками поблескивала голубая поднизка, отчего ее серые глаза стали синеватыми, как озеро вечером. Она не видела казака и мурлыкала себе под нос песенку про мельника. Василист смутился, но все же сквозь горечь пошутил с ней:
– Ты чего это воду берешь безданно-беспошлинно?
Он замер, ожидая ее ответа. Если бы она ласково пошутила, отозвалась, подошла к нему, если бы она хоть чуточку погрустила с ним, посочувствовала его горю, как это хорошо иногда умеют делать женщины, – о, он бы вдесятеро больше полюбил бы ее!
Но она сухо сказала:
– Нехорошо будет, если папанька увидит нас. Иди. О чем нам теперь беседовать?
Последние слова вырвались у нее грубо, не по-девичьи. А все потому, что он сделался нищим. И еще потому, что отец его – арестант.
Сдерживая злобу, Василист попытался еще раз окликнуть ее, как прежде:
– Лизанька!
Девушка повернула голову, и сердце у казака дрогнуло от радости. Но Лизанька посмотрела на него совсем пустым взглядом, безразлично и немо. И вот тогда что-то оборвалось у него в груди, и он понял, что теперь кончено. Он резко повернулся и пошел в гору к поселку. Он только что глядел на ее ноги в одних чувяках, – так хорошо знакомые ноги с милыми коленями под пестрым ситчиком, на ее черную голову с длинными косами, и теперь уходил от них навсегда. Они уже больше никогда не взволнуют его, как в тот весенний день, когда Лизанька мазала избу... Правда, Василист все еще ждал с остановившимся сердцем, что девушка окликнет его лукаво и серьезно:
– Василек!
Ведь они ссорились и раньше. Они иногда не разговаривали друг с другом неделями...
Василист поднялся на взлобок. Сейчас он уйдет совсем. Лизанька молчала. Эх, взять бы ее на прощанье за черные, толстые косы, намотать бы их крепче на руку, с силой ударить милым лицом о землю! Изругать бы ее самыми скверными словами, какие только есть на свете. Плюнуть бы в ее серые, наивные и наглые глаза. Рассказать бы, как любил он ее и как теперь ненавидит.
Он вдруг представил Лизаньку с другим казаком такой же нежно ослабевшей и покорной, какой она бывала в его руках, – и содрогнулся. Это было невыносимо. Хуже всякой боли. Все ребята поселка, о которых он мог сейчас вспомнить, стали ему ненавистны. К кому она переметнется? Ну и пусть! Пусть идет она своей дорогой! Пусть разыщет человека лучше его!
Василист никогда больше не вернется к ней. Кончено.
10
Василист поманил Настю в баз. Покопавшись в глубине пиджачной полы, протянул старинный пистолет с кривой ложей:
– Надо упрятать надежней.
Настя с удивлением смотрела на странное оружие. Хотела спросить, как из него стреляют, но вдруг взволновалась, вытянулась на носках и длинно посмотрела на брата. Ощупала пальцами разлапистый, резной курок. Ей стало понятно, как его надо взводить для выстрела. На бахчах она не раз стреляла из ружья по воронам. Она страшно обрадовалась и, озоруя, уставилась узким глазом в черное с раструбом дуло.
– Но, но, не балуй! На нем пистон вздет. Поосторожней. Тряпками его, что ли, оберни. И в сухое место, гляди.
Пистолет Настя запрятала в истертую, засаленную перину, валявшуюся в чулане без употребления. Ею даже Никита побрезговал, не взял с собою.
Желтые пятна дней мелькали, словно во сне. Осень подходила к концу. В поселке было тихо, как в покинутом ауле. Тишина эта казалась страшной не только тем семьям, которые были ограблены и у которых в доме не стало мужчин. Нет, эта особая тишина не нравилась и новым, неожиданным богачам – Вязниковцевым, Вязовым, Гагушиным, Ноготковым. Молодежь совсем не гуляла по ночам на улице, не пела песен, не воровала по погребам каймака и сливок. Молчала гармонь. Никогда еще не было так уныло и скучно осенью в поселке Соколином.
Плавня была удачной, заливистой. Казаки вернулись из Гурьева с обновками, с гостинцами. Но никто не захотел в этот год затевать свадеб: все женихи готовились прежде побывать на военной службе. Даже богачи не могли теперь от нее откупиться.
Настя похудела, вытянулась за последний месяц еще больше. В свои восемнадцать лет она была долговязой.
Подруги называли ее журавушкой. Синеватые глаза ее уже не смеялись, только горели еще сильнее, чем раньше. Без нужды она совсем перестала выходить на люди. Изредка копалась на огороде или спускалась к Ерику за водою. Но каждый вечер она непременно присаживалась с подсолнухами у окна и, поплевывая, неотрывно глядела вдоль улицы. Всякий раз, только Клементий проезжал на дрогах с большой бочкой мимо их двора на Ерик, Настю вдруг охватывало радостное возбуждение. Девушка вскакивала, вытягивалась на носках и, зажав голову руками, раскачивалась, словно ласкала самое себя. Внутри у нее все ликовало, разрывалось на части. Она бежала на задний двор и, растеребив еще зеленоватые ветки нового плетня, надолго припадала к щели. На Ерике всегда бывало много народу, убирали огороды, возили воду, поили скот, – Клементий не бывал один, и Настя, взволнованная, притихшая, шла домой, кусая до крови смугловатые, алые свои губы...
Сегодня с утра небо заволокло тучами. В полдень, начал стремительно падать крупный, не осенний дождь. Он летел с огромной, невидимой высоты и ударял с силой по земле, по лужам, по стеклам окон. Улицы и поля опустели... Дома у Алаторцевых было тихо. Василист с вечера уехал в Лебяжий поселок. Мать возилась с тряпьем. Луша, высунув язык, шила с серьезным видом куклам платье. Насте с утра было не по себе. Она не могла усидеть на одном месте. Ожесточенно мыла во всех горницах пол. Пошла убрать даже наверху, хотя там было мертво, – комнаты стояли пустые, будто ожидая кого-то... Так недавно еще здесь царило оживление. И теперь еще все стены были увешаны фотографическими карточками. На Настю отовсюду как-то по-особому глядели казаки в полной военной форме с обнаженными саблями, с выставленными вперед пиками. Некоторые из них скакали на конях, причем ясно было видно, что кони и мундиры были одни и те же, заранее заготовленные фотографом. Он менял лишь масть лошадей, а затем вклеивал лица заказчиков. Тут были Ефим и Маркел Алаторцевы, был и Ивей Маркович. Смешно было глядеть на лицо Ивея, вспоминать, какой он на самом деле маленький, а тут видеть его, подставного, великаном на огромном сивом жеребце. Мчался на коне и покойный дед Евстигней, еще не старый тогда казак. Про него и теперь на поселке рассказывали, что он на скаку рубил шашкой подброшенное яблоко и попадал пулей в глаз бегущему сайгаку...
Алаторцевых легко было узнать по большим соминым губам, по особо размашистым ноздрям, узким и длинным глазам. Здесь же на стенах важно расселись по креслам пышные казачки в сарафанах и возле них мужчин с непомерно закинутыми назад головами. Почти весь Соколиный поселок... А вот и он, Клементий. Настя совсем забыла об этой карточке. Какое веселое, открытое у Клементия лицо. Кудрявые волосы видно напомажены. "Песик шершавенький"... Настя вспыхнула и порозовела. Ненависть пронизала ее всю насквозь. Эх!.. Она застонала и охватила руками голову. Рывком сдернула со стены овечьи, широкие ножницы и ткнула в лицо Клементию. Вырвала карточку из рамы и бросила в печь, где с треском разгоралась и дымила чилига. Посмотрела, как закоробилась на огне карточка, упала на кровать вниз лицом и неслышно зарыдала. На улице заорал пьяный парень:
– Ты не думай, что я плачу,
Пара сизых голубей...
Алаторцевы жили чуть не на самом яру речки. Дорога на Ерик огибала их дом и крутым переулком спускалась вниз.
Настя просидела весь день наверху. Смотрела в окна. Над степью, очень далеко, бежали лохматые тучи. Много. Закрыли весь запад. Проплывали по взбаламученному морю испуганные великаны. Оглядывали с высоты с изумлением большой осенний мир. Он был сер, неприютен. Уйти бы к солнцу, к зеленым травам, не видеть бы этих унылых сумерек и узкого света! Насте казалось, что теперь всегда будет так, как сегодня... Улицы были пусты. Изредка, тарахтя дрогами, проезжали малолетки на Ерик. Все спешили съездить по воду засветло, чтобы не шлепать в темноте по грязи. Сломалось колесо у Елизара Лытонина, и он долго, ища помощи, оглядывался вокруг одним своим глазом и клял судьбу:
– У, пропадина! Вот безляд окаящий... И все на мою башку!
Всякий раз, увидав бочку и дроги, Настя пугалась: "Не он ли?" Облегченно вздыхала, когда узнавала, кто это ехал. Шептала, оглядываясь на передний угол:
– Не теперь бы... Пущай не ездит. Пусть подождет, милый...
Перед вечером, скрипя деревянной лестницей, наверх поднялась мать. Недовольно оглядела Настю:
– Добегла бы за водой. Еще не совсем мутно на дворе. А по грязи кака сласть? Ухлюпаешься, как заднее колесо.
– Успею, мамынька. Не охота мне встречаться-то с кем ни было.
– Ну, ну, гляди, – одобрила Анна. Походила по комнате. Приостановилась у карточки, на которой она, невестой, стояла с Ефимом под руку. Была она тогда в белом сарафане, убрана цветами, с позолоченной, пятирублевой свечой в руках. У Анны вдруг зарделись уши. Она вспомнила, что уже в тот момент была беременна: до свадьбы понесла своего первенца Василиста. Ей стало стыдно и хорошо. Подумала:
"Чего же это Настя грустит? Уж нет ли чего?"
Поглядела на тонкую и высокую, как талинка, дочь, на чистое ее, девичье лицо, незаметно и быстро осмотрела открытые икры ее ног: не выступают ли там синеватые прожилки – признак беременности. Успокоилась и снова сошла вниз.
Двигались сумерки на поселок. Настя торопила ночь и волновалась все больше и больше. Она спускалась по крутой лестнице, и ей казалось, что с каждым шагом она приближается к пропасти и ей уже не остановиться.
Пришла соседка Маричка за спичками. Настя дрожащей рукой протянула ей коробок. Ей показалось, что Маричка зашла нарочно и что смотрит она как-то по-особому.
Перед закатом солнце все же прорвалось на минуту к земле и разбросало по степи свои желтые и оранжевые лучи. Но через полчаса день быстро уснул, свернулся, как еж, и улегся за степями, спрятав золотые, солнечные колючки. Вдруг похолодало. Неожиданно начал падать сверху из темноты белый, ласковый снежок. Как жалко было Насте, что он падал в грязную жижу и тут же пропадал. Ей хотелось подставить свой подол и, как делала это она девчонкой, собирать светлое, холодное серебро и слизывать его языком... Тонкая Луша неслышно скользнула с печки и прилипла к окну лбом:
– Скоро на ледянках будем с горы... Хорошо как! Настя подхватила сестренку под локти, подкинула ее к потолку:
– Хорошо, говоришь? Чтоб душа кувырком – ух!
– Няня, пусти!
Настя снова подбросила девочку и поймала ее на лету. Увидала у ней на шее желтый крестик на шнурке. Вспомнила о Боге. Ей сделалось еще веселее. Она не испугалась, а захотела надерзить ему. Оглянулась на иконы. Лампада освещала квадратную белую бороду Николая-угодника. Настя показала святому из-за плеча Луши язык:
– Ну, чего зенки пялишь? – проговорила она про себя, и ей показалось, что слова прозвучали громко, на всю избу. В ушах у Насти шумело, будто бежала река на перекате по песку.
– Нельзя, баешь, Миколка? А я вот жалаю и шабаш?
Настя едва не уронила сестренку. Руки ее мертво повисли. Она увидала через окно, как из-за угла, мотая головой и разбрасывая копытами грязь, вышла высокая, худая сивая лошадь. За ее хвостом, понуро сгорбившись, сидел человек в картузе. Позади глухо чернела пузатая бочка, обмотанная веревкой... Настя схватилась за грудь: "Он или не он?" Картуз – похоже его. Девка вдруг радостно вскрикнула: человек так по-знакомому, по-родному вскинул голову, подернув шеей. Ну да, это он. Это – его кивок. Настя всегда смеялась над ним:
– Чего это ты, Лема, носом воздух клюешь, будто сеть вяжешь. Аль комар укусил?
Настю охватил восторг и ужас. Она хотела смеяться, плакать, хотела упасть на колени перед иконой и благодарить Бога, а за что? Она и сама хорошо не знала. Прыгнуть бы выше головы, спрятаться от самое себя, – все вместе!
Она заторопилась, натянула прямо на босые ноги сапоги Василиста, на плечи набросила его старый клетчатый пиджачишко. Подхватила голубые ведра, коромысло под руку. В сенях задержалась. Прошмыгнула в чулан. Дрожащей рукой нашарила в перине завернутый в тряпки пистолет, развернула его, сняла из-под курка кусочек войлока, пощупала, остался ли на втулке рябой пистон. Потом сунула пистолет через разорванный карман на дно полы и стерла с лица рукавом пот.
– Няня, я пойду с тобой...
Настя испуганно, коротко вскрикнула. Луша стояла в дверях и натягивала на руки свое пальтишко.
– Тебя чего вынесло? – рассердилась Настя. – Иди в горницу. Ах, ты... Я думала, не знай кто. Фу, сердце-то как зашлось. Иди в дом. Нечего тебе по грязи-то...
Луша печально притворила дверь.
Настя выскочила на крыльцо. Сапоги простучали по дереву слишком громко: словно живые и гремят нарочно. Прислушалась. Кругом было покойно и тихо. В базу за плетнем посапывала знакомо корова. Как быстро темнеет осенью. Даже на своем дворе ничего не узнать. Что это – столб или человек там в углу за опрокинутой рыдванкой?
Над Ериком ползла луна, от медленно падающего густого снега похожая на рябую девку. "Вылитая Хинка Вязова", – подумала Настя. Луна то выходила из-за туч, то снова пропадала. Дул легкий ветерок, и серые, дымчатые тучи бежали быстро. Насте все казалось сейчас особенным и странным. Все топорщилось и тянулось: труба на кухне, кровли сараев, ветла на огороде. Ничто не стояло на месте: все бежало, летело, уплывало. Плетни были похожи на черную стаю насторожившихся волков. Все бежало за Настей, и она то и дело останавливалась, чтобы прислушаться, нет ли за ней действительно погони. Она уже на яру! Ага, здесь тише, покойнее. Ерик лежал внизу мертво, как всегда – узкий от камышей, темно-голубой посредине и свинцовый у закроек. Настя не пошла дорогой. Она кинулась наискось огородами. В ногах путалась поваленная ботва, и попадались клубни картофеля, черные комья грязи. Это рыла на днях сама же Настя. Девушка споткнулась о капустную лунку и подумала: "А пять кочанов я оставила и забыла о них совсем. Вот беда-то!"
Она снова остановилась и прислушалась. Тишина. Лишь там вверху в тучах пискнул жалко чирок. Настя бежала дальше. Кое-где на взлобках уже белел снежок. Она обходила его, чтобы не оставлять следа. Выскочила обочь дороги к мосткам. Замирая, взглянула вниз. У берега мертво и странно стояло пол-лошади, задняя ее часть была закрыта камышом. На мостках копошился человек. Один... Чернела отдельно от лошади одинокая, пузатая бочка. Внизу послышался глухой стук ведра.
"Надо скоро!"
Настя сама удивилась, как она не поскользнулась и не упала, – так отчаянно скакала она по грязи глинистого, крутого яра. Снег пошел гуще: в реку оседала белая, огромная, живая сеть. Девка увидала, вплотную перед собою Клементия и поздоровалась очень спокойно:
– Здравствуйте, Клементий Стахеич!
Казак изумился, тряхнул кудрями (картуз он держал в руке).
– У-у! Настенька? Здорово, если не шутишь. Отчего так поздно?
– Очередь моя! – бойко ответила девка и подумала в ознобе радостного страха: "А теперь – твоя! Твоя, песик шершавенький, очередь!"
Клементий помедлил, – он стоял на мостках, – потом взмахнул черпаком на длинной, сосновой палке, поднял его и опрокинул в бочку. Вода с шумом пролилась на пустое дно.
– Ты гневаешься на меня? И чего ты взбеленилась? А? Предадим-ка все забвению, Настенька...
Клементий выговаривал ее имя по-прежнему: нежно и вкрадчиво.
Настя вдруг увидала и ощутила всем телом его улыбку, широкую его походку – лучше всех в поселке, голубой взгляд круглых, больших глаз, русые кудри и рассердилась на свою слабость:
– Ладно, ладно, бери воду и кати отсюдова. Не рассусоливай! Некогда.
– Настенька, ведемка ты моя кудлатая! Зря артачишься. Мучаешь и себя и меня. Рази кто виной кому? Каждый сам за себя пожалал того и другого...
Клементий говорил это с жаром, трудно произнося слова: он стоял на коленях, черпая воду.
Девка подумала: "А ты чего захотел?... В спину негоже будет..." – Она нащупала в пиджаке пистолет и вытянула его из полы в карман. Клементий повернулся к ней лицом, улыбаясь, блестя белыми, будто снег, зубами, редко начал:
– А знаешь, Настенька, я во как, крепче прежнего...
Настя успела подумать: "Жалей, не жалей!" и нажала спуск. Она стреляла, стоя прямо грудью к парню и не сделала упора ногами. От толчка откачнулась назад и села на мокрую землю. Она не услышала выстрела. Ее удивила яркая вспышка огня, осветившая на секунду лицо казака, блестящие от сырости мостки, пятно зеленого Ерика. Она заметила широко раскрытый рот Клементия, изумленные его глаза, малиновый околыш. Клементий падал назад. Черпак и рука откинулись далеко в сторону. Другая рука упала и, подогнувшись, ткнулась в грудь. Лошадь фыркнула, взметнула головой, захрипела и остановилась... Тихо. Насте вдруг стало холодно. Она все еще сидела на земле.
"Абы не оживел..."
На поселке не вовремя просипел одинокий петух-первогодок. Настя никогда еще не видала такого большого, пустынного неба. Белесое, мертвое море над землею, над реками, над поселком, огородами, над засохшим, большим осокорем на той стороне... Ничего живого. Снег не падал. Девка схватила ведра за края, прижав ручки, чтобы они не звенели и бросилась вверх. И тут же с ужасом подумала: "Коромысло-то?"
Вернулась. Долго, как ей показалось, не могла найти коромысло. Шарила руками по грязи. Наконец, наткнулась на него у края мостков. Увидела лежавшего навзничь Клементия, увидела, как по воде плывет черпак, и ведро странно вертится на воде. "Почему оно не тонет?" Испуганно метнулась снова на яр. Тряслась, как в лихорадке. Снег опять повалил и сильнее прежнего. Луна прорвалась на миг сквозь тучи и осветила поселок, деревья, реку странным мерцающим голубоватым светом. Осветила пушинки снега. Выли волки на Бухарской стороне. Настя их не слышала. Голова ее горела огнем. Огородами выскочила она на свой двор. В кармане бил о бедро тяжелый пистолет.
"А как же домой без воды?"
Прошмыгнула на двор к соседям – Ивею Марковичу и Маричке. Нашла в темноте бочку. Осторожно зачерпнула ведрами и, подняв их на коромысло, пошла твердой и ровной походкой обратно.
Вдруг позади на дворе под плетнями послышался легкий шорох. Настя обмерла. За ней кралась тонкая тень.
– Кто это?
– Я это, нянь...
Луша, бледная, трясущаяся, подошла к сестре и, ткнувшись ей в передник, тихо и горько заплакала.
– Ты что? С ума спятила? Кто услышит... Девочка тряслась в руках у сестры и шептала:
– Страшно-то как! Мамынька моя... Упал-то онкак...
– Молчи! Молчи! Молчи, тебе говорю! Никому, никому...
Настя затащила Лушу в сени. Утерла полой пиджака ей лицо. Мать была в другой комнате. Настя подошла к окну. И вдруг охнула – по улице, грязью, без дороги, ступала высокая, худая сивая лошадь. За ней тащилась черная бочка. Вожжи были привязаны за передок. Человека на дрогах не было...
11
Листья исчезли с деревьев. Вернулись в землю. Вода на реке стала свинцово-темной, холодной. Зима подошла вплотную. Она повисла над поселком белыми и черными тучами, бежавшими по небу вперемешку, как разномастное стадо. Зима глядела с востока отсветами сизой далекой зари, блеснувшей утром на одну минуту. На земле становилось холодно, бесприютно, хотя снега еще не было.
Василист и Петр Астраханкин верхами гнали по полю десяток овец. Они купили их в долг у лебяженских староверов, тайно сочувствовавших несогласникам. Все овцы были черной, как сажа, масти. Настя вышла встретить брата к мельнице на сырт. Ей сказал о нем один из казаков, скакавших с осенней плавни в Сахарновскую станицу, Василист увидел сестру, скорбно улыбнулся ей, и крикнул:
-Ты проводи-ка их с Петром до кошары!
И поскакал домой. Оглянулся еще раз.
– Дуреха, покрой голову-то. Нехорошо!
Настя пошла впереди маленького стада. Овцы прозябли за дорогу, проголодались. Они жались к девушке вплотную, словно заблудившиеся дети, тонко и надрывно блеяли и хватали горячими губами Настю за руку. Ветер разметал по плечам длинные черные косы девушки. Она растерянно остановилась, растроганно глядя на толкущихся у ее ног животных. Они мешали ей двигаться, каждое из них непременно хотело коснуться ее горячей и сильной ноги. О, как хорошо понимала их Настя. Она сама с горечью и отрадой прильнула бы к ногам такого же могучего, большого существа, каким она была сейчас для этих бездомовых овец. Высокий Петр жался от ветра к спине лошади и что-то кричал девке, а что – никак нельзя было разобрать сквозь бурю и пыль. У него вдруг сорвало ветром картуз с головы. Малиновый околыш метнулся по воздуху и напомнил Насте последнюю ужасную встречу с Клементием на Ерике. Картуз понесло по земле, как перекати-поле. Парень гикнул и бешено помчался за ним. Скрылся за изволоком Верблюжьей лощины. Настя осталась одна посреди поля в черном кольце плачущих овец. Ее темные волосы были живыми на ветру, и ей как-то скорбно приятно было, что ее голова оставалась неприлично неприкрытой, а косы, как и ее душа, неприкаянными. "Эх, жалей, не жалей!" Низко над полем ползли черные, брюхатые тучи, и казалось, что вот-вот они коснутся трепаной головы девушки. Да, зима была близко.
Земля казалась обреченной. Скоро снег закроет травы, реки, улицы, степи белым покрывалом. Саваном упадет на людей...
По дороге скакали плавенщики. Они возвращались от Гурьева домой. Как всегда, они все были навеселе: кто с радости от большого улова, кто с горя, что мало наловил или совсем не обрыбился. По сырту тарахтели тагарка за тагаркой, тарантас за тарантасом. Цепью плыли будары на дрогах. Днища их еще не успели просохнуть. Казаки куражились и шумели еще больше, подъезжая к поселку: пусть все видят, как гуляют уральские казаки! Рыбаки улыбались Насте, кричали ей что-то веселое и задорное. Чаще всего остро, с перцем шутили над нею.
– Что ты, казачка, все покрыла, а голову забыла? Матри, лысый родится.
– Разуй ноги, обуй башку, не то дьявол тебя вверх тормашками поставит...
– Голову-то меньше ног бережешь!
Юный казак в офицерской шинели, русокудрый красавец, охнул, увидав Настю, окруженную овцами. Он привстал в тарантасе во весь свой немалый рост и крикнул, осадив лошадей:
– Здорово, русская красавица! Хоп, жар кельде! (Во, красотка явилась!) [Узбекское выражение]. Эй, кто вызовется сыскать еще такую? Садись, умчу... туда, в город!
Как ни смутно было на душе у Насти, а навсегда запомнила она эти слова, этот горячий, мужской выкрик, – не забыла бы, если бы даже прожила на земле еще сотню лет.
Несколько тагарок и тарантасов остановились возле девушки. Нарочно! Казаки пили на ходу водку, толковали о плавне, спорили о ярыгах и неводах, а сами косились на Настю. Ну и казачка!
– Как на последнем рубеже было? Что слышно под Гурьевым?
– Да как? Иной сердешный и на убытки не пумал, во как! Уходит от нас рыба-то! Нет ладов промеж себя, откуда же быть удаче! Ярыжники с неводчиками в кровь передрались.
– Ну, а сам-то как ты, Силантьич?
– Я тож не обрыбился: Богу не помолился, а с бабой горячо простился.
– А пьешь на каку казну?
– Да так, пустяшное: икряного осетрика пудиков на шесть прихватил да белужку на тридцать, да судачков сотенки три, – вот оно и набралось по малости. Ха-ха-ха!








