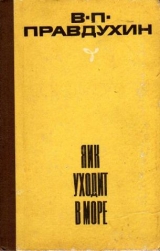
Текст книги "Яик уходит в море"
Автор книги: Валериан Правдухин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Сейчас Кабаев говорил явно не своими словами. Их издавна знали в поселке все старики. Но так уже полагалось – начинать с них. Впрочем, не все слова начетчика были мертвыми. В них была и живая подоплека. Бороды казакам скребли и в Россию гоняли не раз. Гоняли и дальше...
Забились в припадке присяжные кликуши.
Ульяна Калашникова пала на колени и поползла к Кабаеву:
– Лучше пострадайте мученическою смертью, а не губите, утробные, своих душенек!
Ульяна порозовела от натуги. Глаза ее живо блестели. Она напомнила Петру Семеновичу былые годы, когда оба они были моложе. Кабаеву очень хотелось глядеть на нее сейчас, – хотя бы глазами приласкаться к ней. Но он отвернулся и посмотрел на Бога. Темный лик старинной иконы был далек от человеческой суеты. На казаков слова кликуши, вложившей в них остатки своей неистраченной женской страсти, подействовали сильно. Душа – это много. Это все. Душу свою уральцы готовы беречь пуще глаза.
Станичники заворошились.
– Реветь до времени неча, – ласково повернулся начетчик к Ульяне. – Надо исход искать, как антихристовы прелести избыть.
Желтые глаза его построжали. И тут казаки услыхали от него настоящие живые слова, простые и страшные, как ночь, как смерть. Ветер дул с севера, из каменного и туманного Петербурга. В одну минуту прохватил он всех холодной изморозью до костей. Кабаев читал и толковал казакам новое военное и хозяйственное положение. Все казаки, как простые солдаты, должны теперь идти на военную службу.
Петербург вводил для казачества всеобщую воинскую повинность. Все казаки, без исключения, должны были теперь служить на действительной. Раньше у уральцев на службу шли прежде всего добровольцы. Им за это платили из так называемого "нетчикового капитала", собираемого со всех неслужилых казаков. Если добровольцев не хватало, – производили жеребьевку, но и тут богач мог нанять за себя бедняка. Таким образом, казаки кичились тем, что у них служба была как бы добровольная, и тем еще, что за число и обмундирование Войска они отвечали всем миром.
А что же отпугивало казаков в новом положении о хозяйственном управлении краем? Ведь казалось бы, что им даны права некоторого самоуправления: слать своих станичных депутатов в Уральск для обсуждения областных дел. Но казаки помнили, что до этого каждое станичное общество могло само распоряжаться всеми угодьями в черте их юрта, – теперь все, даже поселковые дела будут вершиться в центре, а съезд станичных депутатов явится лишь совещательным учреждением при административном органе хозяйственного правления и самого наказного Атамана. Сбоку припеку!
Вот почему казаки исстари опасались всяких новшеств. Они не верили в добрые намерения властей. Они понимали и сейчас, что новые права по существу прикрывают последний грабеж их старинных вольностей. Санкт-Петербург постепенно – хитро и осторожно – прибирал казаков к своим рукам.
Газета "Уральские войсковые ведомости" рассказывала об этом непререкаемо. Все знали: напечатано в ней, так и будет. В ней приказы царя, распоряжения наказного Атамана.
Большой лист взмахнул желтыми совиными крыльями над толпою.
– Так-то, старики. Конец приходит нашей вольности. Мужиков поселят у нас, земли наши поделят.
Ивей Маркович выскочил вперед, как ошпаренный, рванул "Георгия" на груди:
– Землю не отдадим! На крови Яик зачался, на крови и кончится! – И тряс – часто, часто – рыжеватой бородой, притопывал пятками, словно собирался плясать!
Казаки зашумели. Они все думали сейчас о земле, о рыболовных уральских угодьях, о богатых лугах, о вольных степных просторах. Надо раз навсегда отвадить чужаков заглядываться на казачье добро.
А Кабаев, как сено вилами, будоражил их родовую гордость, пенил их задорливую спесь. Дрожащими руками он распахнул синий свой бешмет. Волосатая до черноты грудь, а вокруг – белой широкой полосой обернут бумажный свиток. Это была владенная – грамота царя Федора Иоанновича. Такие грамоты по всем поселкам рассылал казак Федор Васильевич Стягов из Кругло-Озерной станицы. Кабаев начал читать, и соколинцы услышали, что еще в 1591 году царь пожаловал казаков за поход на Кавказ против Шехмала, князя Тарковского, "Яиком с сущими в ней реки и притоки и со всеми угодьи от вершин до устья, чтобы на житье набираться вольными людьми".
– Сама грамота, – рассказывал Петр Семенович со сдержанной горячностью, – утеряна лет сто тому назад. Ее утащил во время пожара из Михайловского собора дьякон Дамрин. Он закопал ее в землю в чугунном сундуке. Сыну наказал передать ее лишь государю. Там она я лежит... А на владенной той – печать золотая, роспись самого царя. Закреплена она приложением рук четырех вселенских патриархов. Вот где наш закон, вот где наши права! Кому они лишни?
"Нос господень" – прозвище Кабаева в поселке – потянулся над казаками. Жадно внюхивался в ряды. Голос Петра Семеновича стал растроганно гнусавым я грудным.
– В городу истые наши казаки изготовили челобитную. И просят вас дать им заручную на ходатайство. Жалаете, атаманы-молодцы, доверить им защиту вольности и старинных прав наших?
Зашумели казаки. Лучше бы обойтись без заручной! Спины старых станичников не раз испытали на себе тяжесть споров с начальством. Разве впервые им приходится сшибаться лбами с Петербургом, как раньше с Москвою? Нет, знакомство их состоялось давно. Кровавыми рубежами взрыта вся их история, начиная с XVII столетия.
............................................................................................................
Давно начали сползаться на Яик, на Каспий, пробираясь через воровские перелазы Московии, новгородские ушкуйники, бежавшие от расправ Ивана Грозного. К ним позднее примкнули наиболее непокорливые из волжской вольницы. Бежали сюда от никоновских новшеств и дыбы кержаки с Беломорья, упрямые, "урядою брадатые" люди. Сосланные московские стрельцы, рабы и воры, безбожники и кулугуры – все, в ком еще оставалась сила драться за свою нищенскую свободу. Ища покоя и нераспашных земель, они основали недалеко от теперешней уральской столицы дольное Голубое городище. Эти ватаги взлохмаченных бродяг думали здесь, на брегах древнего Римна-Яика, на Медвежьих островах, в степной глухомани создать особый мир, свое отдельное, светлое и независимое государство. Они несли сюда исконный, русский дух, истую дониконовскую веру. Здесь они мечтали сохранить навеки древнюю Русь,
Но уже давно казаки несут жестокую кару за свое наивное упрямство. Москва всегда зорко наблюдала за Яиком. Многие из беглецов на себе испытали скорбную судьбу Степана Разина. Царь-антихрист, Петр Первый, покушался у них отнять "против души и совести" их отечество – бороду и крест. По его приказу полковник Захаров провел первую перепись казаков и повесил много непокорных выборных Атаманов.
– Держись, ребята, Москва глядит!
Казаков нещадно грабили старшины. Царь даровал своим чиновникам соляной и учужный откупы. Первые бунты вспыхивали всегда у рыбопошленных застав. Здесь таился корень всех бед и восстаний. Люди дрались, как птицы, как звери, возле добычи.
При Елизавете продолжались розыски и поимка строптивых раскольников.
В 1772 году вспыхнула уже открытая война между Москвою и Яиком. Потемкин решил вогнать казаков в ряды регулярного войска.
Под защитой хоругвей, икон и святых песнопений мятежники вырезали грудь своему атаману Тамбовцеву, чтобы вырвать сердце, предавшееся на сторону Москвы. Они расправились и с генералом Траубенбергом, приехавшим чинить следствие. На речке Утве казаки потерпели тогда жестокое поражение в открытом бою с генералом Фрейманом, и все – с детьми, женами и имуществом – кинулись за Чаган. Пошли искать новый край, сказочное Беловодье. Их возвращали силой. Сто тридцать человек было казнено. Многих секли кнутом и отправили в Сибирь. Было введено комендантское управление, должность Атамана – временно упразднена.
В те годы и объявился на Яике рябой Атаман Емельян Пугачев, Великий Осударь всея Руси, Петр Третий. Волю и вечное казачество нес он на своем гольштинском знамени.
Закачались тела офицеров и царских чиновников на перекладинах.
– Кровью мы приобрели Яик и нашу землю. Кровью и продадим!
Торг был упорный и длительный, пир широкий и буйный. Похмелье страшное. Ссылка в каторгу почиталась милостью. Секли до смерти кнутами. Драли ноздри. Сажали на колья. Четвертовали. Подымали крючьями за ребра. Жгли огнем. Кожей, кровью узнали тогда казаки суровую заповедь грядущих веков. Впервые услышали в Екатерининских приказах слова: "европейская цивилизация" и накрепко запомнили их даже у себя в станицах.
В самых глухих форпостах стала слышна железная поступь крепнущего государства. Оно, как море реки, вбирало и стягивало в себя окраинные, казачьи ручьи. Не стало реки Яика. Приказом от 15 генваря 1775 года царица повелела "для совершенного забвения нещастного происшествия сего на Яике" именовать реку Уралом. Общинная самостоятельность у казаков была отнята. Над городом поставили сермяжный, солдатский гарнизон. Уничтожили навсегда войсковой Круг, осколок Новгородского веча.
В начале XIX века вводятся на Урале "мундиры и штаты". Яик снова встает на дыбы. Жесточайшая расправа учинена была князем Волконским над казаками, знаменитый "Кочкин пир". Их пороли на снегу за городом. Они сбрасывали с себя одежду и голые валились на мерзлую землю:
– Хоть умереть на груди родной земли, в своем человечьем обличьи!
Казни, ссылки, шпицрутены вырывали из казачества его цвет и силу.
Миром окончательно завладел сатана. Казаков обряжают в казенные мундиры. Последнего выборного Атамана Назарова силой волокут в Оренбург к Александру Первому. Царь гостит там в это время. Этот ласковый слуга антихриста сбривает Назарову бороду.
Позднее, в 1825 году, когда декабристы безвольно гибли на Сенатской площади в Петербурге, казачество еще раз фанатически приносило себя в жертву, борясь в своей степи против "прелестей, пущенных Бонапартом по всему свету". Да, по-разному видели мир Кабаев и Пестель!
В 1837 году наследник Александр Второй приезжает в Уральск. Старики останавливают его коляску среди улицы и, пав на колени, бросают испуганному царскому сыну челобитную. В ней исчислены все их обиды, в ней мольба – вернуть казачеству старинные вольности. Казаки счастливы: наконец-то их горе узнает сам царь!
И снова кровь, снова длинной чередою идут сквозь строй дерзкие жалобщики. В виде особой милости царь дарует уральцам собственного военного губернатора. Он носит и прежнее наименование – наказного Атамана.
Казачество окончательно покорено государством. Но оно еще мечется в поисках спасения своей общины. В шестидесятых годах уральцы посылают казака Головинского поселка Варсонофия Барышникова с двумя подручными (среди них – соколинский поп Петр Кабаев) с наказом, во что бы то ни стало разыскать святую страну Беловодье, чтобы выселиться туда всем Войском. Делегатам вручают фантастический маршрут безумного инока Марка. Барышников и Кабаев ищут по свету легендарное Камбайское или Опоньское царство. Едут в Константинополь, в Малую Азию, посещают Малабарский берег и даже Ост-Индию. Но рая земного нигде нет. Казакам некуда податься.
И вот наступает последняя открытая схватка с Петербургом...
..........................................................................................................
– Так как же, старики? Жалате руку приложить? Жалате за Яик постоять?
Кабаев глядел перед собою сурово и скорбно. С полчаса стоял гвалт в молельной. Чего там только не было! Чего ни выкрикивали казаки! Чуть ли не походом собирались на Петербург!.. Но шуми, не шуми, а что будешь делать, если забрались в густую крапиву? Нельзя же в самом деле примириться с Положением. Казаки не хотят стать на одну линию с мужиками. И ведь не один поселок подымается защищать себя, а все Войско – от Илека до Гурьева.
Ивей Маркович, оба Алаторцевы, Ефим и Маркел, за ними Ахилла Чертопруд и Бонифатий Ярахта первыми подписали заручную, поставили кресты у своих имен, выведенных крупными буквами Кабаевым. За ними молча потянулись остальные казаки. И только двое отказались заверить бумагу: это были Родион Гагушин и Стахей Вязниковцев, отец Клементия и малолетка Григория, водившего в то время горячую дружбу с Василистом.
Казаки не верили глазам. Ну, Гагушин, это еще понятно – трус и оглядчик. А вот Стахей Никитич! Он ведь настоящий казак.
Но Стахей не пожелал объясняться. Он молча ушел из молельной. Вероятно, он сделал это от досады. Последние годы дела у него и на реке и в степи шли очень плохо. От злости на судьбу он, по-видимому, и отвернулся от своей поселковой команды – так называют казаки свой сельский мир.
Настя стояла позади всех, сбоку. Она все время переглядывалась с русым Клементием. "Клемка, Клемка, песик шершавенький", – шептала она, краснея и опуская глаза от слишком откровенного иной раз взгляда казака. Она почти не слушала, что говорил Кабаев, не понимала; что тут происходит. Но когда отец Клементия, а за ним и сам Клементий среди настороженной, особой тишины стали пробираться сквозь толпу, и все им брезгливо и зло уступали дорогу, и когда Клементий при этом ни разу не посмотрел на нее, – у ней больно защемило сердце. "Вот жалей, не жалей! – подумала она своей любимой поговоркой. – Как страшно-то!.."
Кабаев в конце собрания сказал:
– Со свадьбами придется пообождать. Теперь всех погонят на службу. Наемка отменена.
6
Атаман Веревкин лечился за границей. Замывал на водах раны, полученные в Хивинском походе. Челобитную об отмене нового Положения казаки вручили его заместителю, генералу Бизянову. Бумагу доставили Ботов и Кирпичников. Заручная была подписана стариками всех станиц.
У Бизянова была самая большая борода в области – больше Инькиной на целую четверть. Борода эта оказалась колючей. Делегатов стали пытать. Заперли в баню. Топили ее целые сутки и продержали их там два дня. Казаки задыхались, стонали, но упрямо и пьяно твердили:
– Подчинимся. Все скажем. Доложите нашу челобитную государю.
У них искали заручную. Надо было расправиться и с доверителями. Но казаки бумагу с подписями успели сжевать в бане. Их связанных увезли на тряских телегах в Оренбург.
Ботов и Кирпичников прослыли по всей линии героями. За них молились старухи.
Однако через месяц по поселкам и станицам уже читали на сводках их покаянное заявление. В нем Кирпичников и Ботов признавали вред своих домогательств. Соколинцы не верили письму. Кабаев утверждал, что письмо составлено градскими, продажными писарями. Когда чиновник потребовал от соколинцев подписей под покаянным заявлением, Кабаев глухо фыркнул ему в лицо:
– Подписей не дадим, а худо будет пострадаем. Так Богу угодно.
Говорил он за весь поселок. Богатые кулугуры-кержаки ни за что не хотели принять новое Положение, Раньше они всегда откупались от военной службы. Теперь не то: все казаки должны будут пробыть в полку самое меньшее год. За богачами тянулись и ворчали казаки среднего достатка. Разве легко было, в самом деле, держать, состоя в полевом разряде, полное снаряжение, обмундирование и строевого коня? И это – целых семь лет!
– Ходи-ка за ним ежедневно и корм давай, а на работу не пошли,– шамкал Инька-Немец. – А там каждое лето являйся на сбор в станицу...
Можно было подумать, что на летние сборы погонят и его, девяностолетнего старика.
То же самое было и в Уральске и по всей линии. Богачи тянули за собою бедных, бессбруйных казаков. Всячески подбивали их на борьбу за старинные вольности. Слали тайно ходатаев в Петербург к царю. Ходоков возвращали на родину в уральскую тюрьму. Жестоко расправлялись со всеми "намеревавшимися утруждать Государя Императора подачей прошения", как было написано в приказе наказного Атамана за No 607.
Все же Стягову и Гузикову Евстафию удалось пробраться в Крым. Они вручили в Ливадии царю челобитную. Их привезли в Уральск и судили по-военному: заковали в железные наручники и отправили в Сибирь ломать камень и рыть золото на целых восемь лет.
Тогда казаки по всем отделам, по всем станицам встали на дыбы. Ивей Маркович и Маркел Алаторцев караулили два дня за околицей поселка и не выпускали казаков на летние сборы в Сахарновскую станицу. Уральцы гнали от себя офицеров, присланных для выборов станичных депутатов. Казаки не пожелали слать депутатов в войсковое управление. Отказывались от почета и власти.
Кабаев не выходил из крестовой день и ночь. Молился. Там же происходили тайные собрания стариков. Откуда-то, будто кукушка накуковала, появились вдруг новые песнопения. В них – прямые призывы "к сопротивлению земным властям". На сходе Маркел Алаторцев заявил, что тех, кто согласен с Положением, надо гнать из казаков, и что царь это сделает, он заступится за Яик, когда узнает, как зорят его чиновники. Настоящими детьми выказали себя в то лето седобородые станичники!
По осенней дороге, вместе с первыми перелетными птицами, в Уральск прискакал оренбургский военный губернатор Крыжановский. Бравый генерал вызвал в помощь два батальона Кутаисского полка и Гурийской пехоты, когда увидел собственными глазами буянов-уральцев. Старый казак Василий Облаев из Бударинской станицы плюнул ему в лицо, назвал его сатаною и слугою антихриста. Казаков начали пороть, сажать по будкам и каталажкам.
Первого августа Василист, Маркел и Ивей Маркович пошли расставить переметы по Болдыревским пескам.
Вышли на яр к вечеру. Воздух мелко струился над рекою от зноя. Синели сонно леса. За ними устало поблескивала степь. Небо было покрыто сизым маревом. На телеграфном столбе, раскрыв широко рот, томилась старая, облысевшая ворона. Казаки сидели, свесив ноги к реке. Ивей Маркович достал из мешка и распластал большими ломтями пестрый арбуз. Приятно утолить жажду холодноватым, сладким соком!
Издали послышался глухой собачий лай. Казаки удивленно оглянулись. Диво! Откуда собака? Уральцы не держат у себя собак. Им не приходится охранять свое добро. Кто его тронет?
В степи, на фоне розоватого заката тряслись на телегах какие-то чужие люди.
– Матри-ка, солдаты должно...
Три подводы свернули с дороги. Молодые крестьяне в солдатских одеждах, похожие от пыли на негров, шли мимо казаков на берег. Они смеялись и говорили меж собою, сверкая белыми зубами. Не поздоровались. На плечах у них висели винтовки. Возле прыгала веселая лохматая собака ярко-красного цвета. Казаки смотрели на проезжих с неприязнью. Солдаты жадно припали к воде. Пили очень долго. Рядом лакала из реки собака. Ивей Маркович зло ухмыльнулся:
– Нечистый вам в рот. Полунощник в живот.
Кудрявый русый парень, отряхиваясь от воды, фыркая, громко сказал:
– Купанемся, ребята! Чур не мне воду греть!
– Чур не мне! – отозвались шаловливо другие. И начали через голову стаскивать с себя грязные рубахи.
Казаки помолчали, поглядели друг на друга. Они не могли от волнения и злобы выговорить ни слова. Маркел встал и пошел к солдатам. Спросил их, кто у них тут за главного. К казаку повернулся кудрявый парень, успевший уже смыть с лица пыль:
– Ну, чево тебе?
– Немыслимо, чтобы в реке купаться. Это и казакам не дозволено.
– Это почему же? – изумился солдат, вскидывая брови и играя морщинами высокого лба.
– Река пожалована Уральскому Войску с рыбою, поэтому пугать ее запрещено, -сурово проговорил Маркел, прямо глядя на солдат. – Отойдите от берегов. Греха бы не было.
Солдаты захохотали. Они были все голы. На груди у них прыгали медные кресты на гайтанах. Рыжий и длинный солдат, все тело в веснушках, ударил себя по бедрам и завизжал:
– Вот разбойники, вот чудилы огурешные!.. А ежели мне опростаться надо? Може, на вашей земле и облегчиться нельзя?
Солдаты продолжали барахтаться в воде. Ныряли, кувыркались, играли, гоготали вовсю. Казаки, не оглядываясь, ушли в поселок. И оттуда почти сейчас же прискакало с десяток верховых вооруженных казаков. Впереди Ивей Маркович на своем игреневом маштачке.
Казаки сомкнутым строем окружили солдат.
Солдаты смутились. Рыжий парень, стараясь не показать испуга, крикнул:
– Ну, ребята, давай начисто, набело, на гусино перо, да и дальше!
– Не жалате крови своей увидать, вылазьте немедля из реки! – крикнул Ивей Маркович и вздыбил коня. Конь скакнул вперед и наступил на солдатские штаны, порвал их.
Солдаты метнулись на берег, к винтовкам:
– Чего тебе? Куда лезешь? Разина порода!
– Расчеши, расчеши им, Ивеюшка, мочальные их волосы!.. Ишь, музланы, кругом брюхо, кошомное войско, тоже лезут на казачью землю!
– Семьдесят семь душ на барабане блоху не поймали. Расею проморгали б, ежели бы не уральцы!
Казаки наступали. Солдаты сбились в кучку. Русый кудрявый парень обозлился:
– А ты, казак, верни спиной назад! Сто душ чехоню на вожжах не удержали. Двести душ в кувшине мышь не поймали, ременные кишки!
Ивей Маркович оскорбился, гордо откинулся на седле:
– Мы, казаки, служим Государю и Отечеству. Кажный за десять солдат. А вы под ранцем задохнетесь, пузраны! Уходите с реки!
– Но, но, не заносись, господска собака. Кровопийцы! – Русый солдат выставил перед собою штык. – Ты не очень. Уйдем без вас. Потише!
Солдаты с руганью и ворчанием двинулись к телегам. Казаков еле-еле удержал от драки урядник Бизянов. Ивея Марковича трясло от злобы.
Весь день в поселке стоял галдеж. Казакам в самом деле казалось, что отнимают землю, реку, все их угодья.
Через неделю поселком провезли первую партию стариков, несогласных с новым Положением. В Калмыкове слышно было, заседала военно-судная комиссия. Везли казаков те же самые солдаты, которые купались на Болдыревских песках. Рыжий долговязый парень увидал на улице Ивея Марковича и крикнул:
– Эй, ты, богатырь, Илья Муромец, хошь, и тебя прихватим? Выкупаем в Волге? Мы добрые, ей-пра! Нам воды, не жалко, хоть утопии. Тебе ведь лужицы хватит.
Ивей Маркович ничего не ответил. Ушел во двор и там вилами насмерть пришиб подвернувшуюся белую курицу, любимицу Марички.
Беда шла в поселок со всех сторон – от Уральска, Калмыкова, Гурьева. Она глядела на казаков глазами мертвой рыбы – бессмысленно и страшно. Даже по ночам не стало слышно песен. Все свадьбы были отложены до весны. Кабаев не спал ночами. На стене молельной у него висела особая, написанная святыми людьми карта земли. Там было обозначено, где живут люди с песьими головами – турки, французы. И вот теперь Петр Семенович воочию видел, как оживали и шевелились эти песьи головы. Англичане, антихрист Бонапарт, его приспешники в холодном Петербурге – это все одно. Это гнездовье дьявола. Оттуда и бегут сюда на Яик несметные легионы черных, визгливых гаденышей.
Чего им надо в казачьем крае? Какая сила их гонит сюда? Волк, побывавший в овечьей кошаре, отведавший крови, не успокаивается до самой смерти. Он будет всегда косо поглядывать из тьмы острым блеском хищных глаз.
Вчера в поселок прислали бумагу, приказ Крыжановского – немедленно выбирать повсюду станичных, казачьих депутатов. На несогласных с Положением была наложена денежная контрибуция. Надо же на какие-то средства кормить всю эту ораву солдат, содержать судейских чиновников! Налетное воронье жадно до чужого добра.
Выборы в третьем Калмыковском отделе были назначены на сентябрь. Подходило время снаряжаться на плавенное рыболовство, а тут – на тебе! Василист хорошо запомнил на всю жизнь и этот срок – для Соколиного поселка пятое число, четверг – и всю эту страшную осеннюю неделю. А так недавно он мечтал, что именно в эти золотые дни он назовет Лизаньку своей женой.
7
В поселок Соколиный прискакал офицер и с ним десяток солдат. Зачем он приехал? Офицер ничего не говорил об этом, но все догадывались. Прошел слушок, что он показал начальнику форпоста Потапычу такую бумажку за подписью наказного Атамана, что со стариком чуть не приключился родимчик.
Офицер был еще молод и очень высокого роста. Ноги у него были длинные, а туловище до странности коротко и узко – в полчеловека. Усы чуть не до ушей, бородка клинышком. Расположился он у Алаторцевых: их двухэтажный дом был очень приметен среди глиняных мазанок. Солдат развели по другим дворам.
Офицер Виктор Пантелеевич оказался поручиком. Чин довольно почетный, по-казачьему – сотник. Но главное, чем он пленил в первые же дни Василиста, это умением веселиться и ладно поохотиться. Его черные, маслянистые глаза рвались вперед и постоянно смеялись. Усами своими и узким брюшком Виктор Пантелеевич напоминал молодому казаку запечного желтого таракана.
Поручик, по-видимому, думал, что он приехал в гости. Ходил с казачатами выливать водою из нор сусликов, с увлечением гонял кубари, захлебываясь, учился играть в мосолки-альчи. Это было куда интереснее, чем обычные российские бабки или козны. Василист водил офицера на Нюньку, круглое камышовое озеро. Они там в смертельном азарте стреляли уток. Лазили по камышам, утопали в грязи, калились под солнцем. Василисту казалось, что с ним охотится свой же одножитель, давний приятель и друг.
А как умело заигрывал Виктор Пантелеевич с казачками! Не казак и говорит на "о", словно колеса гоняет, а все девчата смотрели на него с жеманной улыбкой. Его прибаутки и песенки нравились всем казачкам. Сама Лизанька Гагушина постояла с ним на Красном яру. Казачки шептались потом, что она сильно "зацепила" офицера. Он вздумал ей тогда же подарить серебряный рубль. Лизанька удивленно подняла тонкие брови:
– У моего папаньки этого дерьма сколько хочешь. Чего лезешь?
Вот какова Лизанька! А ведь ей всего семнадцатый год. Виктор Пантелеевич, по-видимому, думал, что он приехал в деревню к мужикам. Василист лучше других знал, как горда Лизанька. Эта упрямая девчонка сводила его с ума. Сколько раз он ссорился с нею, казалось – навсегда, а в конце концов снова возвращался к ней. Заносчивая, резкая, как нежно слабела она в его руках. Какой беспомощной казалась она в эти минуты!
Виктор Пантелеевич с серьезным видом присватывался и к сестре Василиста, Насте. Обещал сделать ее генеральшей. Была у поручика гитара – диковинная вещь! Он постоянно под легкое треньканье напевал веселые припевки. Успехом у казаков пользовались наиболее глупые из них.
Али-али рассказали дедушке о бабушке,
Али-али рассердился дедушка на бабушку.
Али-али засверкали глазыньки у дедушки,
Али-али очутился дедушка на бабушке
И давай ее таскать за седые волосы!
Виктор Пантелеевич был табачник, но он ни разу не задымил в горнице или на глазах у кого-нибудь из почтенных казаков, и эта уважительность была в нем, чужаке, особенно приятна.
Вечерами, придя домой, поручик валился на постель и, задрав ноги на высокую спинку деревянной кровати, начинал рассказывать сказки о Петре и разбойниках, о бабе-Яге, костяной ноге, а чаще всего – о самом себе. Луша не отводила узких глаз от веселого поручика. Она всегда усаживалась калачиком на кошме у его постели. Василисту тоже нравились незатейливые истории офицера и особенно блестящие его сапоги.
– В ту пору я еще мальчишкой без порток под столом бегал, – начнет бывало поручик, да ведь как серьезно-то! – Дедушка у меня был шутейник, обойди свет. Посеяли мы с ним на печи гречиху, на тараканах пахали и боронили. Выросла она большая-пребольшая, аж до самого неба. Полезли мы по ней поглядеть, как она налилась. Дед впереди, а я позади. За полу уцепился. Лезем год, два. Выбрались, наконец. Глядим, скота рогатого пасется по облакам – видимо-невидимо. И ни по чем, на что хошь меняют. Спустились мы обратно, наловили в избе два мешка мух да тараканов и снова по гречихе на небо. Давай менять мух и тараканов на скот. Жалко мне их, особо черных тараканов, люблю я их... Реву-ревмя, а все же меняем. Набрали большущее стадо. Поехали из небесной деревни в главный райский город торговать. Размечтался дедушка по дороге о барышах и меня на ухабе из облаков с возу обронил, не заметил. Жулики шли мимо, подобрали. Плохо мне у них жилось, скучно без дедки. Да и очень уж на небе тошнотно: ни тебе водчонки, ни поохотничать, ни с девчатами поиграть, все одни ангелы. Попробовал я ангела за крылышко ущипнуть, а он как заревет белугой, жалобно, так – и Богу жаловаться полетел. Да и чего в нем? Одна небесная жижа да перышки. И не, поймешь даже, девка или малец. Ох же, и скучно! Сижу я, пригорюнился и придумываю, как бы мне удрать оттуда. Вот собрались один раз жулики куда-то ночью и меня с собою прихватили. Прокрались мы во двор к знаменитому господнему купцу, выдрали в кладовке окно. Сунулись жулики, не могут пролезть, – втиснули меня туда. Приказали им одежу через окошко выбрасывать. А я все о своем думаю, как бы на грешную землю сбежать. Стучу нарочно, разговариваю во весь голос. Они на меня цыкают: "Тише! Купец услышит". Подавал я им, подавал куцавейки разные, дипломаты суконные. Увидал большой тулуп, да как заору, что есть мочи: "Лисий тулуп подать?" Они: "Цыть ты, тише"... А я знай свое, ору благим матом: "Лисий тулуп подать?" Услыхало святое купецкое семейство, выскочили в чем были, подняли гвалт, собаки забрехали, сторожа в трещотки застукотали. Жулики испугались бросили веревку и давай по ней на землю один за другим кубарем спущаться. А я нарочно гикаю и подсвистываю. Сгребли меня и ну лупцевать по заднице, – рубцы вот здесь до сих пор заметны. Я как зареву! И давай рассказывать им всю свою историйку. Поверили, сжалились надо мною. Маленький я еще был. Отвели меня к дедушке. Дедушка заплясал вокруг меня, схватил меня в охапку, и турманом со мною на землю. Ох, и обрадовался я, как увидал сызнова навоз, девчат гармошку услыхал. Ничего нет лучше земли, ей-Богу. Стал я жить поживать да добра наживать. Нажить – не нажил, но жил – не тужил, вино пьяное пил, на жалостной гитаре жужжал, по живому миру скакал, вот и к вам живой угодил...
Каждую ночь Виктор Пантелеевич балясничал до тех пор, пока рассветной мутью не забелеют окна, а Василист лежал, слушал и посмеивался. Рядом, словно тем же рассказам в ответ, сладко улыбалась во сне маленькая сестренка Луша.
А днями поручик ходил по поселку, беседовал о новом Положении и о выборах станичных депутатов. Срок был уже на носу. Иногда он призывал казаков к себе поодиночке. Старички хмурились, но Василисту казалось, что ничего страшного впереди нет. Очень уж Виктор Пантелеевич был обходительный и душевный человек. Рубаха-парень! Много казаков перебывало у него. Сам урядник Поликарп Бизянов провел с ним в беседе целый вечер. А вот Кабаев не пожелал прийти. Тогда поручик сам отправился в его молельню, – он человек не гордый.








