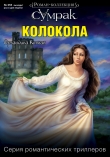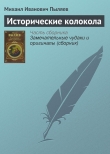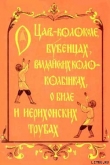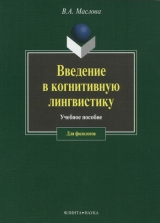
Текст книги "Введение в когнитивную лингвистику"
Автор книги: Валентина Маслова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Категория времени представлена в русском языке большой группой устойчивых сочетаний, пословиц и поговорок. О кратковременных событияхрусские скажут: без году неделя(с неодобрением), в два счета, во мгновение ока, в один присест;о долго длящихся событиях: битый час(с неодобрением), в долгий ящик откладывать, в час по чайной ложке, долгая песня,слово из молодежного жаргона тормозить(все с неодобрением); о событиях, которые скоро наступят: на носу;о неожиданных событиях — точно снег на голову;о событиях, которые никогда не наступят — когда рак на горе свистнет, не видать как своих ушей, после дождичка в четверг.Нужно подчеркнуть, что для русского менталитета характерно неодобрительное отношение к событиям, долго длящимся во времени.
Все эти и сходные фразеологизмы функционируют в рамках категории времени.Восприятие времени у разных народов различно. По мнению Ю.С. Степанова, для древних греков время текло «сзади», из-за спины, через человека и как бы над его головой, «вперед» – от глаз в бесконечность. Это представление хорошо (во всяком случае, лучше, чем наше) соответствует убеждению, что «неизвестным» является как раз будущее, а «известным» прошлое. Следовательно, именно будущее должно располагаться за нашей спиной, там, где у нас нет глаз и куда не проникает наш взор [Степанов, 1989: 21].
Стремление дать художественно-философское истолкование времени характерно для всей русской культуры ХХ века, в первую очередь для творчества поэтов и писателей, которые представляют время по-разному. Так, И. Бродский писал, что « время больше пространства. Пространство – вещь. Время же, в сущности, мысль о вещи. Жизнь – форма времени».Существуют и более экзотические представления о время-пространстве.
В.П. Григорьев обратил внимание на разное отношение к слову «время» у поэтов: например, у И. Анненского, А. Блока, А. Белого это слово встречается единично, а В. Хлебников широко использует его в самых различных контекстах. Поэты не просто употребляют слово, но философски осмысливают эту категорию, наделяя ее определенными смыслами и коннотациями. Так, у А. Белого между строками проходят столетия и даже тысячелетия, но поэт этим не смущен, ибо он – хозяин времени:
Мгновеньями текут века.
Мгновеньями утонут в Летею.
И вызвездилась в ночь тоска
Мятущихся тысячелетий
(«Ночь и утро», 1908).
Но иногда, наоборот, поэт – слуга и пленник времени, как у Б. Пастернака:
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты – вечности заложник
У времени в плену
(«Ночь», 1957).
Данной метафорой поэт выражает свою жизненную и философскую концепцию.
ПРОСТРАНСТВО.Категория пространства характеризует протяженность мира, его связность, непрерывность, структурность, трехмерность (многомерность) и т. д. Как важнейшая форма мира и жизни в нем человека, пространство многообразно представлено в языке, сознании, культуре, мифологии языковой личности.
В математике, например, различают такие свойства пространства, как протяженность, однородность, изотропность, трехмерность. В работе «Пространство и текст» В.Н. Топоров пишет о двух пониманиях пространства – по Ньютону и Лейбницу. В первом случае пространство – «нечто первичное, самодостаточное, независимое от материи и не определяемое материальными объектами, в нем находящимися»; во втором пространство – «нечто относительное, зависящее от находящихся в нем объектов, определяемое порядком сосуществования» [Топоров, 1983: 228].
Искусство, по мнению Е.С. Яковлевой [1993: 49], основывается на лейбницевском представлении пространства (упорядоченного, структурированного). Это пространство «одушевляется» человеком, оно «прочитывается» им, поэтому являет собой область человеческих представлений о мире. Ньютоновское же пространство принадлежит физике и геометрии.
По мнению Г. Гачева, русский образ пространства представляет собой горизонтальное движение, однонаправленную бесконечность (вширь, вдаль, «ровнем-гладнем»,по Н. Гоголю), а болгарский образ пространства – это круглый, замкнутый космос.
Есть пространство, которое окружает человека как защитная аура, размеры этого пространства специфичны для каждого народа.
Т.В. Топорова, исследовавшая древнеисландскую модель мира, писала: «Категории пространства и времени благодаря свойственным им универсальности и всеобъемлющему характеру формируют пределы, в которых развертывается человеческая жизнь, тем самым они определяют все остальные категории, связанные с антропоцентрической сферой: судьбу, право, социальное устройство… Эти категории не только образуют пассивную рамку происходящего, но и констатируют природу самих событий, активно воздействуя на них» [Топорова, 1986: 12].
Именно эти категории сплошь мифологизированы. Мифологическое пространство мыслилось многослойным и сакрально неоднородным. В мифологическом мире бытие – концентрические круги, пронизанные мотивом Единого устройства: здесь различались территории наибольшей «мистической энергии», благотворной для человека (тотемные центры), энергетически нейтральные территории и «зловредное», хаотическое пространство, наделенное отрицательными качествами.
Согласно этой модели мира, границы вселенной расходятся «от человека» концентрически все большими и большими кругами. Самый ближний круг, микрокосм, – это сам человек. Его граница – тело и одежда, прикосновение к которым расценивается в разных культурах как нарушение этических и прочих норм. В русском языке существует выражение это меня не касается,т. е. фактически является «чужим». Ср. белорусское гэта мяне не датычыць,внутренняя форма глагола – «тыкаць». Это позволяет предположить, что в менталитете белорусов заложено более грубое нарушение микрокосма человека. Одежда у славян издревле выполняла функцию магического оберега. Отсюда ритуальность и особая значимость изготовления одежды (прядения, ткачества, вышивания), а также одевания-раздевания (снятие женихом пояса-оберега с невесты, разувание новобрачного молодой женой и т. д.).
Следующий круг – дом человека, его ближайшее окружение. Наиболее тонко разработан данный концепт у Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова в книге «Дом бытия языка. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция логоэпистемы». (М.: Икар, 2000). Дому них = бытие, обитание, а жилище= жизнь, существование. Основная функция дома – защита, но и ограничение. В качестве синонимов дома в разных ситуациях высупают землянка, небоскреб, хрущевка, пятиэтажкаи др.
Окно – граница дома (ср. мифологию окна). Круг дома у кочевых народов, например, у казахов, – это степь, по которой племя проходит за световой день. Поэтому уход из дома в мифологии, фольклоре означает начало приключений и испытаний (мифология порога). Итак, дом – разновидность пространства, причем он ассоциируется сугубо со «своим» пространством, как-то отгороженным от внешнего мира. Дом служит связующим звеном в общей картине мира: с одной стороны, принадлежит человеку, с другой, связывает человека с внешним миром. Это как бы внешний мир, уменьшенный до размеров человека, т. е. здесь реализована триада: дом – человек – мир. Структура дома повторяет структуру внешнего мира. Дом – это мир, приспособленный к масштабам человека и созданный им самим. Загадка: Пять братьев строят дом, а жить в нем не собираются(чулок и спицы). Принадлежность человеку – основной функциональный признак дома. Дом противоположен гробу: его делают не для себя, а для другого.
Виды дома: церковь, башня, дворец, землянка, изба, крепость, хата, хижина, строение… Элементы дома – крыша, печь, дверь, окно, пол, порог… Верхняя граница – крыша,защита сверху (покров) – отсюда русское выражение дать приют под крышейи современное «крыша»– в значении «бандитская защита». Дверь – важнейший элемент в модели дома (мира), это средство связи с миром. В фольклоре закрытую изнутри дверь нельзя без разрешения открывать снаружи.
Все пространство человека – от интерьера его дома и до великого Космоса – исчерчено видимыми и невидимыми границами. Границы, проходящие в пространстве, занимают важное место в культуре. Это самый напряженный, конфликтный участок символического пространства, где человека часто подстерегают повороты судьбы. (См. межникв мифологии.) Во-первых, потому, что граница – место наибольшего удаления от центра «своего» мира, а значит, это место, где максимально ослаблены защитные силы «своего». Во-вторых, потому, что это место, где начинают действовать законы «чужого» пространства.
Граница дома – порог,в мифологической модели мира место жительства духов, домового. В древности под порогом погребали новорожденных, некоторых предков, души которых якобы охраняли жилище. До сих пор о пороге живет много суеверий: нужно оказывать почтение порогу, поэтому нельзя становиться на порог, садиться на него, прыгать через него; все это грех. Особенно грешно наступать на порог не живущему здесь человеку, с этим связан обычай у многих народов переносить невесту через порог [Фрэзер, 1993: 344–353].
В представлениях русских и белорусов порог – граница жилища, «одомашненная» часть пространства, защита для человека. Со словом порогсуществуют следующие фразеологизмы: споткнуться на пороге(сплоховать в самом начале), порог памяти(препятствие), обивать пороги(надоедливо просить о чем-либо), только за порог(только вышел), чуть за порог(только вошел), до порога(о чем-то непродолжительном, неглубоком – девичий стыд до порога), с порога(сразу же после прихода); вось табе бог, а вось парог(предложение выйти вон), паказваць парог(предложение выйти) и др.
Все люди, имеющие контакт с иными мирами, располагаются и в мифологии, и в фольклоре, и в литературе на границе своего пространства: на окраине села, города, на опушке леса, на берегу моря и т. д. Самая сильная граница своего и чужого – кладбища: мертвые как бы охраняли «свое» пространство (ср. также языческий славянский обычай хоронить младенца или послед под порогом дома). У архаичного человека переход через эти границы требовал смены костюма, а часто и внешности, изменения норм поведения, деятельности.
Последняя граница вокруг человека – это граница «своей» земли, родины. Первоначально это была граница «малой» родины, заданная самой природой. Всякое массовое переселение, смещение с нее воспринималось как трагедия. Лишь после того, как возникли первые государства, граница стала государственной, а присоединение чужих земель начало интерпретироваться как «освоение», «окультуривание» чужого пространства, дикого и еще как бы «не человеческого».
Следующим древнейшим вариантом структурирования мифологического пространства была «горизонтальная, линейная» модель, где верхним миром (миром богов) являлось верховье реки, нижним (миром мертвых) – ее устье, среднее течение реки соответствовало миру живых людей [Роль человеческого фактора, 1988: 62]. Лишь впоследствии многоуровневая модель мира получила три измерения и упорядочивалась уже по вертикали. В других мифологиях, испытавших влияние буддизма и ламаизма, число уровней резко возрастает. Например, в мифологической модели мира алтайцев и тувинцев речь идет о 99 мирах и 33 слоях небес.
Пространство реализуется в виде нескольких сущностей: верх – низ, небо – земля, земля – подземное царство, правый – левый, восток – запад – север – юг и т. д. Важнейшая оппозиция в пространстве – верх – низ.В основе этой оппозиции лежит представление о верхнем и нижнем мирах в мифологической модели, сюда относятся все мифы о верхней и нижней сторонах вещи, явления, поступка. У славян оппозиция «верх – низ» была связана с мифом, повествующим о борьбе Перуна (живущего вверху – на небе, на вершине Мирового дерева) и Велеса (божества нижнего мира, «скотьего бога», стада которого – души умерших). Победа верха над низом заканчивается дождем, несущим плодородие. Оппозиция «верх – низ» нашла отражение в целом ряде фразеологизмов: по верхам(легко и поверхностно), на верху блаженства(испытывать крайнее удовольствие), с верхом(больше обещанного); ниже всякой критики(не удовлетворяет элементарным требованиям), ниже своего достоинства(унизительно), низвергнуть в прах(развенчать), низринуть в прах(убить, уничтожить).
С положением низасвязаны такие фразеологизмы, как снимать шапку, гнуть спину, ползать на коленях, гнуться в три погибели– в русском языке; ламаць шапку(угодничать), здымаць шапку(относиться с уважением) – в белорусском языке, значение которых сформировано мифологемой «становиться ниже, сознательно занимать положение внизу». Таким образом, все эти фразеологические единицы (ФЕ) при различных значениях имеют общий компонент: «стать ниже ростом». Ср.: унижаться.
В основе оппозиции левый – правыйлежит миф о том, что каждый человек имеет и доброго, и злого духов рядом с собой: добрый ангел-хранитель располагается справа, а бес-искуситель – слева: Бес слева ходит, да на грех наводит[Шахнович, 1971: 53].
Противопоставление правогои левогоприобрело глобальный смысл: оно вошло в систему правовых отношений, и слово «правый» получило значение хорошего, справедливого, способного к власти, оно связано со словами «право», «правда», «справедливость»: правая рука(первый помощник), правое дело(справедливое дело). С мифом связан обычай подавать правую руку при приветствии. Под левым понимается все ненормальное, несправедливое, женское, отчасти чужое.
Этот миф объясняет семантику целого ряда фразеологизмов, например: встать с левой ноги(начать день под властью злого духа, а его современное значение «быть в плохом, мрачном настроении, в раздраженном состоянии»); споткнуться на левую ногу, левые деньги, левый заработоки т. д.
С семантикой левого и правого связаны гадания, ритуалы, приметы, а также понятие о смерти, которая входит через левое ухо, т. е. мы слышим дыхание смерти.С «правым» связано понятие жизни. На этом основан славянский обычай пить на тризне по кругу слева направо. В Индии до сих пор считается, что дрожание правого глаза – доброе предзнаменование, а левого – дурное. Такова семантика левого(смерти) и правого(жизни), которая объясняет не только языковые факты, но и обычаи, предрассудки, приметы, связанные с оппозицией левый – правый.Активность ее в языке и сознании славян объясняется еще и физиологическими причинами: В.П. Алексеев, исследовавший право-левостороннюю симметрию живых организмов, доказал, что эта симметрия начинается на уровне белковых молекул и пронизывает все живое [Алексеев, 1976: 43].
Пространственная картина мира, реализованная с помощью русских фразеологизмов, складывается следующим образом: на волосок(близко), под носом(рядом), под боком(рядом), рукой подать(близко), нос к носу(близко), в двух шагах(близко), во всю ширь(безгранично), насколько глаз хватает(громадное пространство), на каждом шагу(везде) и т. д. Приведенные фразеологизмы свидетельствуют о том, что чаще всего русский человек имеет дело с пространством, которое непосредственно прилегает к нему, к его телу, лицу, глазам, ибо человек – центр субъективного пространства, но при этом он как бы формирует вокруг себя кокон, внутри которого ощущает себя независимым и вне опасности (ср. выражение: это меня не касается).
Есть архаическая модель пространства, которое осваивается человеком, обживается им. Архаическое представление о пространстве сводилось к тому, что оно не предшествовало вещам, а наоборот, конструировалось ими. Язык как раз и описывает это обжитое пространство, которое описывается с позиции наблюдателя: вдалеке, невдалеке, вблизи, вдали– от наблюдателя. В словах далеко, недалеко, близко, рядом, неподалеку, поблизости– наблюдателя нет, они информативны, а не изобразительны, но тоже определяются через говорящего, который и есть та самая «вещь», конструирующая это пространство. Сходные координаты имеют слова сзади, спереди, слева, справа, вверху, внизу.
Отсюда абсолютная и относительная модели пространства. Абсолютная модель – это конкретное физическое пространство (трехмерное, гомогенное, протяженное). В результате вторичного использования пространственных показателей создается квазипространство: Я чувствую твое присутствие рядом(о близости душ).
Е.С. Яковлева говорит о четырех моделях пространства, которые задают наречия с семантикой «близко/далеко»: 1) относительная динамическая модель: Европа рядом(говорящий и описываемый объект – физические сущности, оба находятся в физическом пространстве, оценивается расстояние до объекта); 2) абсолютная статическая модель; 3) квазипространство: Когда ты рядом, хочется жить;4) пространство инобытия: Я чувствую, что ты здесь, рядом.Дистанционной точкой отсчета в этих пространствах является говорящий.
Вместе с тем когнитологи указывают, что люди осознают пространство не через систему координат, а скорее через отношения, существующие между объектами в пространстве. В связи с этим представляется интересной точка зрения Е. Кубряковой на понятие контейнеракак особого принципа научных исследований – принципа обратимости позиций наблюдателя в пространстве, в котором находятся все выделенные человеком объекты – как материальные, так и идеальные. Мы попытались к описанию некоторых концептов применить контейнер, например, к концепту зимняя ночь– идею «пустого пространства».
В восприятии пространства носителями русского языка эталоны расположения в пространстве зачастую устанавливаются при активном участии лексемсоматизмов. В системе соматических идиом отображена определенная закономерность, например, в выборе эталонов пространственных координат. Фразеологизмы этой группы малопродуктивны и обозначают место или месторасположение относительно субъекта речи. Большинство этих ФЕ репрезентируют локацию по вертикали «верх / низ» или по горизонтали «вперед / назад», «слева / справа».
Эталоны координат по вертикали заложены во фразеологизмах: под ногами(совсем близко), из-под <самого> носа(совсем близко), под рукой(близко внизу на доступном расстоянии).
Еще одна группа идиом отображает пространственную эталонизированность частей тела в несколько ином аспекте – как эталоны нормы расположения в пространстве по вертикали. Эта группа объединяет фразеологизмы гнуть спину, повесить нос, опустить плечи,т. е. находиться ниже нормального уровня настроения.
В эмпирическом обыденном сознании эталонизируются и объединяются в одну группу такие части тела, как спина, носи плечи.Это объединение базируется на общности выполняемой ими функции – способности перемещаться в пространстве относительно вертикальной и горизонтальной осей координат. В норме для этих частей тела необходимо занимать строго определенное положение: спина(спинной хребет) является основной вертикалью в теле человека, плечи– это верхняя горизонтальная граница тела; нос– верхняя малая вертикаль.
Изменение положения этих частей тела как точек координат влечет за собой нарушение нормы, нормального порядка вещей. Номинативное основание этих идиом может быть сведено к смыслам: «вести себя, нарушая принятую норму» (гнуть спину, задирать нос)и «чувствовать себя хуже нормы» (повесить нос, опустить плечи).Образное основание идиомы гнуть спинуможет быть определено как «изменение положения человека в системе координат существующего миропорядка»: спинной столб из вертикали становится горизонталью. Эмпирический образ этой идиомы, редуцированный в гештальт-структуре, вызывает психическое напряжение, реализующееся в эмотивной оценке осуждениетакого поведения и в рациональной оценке – «это плохо».Во фразеологизмах задирать нос, повесить нос и опустить плечиобраз идиомы актуализированно включает черту «стремление линий горизонтали к вертикали», подобное нарушение миропорядка вызывает эмотивную оценку – неодобрение.Итак, соматические идиомы выполняют роль эталонов в пространстве, в одном случае идентифицируя или квалифицируя локацию по вертикали, в другом – устанавливают эталон нормы расположения в системе координат относительно вертикальной и горизонтальной осей.
Пространственные координаты по горизонтали закодированы в следующих группах фразеологизмов: 1) куда глаза глядят(определяется неизвестное направление вперед), куда ноги несут(неопределенное направление движения), <туда>, где не ступала нога человека(неизвестное местонахождение), <насколько> глаз (хватает)(далеко впереди,) рукой подать(довольно близко), рукой не достанешь(далеко, но на доступном расстоянии); 2) под боком <жить>(совсем недалеко), нос к носу (столкнуться)(очень близко, спереди), нос в нос(слишком близко), ухо к уху <стоять>(рядом, сбоку), ухо в ухо(совсем рядом, сбоку на одной высоте), плечом к плечу <стоять>(рядом, сбоку), бок о бок(совсем рядом, сбоку).
Восприятие пространства в картине мира никогда не ограничено утилитарно-прагматическими аспектами, но, по утверждению В.Б. Касевича, «…всегда трактуется в системе мировоззренческих оппозиций, релевантных для данного культурно-исторического сообщества: специфические черты того или иного конкретного пространства определяются отношениями не между объектами, а оценочным отношением к пространству субъекта, обычно коллективного» [Касевич, 1996: 137]. Так, членение пространства в мифологическом мировосприятии осуществляется по признаку «сакральное/профаническое» (в психологии эта оппозиция представлена как «проксимальное/дистальное» пространство). Проксимальное пространство характеризуется применительно к самому человеку как определенным образом устроенному организму, в отличие от дистального, в котором человек рассматривается как социальный тип. В проксимальном пространстве оппозиции-примитивы «верх/низ», «левый/правый», «передний/задний» отражают представления о том, что непосредственно прилежит к человеку, к его телу. В культуре гротеска это пространство выхода тела за собственные пределы. Поэтому в гротеске всяческие ответвления человеческого тела приобретают особое значение. Эти части тела продолжают собственно тело, связывают его с другими телами или внетелесным миром. Например, «Нос» Гоголя.
ВРЕМЯПРОСТРАНСТВО.Существуют модели времени в терминах пространства, но они, как справедливо заметил О. Шпенглер в своей знаменитой работе «Закат Европы», противоречивы: «Время рождает пространство, пространство же убивает время» [Шпенглер, 1993: 335]. Однако наблюдения над языком показывают, что в русском языке возможна взаимозамена пространственных и временных понятий: фразеологизмы не за горами, на носуозначают и «скоро» и «близко»: зима не за горами(скоро) и Москва не за горами(близко); выборы на носу(скоро) и Француз на носу, войско без сапог, а им и горя мало[Салтыков-Щедрин. Пошехонская сторона] (близко). Таким образом, слово – это локус, в котором пространство и время объединяются, т. е. понятие хронотопа («хронотоп» – греч. «времяпространство») является языковой реальностью. Можно даже говорить, что это реальность историческая: «Пространственное понимание времени нашло свое выражение в древних пластах многих языков, и большинство временных понятий первоначально были пространственными» [Гуревич, 1984: 110].
Термин «хронотоп» широко использовал М.М. Бахтин, указавший на его сюжетообразующую роль и назвавший его формально-содержательной категорией, ибо «вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов» [Бахтин, 1975: 399].
Всякий художественный текст обладает своим особым хронотопом, т. е. имеет свои временные и локальные параметры, представляет собой упорядоченный мир, в котором живут персонажи текста. Сущность хронотопа, по М.М. Бахтину, состоит в выражении неразрывности времени и пространства, но все же более важную роль в хронотопе он отводил времени: «Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым, пространство же «втягивается» в движение времени, сюжета, истории» [Бахтин, 1975: 235]. Для Ю.М. Лотмана, наоборот, важнее пространство.
Реальность хронотопа доказывается способностью текста заполнять собой время: известен обычай – в монастырях во время трапезы читать священные книги. Произносимый текст приобретает магическую власть над слушателями: как бы отсчитывается сакральное время, в которое нельзя вторгнуться.
ЧИСЛО.Ян Шичжан, китаец-русист, утверждает, что ЧИСЛО – важнейший концепт в русской языковой картине мира [Шичжан, 2001]. Число – сущность всех вещей и их отношений. См. у Пифагора: «…Самое мудрое – число» и «Все расположено в соответствии с числами» [Кэрлот, 575].
Число как понятие сформировалось не сразу. Вначале оно мыслилось как определенное количество каких-либо предметов (дай пять= руку), по рукам(согласие как воспоминание о ручном счете).
Существуют разные гипотезы возникновения числа: 1) прагматическая, по которой числа возникли в результате коммуникативной необходимости; 2) концептуальная, или вербальная: человек имеет врожденный концепт числа ОДИН как точки отсчета и концептуальный аппарат для конструирования следующих за ним чисел; 3) ритуальная – это как бы перевернутая концептуальная гипотеза: человек можетвоссоздать число.
Числа – это элементы особого кода, с помощью которого описывается мир: в основе музыки, поэзии, архитектуры и искусства вообще лежат числа. Число знаменует божественный порядок, является магическим ключом к пониманию космической гармонии. В мифологической картине мира с помощью чисел передавалась качественно-количественная сторона явлений. Суеверия, связанные с числами, часто основываются на традиционной символике чисел (например, «священная» семерка, «несчастливое» число 13).
Древние народы придавали цифрам сакральную силу, приписывали им скрытый смысл и магическую возможность влияния на все окружающее, потому как считалось, что числа использовались богами для управления миром. Согласно учению пифагорейцев, числа первого десятка наделялись особыми свойствами. А сам Пифагор говорил: «Все в мире есть числа».
Что касается подгруппы количество,входящей в группу «Устройство мира», то она хорошо представлена в русской и белорусской фразеологиях.
Особого внимания заслуживает «мистика» чисел.
Один– «единица» символизирует первичную целостность, Бога, имя которого у северных народов – Один,а также свет или солнце, источник жизни. По Пифагору, число один называется монадой и считается символом мудрости.
Единица символизирует также мужское начало, знак человеческого «я» и одиночества. Например, существует русская пословица «Один в поле не воин»,в которой один– одинок и слаб.
Два– символ двойничества. Человеческие двойники считались плохим предзнаменованием, предвещающим смерть. Данное число сопряжено в русской картине мира с негативными коннотациями. Двойка – символ второго (женского) начала, она содержится в слове диавол. Черта с два(«два» – число бесовское, нечистое).
Принцип бинарности социальных систем был открыт Э. Дюркгеймом. Известный историк А.М. Золотарев обнаружил бинарность в социальной организации первобытного общества. Как принцип научного устройства мира два не имеет негативных коннотаций.
Четыре– символ универсальности, целостности, всемогущества, твердости, власти, интеллекта, справедливости. Символизм данного числа связан с символикой квадрата и четырехконечного креста. Квадрат – эмблема земли у многих народов, а крест, кроме прочего, – символ целостности. У пифагорейцев четыре было первым числом, которому было приписано геометрическое тело, тетраэдер – четырехгранник с основой и тремя сторонами. Четыре первоэлемента и четыре стихии – земля, воздух, вода и огонь, почетный караул у гроба умершего также состоит из четырех человек. Все это свидетельствует о важности данного числа в русской картине мира.
Пять.Лучи пятиконечной звезды олицетворяют четыре стихии: землю, воду, воздух, огонь + человеческое сознание. В имени Сына Божьего – Иисус – пять букв.
Шесть.Три шестерки – число дьявола в христианстве; в мировой культуре шесть – символ союза и равновесия. В пифагорейской системе – знак удачи, счастья. Куб – геометрический символ устойчивости и истины. В русской традиции с этим числом связаны негативные коннотации: слово шестеркаозначает «подхалим и стукач, холуй».
Семь– священное число, символ божественности, именно семерка характеризует солнечных богов и общую идею Вселенной. Древние греки признавали за этим числом высочайшее совершенство. Семерку считали девственным числом на том основании, что только семь (среди чисел первой десятки) не является ни частью, ни произведением любого из них. Это число считалось атрибутом девственной Афины.
В географических названиях: Семилуки, Семипалатинск, Семиречье; в названиях фильмов – «Семеро смелых», «Великолепная семерка», «Седьмое небо». Число семь, будучи выражением идеи Вселенной, закрепилось в культуре в таких своих вариантах, как семь нот, семь цветов спектра, семь звезд Большой Медведицы, семь ветвей Мирового Дерева, семь координат Вселенной, семь планет, седмица (славянское название недели), число Миллера (объем оперативной памяти человека).
На одной из христианских икон Божией Матери изображено семь стрел и сама икона называется «Семистрельная».
Восемь —в оккультизме символ равновесия. Геометрическое выражение этого числа – восьмигранник – считается промежуточной фигурой между квадратом и кругом, сочетающим в себе устойчивость, постоянство первого и целостность второго. Число 8 представлялось математическим символом четырех сторон света, включая промежуточные направления – юго-восток, юго-запад и т. д. У пифагорейцев, особенно чтивших это число и основавших на нем целую философию, – это символ смерти. Срок правления древнегреческих царей ограничивался восемью годами.
Девять– это три в усиленной форме, т. е. утроенная триада. В мистицизме 9 считается тройственным синтезом мысли, тела и духа или загробного мира, земли и неба. У русских – символ опасности, могущества (Айвазовский «Девятый вал»). Это число венчает какой-либо процесс и кладет начало переходу в новое качество: поминки на 9-й день, «у кошки 9 жизней», в мифологии упоминается о 9 подземных мирах, 9 месяцев беременности у человека и некоторых видов животных (коров) и т. д.
Десять —символ гармонии, полноты, совершенства. В пифагорейской символической системе это число мироздания, представленное десятиконечной звездой. Оно было единицей нового счета у народов, считающих десятками. Десятая часть (десятина) практически повсеместно являлась мерой дани или жертвы Богу. Десятилетие символизирует веху в истории или полный цикл в мифологии.
Двенадцатьв древней астрономии, астрологии и хронологии – основное число, символизирующее пространство и время, поэтому существует 12 знаков Зодиака, 12 созвездий, 12 месяцев, в восточном календаре цикл из 12 животных, 12 апостолов у Иисуса Христа, 12 сыновей Иакова, 12 колен Израилевых, 12 олимпийских богов составляли древнегреческий Пантеон, 12 могучих титанов родила Гея от Урана и т. д. Это число избранных.