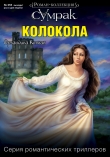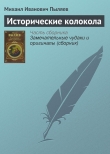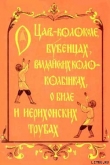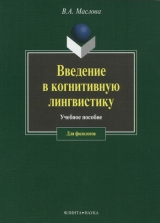
Текст книги "Введение в когнитивную лингвистику"
Автор книги: Валентина Маслова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Например, в языке существуют пары слов, значение которых отличается негативной оценкой последних слов в паре: слушать – подслушивать, смеяться – глумиться, повиноваться – пресмыкаться, хвалить – льстить, рассказывать – хвастаться, кичиться; жаловаться – ябедничать, разведчик – шпиони др. Отсюда можно извлечь следующие положения наивной этики: 1) нельзя вторгаться в частную жизнь (подслушивать);2) нехорошо унижать достоинство других (глумиться);3) плохо забывать о собственной чести и достоинстве (пресмыкаться);4) нехорошо преувеличивать собственные достоинства (кичиться, хвастаться);5) нехорошо рассказывать третьим лицам о поступках людей (ябедничать, шпионить).Это прописные истины, и они закреплены в языке, а потому должны быть исследованы лингвистом.
Для наивной этики, социально ориентированной сферы, характерна установка на разрешение – запрещение чего-либо, на то, достойно или недостойно это человека. По В.Н. Телия, «языковая наивная картина мира – это такое оязыковленное сочленение знаний «обычного» человека о мире, в котором он живет и действует, которое порождает зачастую наплывающие друг на друга части этих знаний» [Телия, 2002: 91]. Она считает, что в отличие от наивных моделей мира, навязывающих всем носителям языка антропоцентрический взгляд на мир, окультуренный образ мира антропометричен: прескрипции культуры не исключают преференций (предпочтений) личности в выборе ценностных для нее ориентиров.
Единицы естественного языка приобретают в языке культуры дополнительную, культурную семантику. Так, в языковом сознании представителей славянской культуры слово головаявляется не только выразителем семантики «верхняя часть тела», но и вербальным символом центра разума, интеллекта, высшей ценности. Эта культурная семантика строится на магическом и мифологическом осмыслении таких признаков обозначаемой словом части тела, как «расположение вверху в области небес, противоположно низу, области перерождения», «руководство действиями, поступками», «хранение и воспроизведение нужной информации» и т. п., которые входят в ядерную дефиницию лексемы голова.Так, признак «расположение вверху», мифологически переосмысляется при описании ситуаций, названных идиомами голова горит, голова идет кругом, ходить на голове.В этих идиомах восстанавливается связь с символикой микрокосма славян, в которой все, что относится к верхней части тела, связывается с небом и его главными объектами – солнцем, луной и звездами. Другой релевантный признак «руководство действиями, поступками» позволяет связывать соматизм головас целым рядом контекстов традиционной обрядности, верований и ритуалов, следы которых сохранились в идиомах посыпать голову пеплом, с повинной головойи др.
Живя в языковом обществе, человек обогащает свою концептуальную систему не только благодаря личному опыту, но и благодаря языку, в котором закрепляется общественно-исторический опыт – как общечеловеческий, так и национальный. Последний и определяет специфические особенности языка на всех его уровнях. Это приводит к появлению специфики разных языков, что, в свою очередь, ведет к возникновению специфических языковых картин мира у представителей разных народов. Но существуют также и индивидуальные картины мира, которые несколько отличаются у разных людей.
Картина мира отражается в содержательной стороне языка этноса. Ее анализ помогает понять, чем отличаются национальные культуры, как они дополняют друг друга на уровне мировой культуры.
Э. Сепиром и Б. Уорфом была выдвинута гипотеза, что люди видят мир сквозь призму своего родного языка. Они предположили также, что языки различаются своими «языковыми картинами мира». Из этих рассуждений следовало, что люди, говорящие на разных языках, имеют разные типы мышления, и все это не просто связано с языком, а обусловлено им.
Б.А. Серебренников, критикуя эту гипотезу Сепира – Уорфа, утверждал, что язык не обладает самодовлеющей силой при образовании языковой картины мира. Нельзя говорить, что разные языки выстраивают разные языковые картины мира в сознании своих носителей, они придают лишь специфическую «окраску», обусловленную значимостью предметов, явлений, процессов, что определяется спецификой деятельности, образа жизни и национальной культурой народа.
Таким образом, языковая картина мира тесно связана с концептуальной системой, а также с языком. Формирующаяся картина мира, отображенная в сознании человека, – это вторичное существование мира, закрепленное и реализованное в особой материальной форме, языке. Один и тот же язык, один и тот же общественно-исторический опыт формирует у членов определенного общества сходные языковые картины мира, что позволяет говорить о некоей обобщенной национальной языковой картине мира. Разные языки придают картинам мира лишь некоторую специфику, некоторый национальный колорит, что объясняется различиями в культуре и традициях народов.
Сама языковая картина мира – это общекультурное достояние нации, она четко структурирована, многоуровнева. Именно языковая картина мира обусловливает коммуникативное поведение, понимание внешнего мира и внутреннего мира человека.
Вывода
1. Мышление представляет собой манипулирование ментальными репрезентациями типа фреймов, сценариев, планов, моделей и других структур знаний.
2. Язык, являясь ментальным феноменом, становится одним из способов кодирования разнообразных форм познания: чувственного (ощущение, восприятие, представление) и рационального (понятие, суждение, умозаключение).
3. Понять и исследовать способы концептуализации мира можно, лишь овладев определенным набором знаний из новой научной парадигмы, в число объектов которой вошли такие категории, как концептуализация, категоризация, вербализация, ментальность, концепт, картина мира, концептосфераи пр.
4. Языковая картина мира отражает способ речемыслительной деятельности, характерный для той или иной эпохи, с ее духовными, культурными и национальными ценностями.
5. Концепт включает понятие, но не исчерпывается только им, а охватывает все содержание слова: и денотативное, и коннотативное, отражающее представления носителей данной культуры о явлении, стоящем за словом во всем многообразии его ассоциативных связей. Он вбирает в себя значения многих лексических единиц. В концептах аккумулируется культурный уровень каждой языковой личности, а сам концепт реализуется не только в слове, но и в словосочетании, высказывании, дискурсе, тексте.
Вопросы и задания
1. В чем сущность антропоцентрического подхода к языку?
2. Какова роль языка в процессе познания и понимания мира?
3. Какие Вы можете назвать основания для возникновения когнитивной лингвистики? Как соотносится она с когнитологией?
4. Каковы задачи когнитивной лингвистики?
5. Назовите основные понятия когнитивной лингвистики.
6. Какие точки зрения на понимание концепта можно считать наиболее соответствующими истине? Почему?
7. Пользуясь следующими определениями понятия «концепт», дайте его обобщенное рабочее определение.
Д.С. Лихачев: концепт – это «своего рода алгебраическое выражение значения, которым человек оперирует в своей письменной речи».
Р.М. Фрумкина определяет концепт как вербализованное понятие, отрефлектированное в категориях культуры.
С точки зрения В.Н. Телия, концепт – это продукт человеческой мысли и явление идеальное, это конструкт, он не воссоздается, а «реконструируется» через свое языковое выражение и внеязыковое знание.
Концепт – культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане выражения целым рядом своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексико-семантическую парадигму, единица коллективного знания, имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой (Воркачев).
8. Какова структура концепта? Дайте понимание полевой структуры. Приведите примеры.
9. Что должно быть учтено в методике вычленения концепта?
10. Что такое концептуализация и что является ее результатом?
11. В чем смысл картины мира?
12. Картины мира: научная, наивная, языковая и поэтическая. Как они дифференцируются?
13. Приведите фрагмент религиозной картины мира. Какие концепты составляют ядро этой картины мира?
14. Охарактеризуйте основные элементы, формирующие языковую картину мира.
15. Какова роль стереотипов в создании языковой картины мира?
Глава 2
Концептосфера русской культуры
Совокупность концептов и образует концептосферу (термин Д.С. Лихачева) как некоторое целостное и структурированное пространство, хотя Ю.С. Степанов и В.П. Нерознак считают, что это лишь концептуальная область, но не концептосфера. Некоторые ученые используют также термин концептуальная система (Р. Павиленис). Фактически это система мнений и знаний человека о мире, отражающих его познавательный опыт на доязыковом и языковом уровнях.
Модель мира в каждой культуре строится из целого ряда универсальных концептов и констант культуры – пространства, времени, количества(измерение), причины, судьбы, числа, отношения частей к целому[Гуревич, 1972: 15], а также – сущности, огня, воды, правды, закона, любвии др. [Степанов, 1997]. Американский психолог Дж. Миллер сказал: «У каждой культуры есть свои мифы. Один из стойких в нашей культуре мифов состоит в том, что у неграмотных людей в менее развитых странах существует особое «примитивное мышление», отличающееся от нашего и уступающее ему» [Цит. по: Вежбицкая, 1997: 291]. Отсюда следует, что можно говорить об универсальных для большинства народов (в том числе и «примитивных») и культур концептах.
При одинаковом наборе универсальных концептов у каждого народа существуют особые, только ему присущие соотношения между этими концептами, что и создает основу национального мировидения и оценки мира. Но есть и специфические, этноцентрические концепты, ориентированные на данный этнос. Нельзя на естественном языке описать мир «как он есть», потому что язык изначально задает своим носителям определенную картину мира. М. Цветаева писала, что «иные вещи на ином языке не думаются». А. Вежбицкая утверждает аналогичное и в отношении чувств: «не только мысли могут быть «продуманы» на одном языке, но и чувства могут быть испытаны в рамках одного языкового сознания, но не другого» [Вежбицкая, 1997].
В данном пособии рассмотрены универсальные и национальные концепты, присущие русской культуре.
Человеческие универсалии – это время, пространство, место, подобие, причина, видеть, долг, истина, правда, искренность, правильность, ложь, милосердие, свобода, судьба, память, язык, человеки др.
Язык отражает то, что есть в сознании, а сознание формируется под воздействием родной культуры. Отсюда специфически русские национальные концепты – подвиг(Н. Рерих), воля, удаль, тоска(Д.С. Лихачев), душа, дом, поле, даль, авось(А.Д. Шмелев), интеллигенция, зимняя ночь, туманное утро, беспредел, новые русские, утечка мозгови т. п. Относительно одного типично русского слова В. Сосинский писал: «Следовало бы вычеркнуть из словаря русского языка это губительное слово «успеется», как надо вычеркнуть из этого же словаря «авось», «небось» и «как-нибудь» – этих трех китов, на которых держится Россия» [Сосинский, 2002: 79].
Все концепты можно разделить на следующие группы: 1) мир – пространство, время, число, родина, туманное утро, зимний вечер;2) стихии и природа – вода, огонь, дерево, цветы;3) представления о человеке – новый русский, интеллигент, гений, дурак, юродивый, странник;4) нравственные концепты – совесть, стыд, грех, правда, истина, искренность;5) социальные понятия и отношения – свобода, воля, дружба, войнаи т. д.; 6) эмоциональные концепты – счастье, радость;7) мир артефактов – храм, дом, геральдика, сакральные предметы (колокол, свечаи др.); 8) концептосфера научного знания – философия, филология, математикаи т. д.; 9) концептосфера искусства – архитектура, живопись, музыка, танеци т. д.
Последние две группы здесь не рассматриваются, поскольку это не просто увеличило бы объем, а превратило бы книгу в Словарь концептов культуры.
В данном учебном пособии анализируются различные способы описания концептов. Объясняется это не только отсутствием единых схем описания, но и тем, что концепт для человека не может быть ни дефиницией, ни набором некоторых признаков, он представляет живое знание, т. е. динамическое функциональное образование, являясь продуктом переработки вербального и невербального опыта – изменчивым, текучим, подчас неуловимым, как всякое знание.
2.1
Мир – концепты пространства, времени и числа; концепт будущего
ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО и ЧИСЛО являются важнейшими концептами культуры. Это фундаментальные категории философии, естествознания, социологии, физики и других гуманитарных и точных наук. А.Я. Гуревич называет эти категории «системой координат», при помощи которых люди, принадлежащие к той или иной культуре, воспринимают мир и создают его [Гуревич, 1969].
Существуют субстанциональная (от лат. substantia – сущность) и реляционная (от лат. relativus – относительный) концепции пространства и времени. Первая предложена Демокритом, Ньютоном, которые трактовали эти категории как самостоятельные сущности. Вторая концепция сформулирована Платоном, Аристотелем, Лейбницем, в начале ХХ в. подтверждена В.И. Вернадским, которые считают время и пространство объективными, не зависящими от человека формами бытия материи, но тесно связанными с самой материей.
Современные философы чаще всего определяют пространство и время иначе: «Оно (пространство) есть форма бытия материи, характеризуемая такими свойствами, как протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие. Время тоже форма бытия материи, характеризуемая такими свойствами изменения и развития систем, как длительность, последовательность смены состояний» [Спиркин, 1988: 120].
Н.И. Лобачевский, а вслед за ним А. Эйнштейн доказали, что и время и пространство – движущаяся материя. Таким образом, в исследовании этих концептов можно выделить несколько подходов: философский, математический, физический, культурологический, лингвистический и др. Для нас важно прежде всего, как эти категории отражаются в языке, фиксируются в письменной речи и в произведениях искусства.
Концепт ВРЕМЯ– самый интересный, сложный и важный из названных, ибо сквозь его призму воспринимается нами все сущее в мире, все доступное нашему уму и нашему истолкованию. Аврелий Августин в своей «Исповеди» отмечал: «Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время: если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю» [Августин, 1991: 292]. Он утверждал также, что время – сложная категория, и выделял три времени настоящего: настоящее прошедшего (память), настоящее настоящего (созерцание) и настоящее будущего (ожидание). Не случайно категория времени исследуется многими науками, формируя объект анализа как для философии и культурологии, так для математики и физики, для психологии и лингвистики [Арутюнова, 1998; Логический анализ… 1997; Бахтин, 1975; Иванов, 1974].
В процессе постижения времени в сознании человека складывается концептуальная модель времени, представляющая собой базовую когнитивную структуру, нашедшую отображение в языке.
Древние соотносили время с большим количеством объектов действительности: с числом, кругом, с мировым деревом, горой, с земноводными, с водой, с огнем [Маковский, 1996: 103]. Например, древние вавилоняне воспринимали время в связи с потоком событий и цепью поколений [Клочков, 1983].
В мифах индоевропейских народов время мыслится бесконечным и изначальным; оно предписывается только земному, срединному миру, в верхнем мире его нет, но творится оно там и оттуда отправляется на землю.
В научной литературе существуют даже попытки классифицировать народы по «отношению этнического сознания (каждого данного народа) к категории времени» [Гумилев, 1970].
Современные представления о времени сложны и многообразны. Время – мера движения и изменения, что соответствует пониманию времени как всепорождающей и всеуничтожающей сущности в мире. В соответствии с разными формами движения выделяют физическое, геологическое, механическое, астрономическое, биологическое, социально-историческое, психологическое время. Различают время объективное (физическое) и субъективное (психологическое); художественное, библейское, декретное и др. Также выделяется космическое время, определяемое природными циклами – солнечными и лунными, и время историческое, профанное, определяемое течением событий. Оно может быть также концептуальным и перцептивным [Панасенко, 2002: 152]. Человек живет в разных временах – астрономическом, историческом, возрастном, сакральном, профанном (обыденном, несвященном) и др.
Согласно данным физики, философии и других наук, выделяют время циклическое (последовательность повторяющихся однотипных событий) и время линейное (однонаправленное поступательное движение). Традиционно считается, что циклическое – это наивное представление о времени, а линейное – научное. Однако Б.А. Успенский пишет, что циклическое время соответствует космологическому сознанию, а линейное – историческому: «Космологическое сознание предполагает, что в процессе времени повторяется один и тот же онтологически заданный текст… Между тем, историческое сознание, в принципе, предполагает линейное и необратимое…» [Успенский, 1989: 32]. Эта дихотомия находит отражение в языке: например, существительные пора – время,прилагательные прошлый – минувший,наречия впредь – в будущеми др. [Яковлева, 1992]. Такие лексические средства выражения темпоральности называются темпоральными номинаторами.
Благодаря тесной связи структур сознания с языком, результаты постижения времени человеком находят отображение в языковой модели времени, представленной совокупностью языковых категорий: формами глагольного времени, в значениях слов с темпоральной окраской (день, ночь, годи др.), прилагательными и наречиями с темпоральным значением (бывший, будущий, тогдашний, нынешний, теперешний, прежнийи др.).
Самый многочисленный класс темпоральной лексики – имена существительные – насчитывает несколько сотен (см. работы А.П. Клименко). Каждое такое имя отображает либо фрагмент, либо отдельный аспект общего концепта времени.
Универсальными способами восприятия времени во многих культурах служат смена светлой и темной частей суток, а также периодичность повторения природных явлений: день, ночь, утро, полдень, полночь, вечер, сумерки, весна, лето, зимаи под.
Пораназывает фазу космологического цикла, который много раз реализуется в природе и жизни человека: пора отлета птиц, осенняя пора, пора цветения садов, пора надежд и грусти нежной(А. Пушкин), т. е. лексема пораобъемлет именно те случаи, когда «время повторяется в виде формы, в которую облекаются индивидуальные судьбы и образы» [Успенский, 1989: 32]. «Космологичность» порыпроявляется в том, что она приходит независимо от чьих-либо желаний: можно приблизить время, но не пору.
Лексема времяассоциируется с линейной моделью времени, оно является необратимым, неповторимым: хрущевское время, екатерининское время.Оно может быть недавним, далеким, прошедшим, ближайшими т. д. Темпоральные номинаторы – это также прошлый, прежний, нынче, ныне, нынешний, впредь, сегодня, завтра, послезавтра, минувший, будущее, в дальнейшеми др.
Время – неотъемлемая часть содержательной стороны языка, что находит выражение в единицах различных языковых уровней: морфологических – в виде глагольной категории времени, лексических – в качестве слов с временным значением, синтаксических – виде темпоральных синтаксических конструкций. К грамматическим средствам также относятся некоторые падежи – аблатив, предлоги (до, после, над, под)и т. д. Например, употребление в языке лексем минута, мгновенье, момент, время, часи др. специфично: так, часвыступает в двух значениях: 1) единица измерения времени более крупная в соотношении с минутой и 2) время вообще (час отрезвленья; Есть час Души, как Час Луны —М. Цветаева; Есть некий час, в ночи всемирного молчанья —Ф. Тютчев; «Зимний час»– стихотворние К. Бальмонта). В истории языка часконкурировал со словом година. Миг– это эмоционально напряженное время (Есть только миг в этой жизни бушующей, именно он называется жизнь).Е.С. Яковлева справедливо заметила, что часв русском языковом сознании является носителем модели судьбозначного времени, он часто мыслится в перспективе «пути» [Яковлева, 1994].
Отличительной чертой любой языковой модели является ее ориентированность на человека, поэтому признаки антропоцентричности также нашли отражение в языковой модели времени: детство, юность, зрелость, старость.Выделение периодов, характеризующих возрастные особенности человека, накладывают на объективное время определенные рамки. Жизнь человеческая просматривается сквозь призму модели времени: утро жизни(о юности), закат жизни(о старости) и под.
Философы утверждают, что время– другое название для жизни. И язык подтверждает это, называя с помощью единиц времени духовные сущности: час раскаяния, минута покаяния, час смирения, минуты беспамятства, секунды малодушияи др. В Библии мы встречаем выражения година искушения, пробил час, смертный час, час Истины.
В текстах время – это типы сюжетного развития (вилка, кольцо, цепочка, веер), а также концепция позиции повествователя на оси времени, разработанная Н.Д. Арутюновой [1999: 689]. Она предлагает модель Пути человека и модель Потока времени. Эти модели отражают представления человека о прошлом и будущем.
Т.М. Николаева связывает время с событием, предлагая говорить не о цикличности времени, а о циклических-во-времени-событиях [Т.М. Николаева, 2000]. И действительно, в языке есть много слов для наименования периодов протекания различных событий: завтрак, обед, ужин, пост, Пасха, Рождествои др. Во многих языках мира есть слова, называющие единицы измерения времени. Если имеются в виду отрезки времени неопределенной длительности, то они называются словами типа момент, миг, мгновение, вечностьи под., если же речь идет об отрезках времени определенной длительности, то называются такие единицы, которые служат для счета времени – месяц, неделя, год, первое число месяцаи т. д. Сам факт присутствия в языке наименований единиц для измерения времени свидетельствует о том, что оно дискретно и измеримо.
Время в наивной картине мира мыслится как жидкость, причем часто густая (течет время, тянется),как ценная вещь (его можно тратить),как человек (оно не ждет, торопит)и т. д.
«Время» в русском языке произошло от «веремя», которое родственно словам «вертеть», «веретено». В русской картине мира, таким образом, идея времени связана с идеей повторяемости, регулярности, цикличности. Эта же идея регулярности проходит в некоторых германских языках, где время – это «прилив», в немецком же «Zeit» – иная идея времени, линейный образ: глагол «ziehen» (тянуть).
Таким образом, язык отражает время, которое движется двумя способами: либо по кругу, циклично, либо линейно. Циклично – это «на майские», «к октябрьским», «на Крещение».Поэтому Н.И. Толстой говорит о «времени магическом круге».
Согласно второму подходу, время линейно, одномерно, однонаправленно и необратимо. Время движется, и его движение непрерывно. Каждое его мгновение уникально. Время нельзя остановить, повернуть вспять (только поэты пытаются это сделать, они покоряют время, превращая день в ночь и наоборот). Н.Д. Арутюнова считает, что время подобно числовому ряду: оно линейно и необратимо, и использует для него метафору пути, потока. Абстрактная модель времени – это прямая линия, ориентированная в обе стороны от точки отсчета.
У человека нет специального органа для восприятия времени, но у него есть чувство времени, порожденное восприятием изменений в мире – сменой времен дня, сезонов и т. д. Именно время организует психический склад: «Если чувство времени основано на восприятии природных циклов, то психические структуры связали себя с линейным временем, расчлененным «точкою присутствия» на прошлое, будущее и соединяющее их в единый поток настоящее» [Арутюнова, 1998: 688]. Человека привлекает новое, он убыстряет время – «Время вперед!».
Наиболее интересно прошлое, в котором можно выделить три вида времени: историческое, периферийное (термин М.И. Стеблин-Каменского) и мифическое. Историческое время – это прошлое, о котором народ сохранил относительно достоверные сведения; периферийное время – это прошлое на краю общественной памяти, воспоминания о нем смутны, последовательность и связь событий люди уже плохо представляют. Мифическое время – это время, лежащее за пределами народной памяти, здесь трудно сказать, какое событие произошло раньше другого; события плавают как в плазме, т. е. вне всякого времени.
Современные исследователи выделяют две модели пути человека [Логический… 1997]: традиционную – время и поколения людей появляются из будущего и уходят в прошлое, старея; и новую, согласно которой время как бы движется вместе с человеком в будущее. Здесь возникает противоречие: старое время находится в стороне прошлого, а старость ждет человека в будущем. Эти противоречия отражены в языке: пред-стоящий(= будущий), а пред-ыдущий(= прошедший).
Для менталитета русских характерна низкая оценка обозримого прошлого (исторического времени). «Начнем с чистой страницы», – говорим мы, и это есть зачеркивание прошлого опыта. Однако наше настоящее – «результат уникальной последовательности событий в прошлом, над которыми мы не властны» [Арапов, 1997: 47].
Опыт «до» теряет смысл, как только наступает «после». И это типично для русского представления о времени: ср.: Россия постперестроечная, послевоенная, послереволюционная.В этих выражениях акцентируется внимание на событиях, обозначенных словами с приставкой «после-».
Интересно отношение языка к настоящему времени, которое русскими философами рассматривается как условность, ибо оно моментально: начало события уже отошло в прошлое, а его конец – в будущем; настоящее время – столь краткий миг, что его как бы нет вовсе, но, оказывается, что, кроме него, ничего нет. Н. Бердяев эту мысль формулировал так: «Время распадается на прошлое, настоящее, будущее. Но прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее распадается на прошлое и будущее и неуловимо… Человеческая Судьба осуществляется в этой распавшейся вечности, в этой страшной реальности времени и вместе с тем призрачности прошлого, настоящего и будущего» [Бердяев, 1991: 235].
Это типично русское отношение к настоящему, у других же народов оно иное. Так, В.Г. Гак указывал на склонность французов к употреблению формы настящего времени и связывал этот факт с психологией народа. И. Эренбург в статье «О свойствах умеренного климата» писал: «Я преклоняюсь перед французской …преданностью каждому часу, каждой минуте…». Русские же люди больше думают о прошлом или о будущем. Поэтому из двух главных «русских вопросов» – Кто виноват?и Что делать? – один относится к прошлому, другой – к будущему. Даже язык среагировал на эту особенность психики: глаголы совершенного вида не имеют формы для настоящего времени, оно заменяется будущим. Постепенно вырабатывается привычка избегать настоящего времени даже там, где это неоходимо: Два и три будет четыре.
Наибольший интерес представляет будущеевремя, которое в русском языковом сознании становится концептом.
По мнению французского ученого Ж. Нива, смысл этого концепта лучше всего проявляется в слове «ухрония» (созданном по образцу слова «утопия». Его основные черты: 1) оно помещается где-то в неопределенном futurum; 2) его ждут; 3) оно не соприкасается с настоящим. Это или Апокалипсис (в религиозной картине мира), или идеально устроенный мир (светлое будущее, коммунизм – в советской, корейской). Светлое будущее как прямое следствие «бессмертного учения» должно было наступить в 1917-м, 1937-м, 1980-м годах и т. д. Как показывает русская классическая литература (Обломов, Манилов), о будущем лучше мечтать.
Историки обращали внимание на то, что нет другого такого народа, который был бы настолько озабочен завтрашним днем, как русский. Россия думает не просто о будущем, но о будущем вселенском. Отсюда философия русского космизма, который обосновывает всечеловеческую перспективу. Валериан Николаевич Муравьев (1885–1932), создатель футурологического проекта «овладение временем» (1924) посредством творческой деятельности, утверждал, что люди будут владеть не только землей, но и всей солнечной системой. История перерастет в астрономию.
В сознании русских особо ценится сказочный путь: печь, сани-самокаты, ковер-самолет, веление-хотение. Будущее русские назначают, манипулируя со временем, пытаясь им управлять. Например, меняют календарь в 20—30-е годы, обещают хрущевский коммунизм в 80-м году, горбачевские квартиры в 2000-м, достойную жизнь в ХХ! веке и т. д. Особенно характерно было такое отношение к будущему в советское время.
Христианская модель будущего – второе пришествие Господа Иисуса Христа.
Будущее – область чистой игры ума. Его нет. Тогда выражение «Долгперед будущим»становится алогизмом: если будущего нет, то как у него можно взять в долг? Русская литература запечатлела извечное стремление русского человека к светлому будущему. А. Чехов «Там», В. Ажаев «Далеко от Москвы», мифологизация строек-гигантов в советской литературе – это будущее. В. Войнович в романе «Москва – 2042» писал: «При коммунизме все люди будут молодыми, красивыми, здоровыми и влюбленными друг в друга. Они будут гулять под пальмами, вести философские беседы и слушать тихую музыку». Здесь же: «Люди будущего будут жить в небольших, но уютных городах, каждый из которых будет размещаться под огромным стеклянным шатром. В этом городе круглый год будет светить солнце…»
Будущее утопично. Град Китеж символизирует идею мудрого устроения земли, веры народа в свое будущее. Он исчез под водой (по другой версии – под землей), ушел в иное измерение, в будущее, где мы с ним надеемся встретиться. Об этом писали поэты А. Майков, Н. Клюев, М. Волошин, М. Городецкий; его изображали художники – В. Васнецов, Н. Рерих, сочиняли музыку – опера Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».
Существует обширная научная литература о будущем. В качестве примера можно указать следующие издания: Дугин А.Основы геополитики: геополитическое будущее России. М., 1997; Капустин М.Конец утопии? Прошлое и будущее социализма. М., 1990; Карпенко А.Фатализм и случайность будущего: логический анализ. М., 1990; Комаров В.Загадка будущего. М., 1971; Нива Ж.Модели будущего в русской культуре // Звезда, 1995, № 10; Паперный В.Культура Два. М., 1996; Агафонов В., Рокитянский В.Россия в поисках будущего. М., 1993; Солженицын А.Как нам обустроить Россию. М., 1990; Степин В.Эпоха перемен и сценарии будущего. М., 1996; Шафаревич И.Есть ли у России будущее? Публицистика. М., 1991; Эдельман Н.Образ будущего в русской литературе. Женева, 1988.