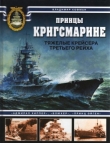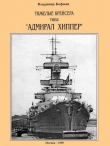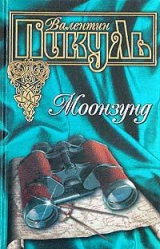
Текст книги "Моонзунд"
Автор книги: Валентин Пикуль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Финал к Либаве
«Новик» стоял на рейде Аренсбурга – столицы провинции острова Эзель; открытый с зюйда рейд имел песчаный грунт, якоря отданы на глубине в восемь сажень за семь миль от берега. Неожиданно их навестил адмирал Трухачев, начальник Минной дивизии.
В каюте Артеньева он попросил себе чаю. Сказал:
– Вот так-то, дорогой мой… Я уж думал, что выйду в отставку, буду каждодневно шляться на угол Восьмой линии, знаете, на Васильевском острове такой шалманчик Бернара, где собираются по вечерам отставные адмиралы…
И замолчал, сосредоточенный. Помрачнев, Трухачев добавил:
– Там, в Ирбенах, как докладывают с моря, стали всплывать трупы с погибших кораблей. У вас скорость приличная. Сбегайте до Ирбен и обратно. Понимаю, Сергей Николаич, задание не из самых приятных, но… нельзя, чтобы они там болтались!
– Павел Львович, о чем разговор? – отвечал Артеньев с готовностью. – Если служба требует того, будет исполнено!
Пошли подбирать. Трупы плавали, как правило, лицами вниз, крестоподобно распластав руки и ноги. Руки мертвецов зачастую лежали на поверхности воды, будто усталые до изнеможения люди облокотились на стол. А ноги были уже объедены хищной корюшкой. Среди прочих трупов подобрали один – какой-то непонятный. На брезенте он стал расквашиваться, словно студень на сковородке. Чуть тронь – расползается, как мыло, долго пробывшее в воде.
– Да это не наш! – догадались на «Новике». – Видать, еще с прошлой осени немак с тральцов. Илом его засосало, а потом при взрывах заодно с нашими подняло… Наши-то – свежаки!
Чужого мертвеца лопатой, словно навоз, сгребли обратно за борт, а русских уложили рядком на корме – вдоль тех самых рельсов, по которым покойники не раз скатывали на своих кораблях мины. Накрыли убиенных парусиной. Дали полный ход. Спешили поскорее доставить их на базу, чтобы избавиться от неприятного груза.
«Новик» шел в Аренсбург с приспущенным флагом…
– Я уже не думаю, как бы мне хорошо прожить, – сказал Артеньев на мостике. – С некоторых пор я стал больше заботиться – как бы мне хорошо помереть…
На берегу мертвецов раскладывали по гробам. Ставили на дроги. Гарнизонный оркестр Аренсбурга сопровождал их до кладбища. В почетном карауле шагом мерным, с оттяжкою ноги назад (как ходят только моряки), следовали за гробами матросы и офицеры. Буйно зацветали сады. Дул ветер с моря. Дорога тянулась в гору.
Когда Артеньев вернулся с похорон, в каюте его ждало письмо. И он был поражен тем, что писала Клара… Из Либавы до Аренсбурга, через все фронтовые кордоны, через водные хляби Ирбен – она донесла свой тоскующий голос. Ничего в письме, кроме слов любви, а в конце письма, обведенные кружком, стояли ее слова: «Это место я поцеловала».
Перед глазами Артеньева еще тянулась долгая дорога на кладбище, и он медленно снял с рукава траурную повязку. Черная тесьма легла поверх письма любящей женщины…
Был как раз воскресный день. Со стороны бульваров Аренсбурга доносилась музыка. Это гарнизонный оркестр прямо с кладбища завернул в городской парк, где и начал солнечную мазурку.
Случилось ли что? А может, и ничего не случилось…
Часть вторая
Прелюдия к беспорядкам
…Скитальцы морей – альбатросы,
застольные гости громовых пиров,
орлиное племя – матросы,
матросы…
Вам песня поэта. Вам слава веков.
Влад. Кириллов
Ранней весной 1915 года Эссен вывел линкоры из Гельсингфорса на практические стрельбы. В шхерах дредноуты громоздили перед собой голубые торосы льда. Комфлот держал флаг на «Императоре Павле I», финские буксиры, пыхтя от усилий, вытягивали на дистанцию боя плавучие щиты, обреченные артиллерией на разгром и потопление.
Эссен всегда был нетерпелив – флагарт Свиньин не успел и рта открыть, как адмирал уже велел залпировать главным калибром, лично скомандовав данные к прицелу. И вдруг, из «ласточкина гнезда» – от самых марсов, где над бездною качались дальномерные трубы, – послышался в телефонах голос матроса:
– Ой, неверно! Бери два кабельтова больше.
Эссен постервел после такой поправки, а башни линкоров уже изрыгнули лавину огня. Болванки снарядов унеслись к щитам.
– Недолет! – донеслось с мачтовых высот. – Давай, говорю, ставь на два больше… тогда не смажешь!
Возмущенно загалдели в рубках штабные «флажки»:
– Какой-то матрос и смеет так нагло… самого адмирала!
– Он прав, – сказал Эссен и велел внести поправку.
Башни линкоров снова извергли огонь, и служба на визирах сразу отметила накрытие. После отбоя стрельбам Эссен завращал рыжими глазами, крича дальномерщику:
– А ну, слезай сюда… корректор паршивый!
«Сейчас быть морде битой». Молодцеватый матрос с выпуклой грудью проворно соскочил с мачты на ходовой мостик.
– Как зовут? – рявкнул на него комфлот.
– Павел Дыбенко, ваше превосходительство.
Эссен взял матроса за ухо:
– Так вот что я скажу тебе, дорогой Дыбенко: или ты у меня в тюрьме насидишься, или… быть тебе на моем месте!
– Так точно, мы ведь способны и на то и на другое.
«Ну вот, сейчас врежет по уху…» Но Эссен, сердито сопя, раскрыл кошелек и подарил Дыбенке серебряный рубелек:
– Сукин ты сын! Хвалю за честность. Получи на гульбу…
* * *
Русско-японская война, столь неудачная для России, была, по сути дела, тем кремнем, на котором оттачивали свое флотское оружие все великие морские державы. Из печального опыта перевернутых кверху килями витязей-броненосцев, из геройской гибели «Стерегущего», из обороны Порт-Артура – немцы, англичане, французы (а также и сами русские) делали торопливые выводы, загружая работой свои верфи, заводы и лаборатории. Окончательно набрать боевую мощь исполина русский флот должен был по плану лишь в 1920 году, но… война не стала ждать, и все программы на будущее достались уже Советской власти.
Англия – из трагических выводов Цусимы – породила морское чудовище по имени «Дредноут» («Ничего не боящийся»), и это имя сделалось нарицательным для большинства линейных кораблей, в генеральной мощи которых мир тогда еще не сомневался. Однако, подобно тому, как автомобиль вытеснял на обочину дороги лошадь с телегой, так и подводная лодка уже выходила в атаку на дредноуты, чтобы торпедами подорвать непререкаемый авторитет «ничего не боящихся».
Все спорные проблемы, которые накопились в XIX веке, империализм разрешал в начале века XX, и первая мировая война стала для военных людей почти откровением, ибо штабная мысль не могла угнаться за бурным развитием сил материальных. Под палубами уже рокотали турбины, стучали клапаны дизелей, корабли сосали бензин и мазут, электротоки и гидравлика проворачивали башни орудий, а в душе адмиралов еще не умерло желание выстраивать эскадры в одну линию, как во времена Нельсона. Нельзя обвинять в отсталости русских адмиралов – ошибки англичан и немцев в борьбе на море порою были еще ужаснее, еще грубее. В Цусимской битве японский адмирал Того удачным маневром охватил «голову» эскадры Рожественского – и британские адмиралы теперь без конца будут повторять этот маневр, для исполнения которого в Англии изобрели даже особый класс кораблей – линейных крейсеров, вся задача которых – разбить авангард противника.
Русский флот по тем временам был передовым флотом мира, а жидкое топливо уже открывало перед ним обширные пространства океанов. Используя захваченные на «Магдебурге» германские шифры, русские заранее угадывали намерения врага и предупреждали о них союзников. Артиллерия флотов резко увеличила свою мощь, но… увеличились и дистанции боя. Наступило шаткое равновесие: количество попаданий в цель оставалось на том же уровне, как и в русско-японской войне. Три попадания из ста выпущенных снарядов – это считалось большой удачей (даже гордились!). В первой мировой войне уже обозначился кризис нарезной артиллерии, и этот кризис оформился лишь к концу второй мировой войны (весною 1945 года в битве за Берлин советская артиллерия исполнит торжественный реквием многовековой славе пушек).
Мировая бойня за передел мира еще не началась: не мог решиться на войну Вильгельм II в Потсдаме, боялся ее Николай II в Царском Селе – ее открыл из Гельсингфорса адмирал Эссен.
– Почему молчит царскосельский суслик? – рвал и метал он, разбрасывая мебель по каюте. – Пусть срочно сообщат мне о политическом положении. Если ночью не получу ответа, я утром начну вываливать за борт все мины, какие найдутся на складах флота…
Ответа не было (войны – тоже). Балтийский флот вышел в море и уже завалил минами пространство от Наргена до Порккала-Удд – от Финляндии до Эстляндии, когда Петербург дал Эссену телеграмму-молнию – вне всякой очереди: «Война объявлена, тчк быстро ставьте мины тчк».
– Я сам водрузил себе памятник… вот он, ни на что не похожий! – И адмирал Эссен указал с мостика на кипящие воды Балтики, в которых сразу стало тесно и жутко от густоты минных банок.
* * *
А теперь он умирал. В чине вице-адмирала. В возрасте пятидесяти пяти лет. Диагноз – крупозное воспаление легких. Эссен простудился на переходе от Ревеля… Николай Оттович лежал в бронированной глухоте флагманского крейсера «Рюрик» – на койке, зачехленной славным андреевским флагом. Годами не сходивший с палуб кораблей, он не пожелал умирать на берегу.
– Я не собака! Комфлот отдаст концы на своем флагмане…
Клокоча бронхами, адмирал подозвал к себе Ренгартена:
– Скажи хоть ты… правду… Где сейчас германский флот?
Ренгартен скрыл правду от умирающего и отвечал уклончиво, что эскадры принца Генриха лишь на подходах к Либаве.
– Ирбены под ударом, – прохрипел адмирал Эссен. – Как жаль, что я подыхаю. Теперь зубами цепляйтесь за Ирбены и Ригу, в бетон и сталь надо одеть мыс Церель… Держитесь! Иначе всех вас продует через трубу Моонзунда, как пушинку через воздуходувку…
Перед смертью Эссен настойчиво заговорил о своем преемнике, при этом он стал сильно волноваться:
– Никого, кроме Колчака… только Колчака можно ставить над флотом! Радируйте в Ставку: пусть срочно дают ему чин контр-адмирала и ставят на мое место… Он справится, я верю!
Император не решился поставить Колчака над флотом.
– Он же молод, ему всего сорок, – указал Николай II, – а есть на флоте люди с большим цензом, для которых подобное назначение покажется обидным… даже оскорбительным, господа!
Балтийским флотом стал командовать Василий Александрович Канин – неприметный вице-адмирал с лицом разочарованного в жизни учителя из провинции. В кают-компаниях кораблей (под рвущую нервы музыку Шопена) царило всеобщее уныние. Флаги эскадр были приспущены. На плоских корабельных ютах служили панихиды.
Офицеры негромко переговаривались:
– С кончиною Эссена флот осиротел, мы потеряли опытного стратега. Николай Оттович не виноват, что кайзер отодвинул нас к Ирбенам. В любом случае вторая военная навигация будет сложной…
А в нижних палубах – совсем иные разговоры:
– Братишка эссенский в Германии тоже флотом командует. Эссен ему все наши секреты и выдал за четыре тысчонки с походом.
– А мне, братцы, писарь сказывал, будто Колчак об измене Эссена в Ставку донес. Эссен со страху мышьяку крысиного в стакане с водкой развел – и хлестанул натощак без всякой закуски.
– Братва, я больше всех вас знаю.
– Ну?
– Колчак-то сам на эссенское место карабкался.
– Рази?
– Ей-ей…
Эссена не стало. Умер талантливый флотоводец. Именно Эссен из собрания кораблей различной классификации сумел выпестовать флот – как единую боевую организацию. Именно он приучил корабли ходить там, где никто не ходил раньше – из страха распороть днище о камни. При Эссене минное дело было поставлено как нигде в мире. Эссен добился того, что артиллерия русских кораблей накрывала противника почти с первого залпа…
Советская историография высоко оценивает заслуги Эссена как флотоводца. Любимый ученик адмирала Макарова, он «никогда не подавлял самостоятельности и инициативы своих подчиненных, к которым всегда относился с большим уважением…». Многое полезное из тактики Эссена позже было принято и на вооружение советским флотом.
* * *
Перед смертью он видел себе замену в Колчаке, но комфлот никогда не думал, что матрос, получивший от него рублишко на пропой, займет его флагманское место.
Смелость и разумная расторопность Павла Дыбенко стали притчею во языцех на флоте. Не было такого гиблого тральщика на Балтике, не было и такой островной «дыры», где бы не обсуждали столкновения матроса с адмиралом на мостике.
Популярность Дыбенки возникла как-то разом – грандиозная и стихийная. Дерзкий ответ его Эссену, что он способен не только в тюрьме сидеть, но и флотом может командовать, – этот ответ поражал воображение матросов.
Через два года эта популярность придется как раз кстати.
Эссен – не пророк, но перед смертью напророчил удачно.
Скоро! Уже скоро сядет Дыбенко в тюрьму.
Скоро он поведет флот за партией Ленина в Моонзунд…
Чудеса бывают только в революциях!
Беспорядки
Главной причиной всех беспорядков на флоте является недовольство матросов офицерами немецкого происхождения; недовольство это особенно усилилось после явной измены капитана I ранга фон Дена, который командовал крейсером «Новик»… Фон Ден вынужден был застрелиться. После же ареста матросов на «Гангуте» озлобление флота настолько усилилось, что на некоторых судах могут произойти случаи выбрасывания нежелательных офицеров за борт.
Из секретного доклада премьеруРоссийской империи И. Горемыкину(исходящий № бумаги 178383от 17.XI.1915 года).
1
Гельсингфорс! Дыхание войны не коснулось столицы Великого княжества Финляндского… Магазины битком набиты отборными товарами, шумели по вечерам ярко освещенные «Карпаты», где по традиции моряки оставляли свое жалованье, рынки были завалены всяким добром. По чистеньким улицам шлялись разодетые, с пышными муфтами в руках, деловитые красотки, предлагая прохожим офицерам:
– Господин кавторанг, а разве вам не хочется поцеловать меня на сон грядущий?..
Подвластная Российской империи Финляндия не воевала. Финнов не брали на фронт, не облагали их военным налогом. Между тем в стране росло националистическое движение. Отношение же финнов к русским с войною заметно изменилось. На любой вопрос они отделывались кратким «неомюра» («не понимаю», и кончено!). Спиртные напитки были запрещены, но в пивных еще торговали крепким финским «кале», а денатурат шел из-под полы, как и в России. Флот – настороже! – стоял на рейдах Гельсингфорса, до весны закованный в панцирь льда. Всем своим грозным видом русские дредноуты как бы внушали финской столице, что Российская империя не собирается уходить отсюда подобру-поздорову… В морозной дымке рассветов с палуб кораблей виделся уютный город на скалах, золотился купол православного собора, с ранцами за спиной бежали детишки в русские гимназии… Флот линейный – флот чудовищных мастодонтов, способных в жарком дыхании башен оставить от Гельсингфорса пух и перья, прах и пепел!
А на ледовом рейде – своя, особая житуха. Дредноуты напоминают хутора заядлых единоличников, разбросанные подальше один от другого. Сосед, ты не мешай соседу! Для связи между ними протоптаны дороги, укрытые дощатыми настилами с поручнями, между кораблями-хуторами с раннего рассвета бегают заиндевелые лошаденки с санками: когда подвезут дровишки, свежий хлеб, почту, когда навалом тащат подгулявших мичманов с берега. Чтобы сберечь внутри промерзлых громадин тепло, броневые палубы линкоров на время зимы обшиты досками. В командных кубриках топятся печки – и уютно копошится над гаванью дымок. По утрам матросы с гоготом, играя силой, которую девать некуда, покалывают дровишки для камбузов…
Рай! Ну совсем как в родимой деревеньке.
Несведущего человека, попавшего на рейд Гельсингфорса, поражало обилие катков, окруженных веселыми елочками, воткнутыми в сугробы. Каждый дредноут считал нужным соорудить возле катка здоровенную снежную бабу с большими титьками: бабу любовно окрашивали клюквенным квасом, вместо глаз – две картошины, вместо носа – морковка. По вечерам, когда Гельсингфорс утопал в море огней, ревели над рейдом корабельные оркестры, играя трепетные вальсы и мазурки. Из предместий города – по мосткам – приходили стыдливые барышни, держа под локотками, как бальные туфельки, стальные коньки. В блеске разноцветных фонариков начиналось катание под музыку. Матросам выдавали тогда особые свитеры – из белой шерсти, и какой-нибудь баталер Шурка Сметанин лихо выкручивал фортеля на коньках в паре со смешливою финкою Кайсой…
Ах! Немало вспыхнуло романов на льду гельсингфорсского рейда, немало разбилось об лед сердец, сколько поцелуев-то было сорвано украдкой – за теми вон елочками! Все было так. Внешне прекрасно. Но не следует забывать, что во всем этом был заложен глубокий политический смысл… Читатель вправе спросить: а при чем здесь политика? Однако от нее в 1915 году никуда не уйдешь. В этом обилии сверкающих огней, в этих печальных наплывах грустящего вальса, в этих режущих лед коньках – политика. Причем политика эта – контрреволюционная.
Начало ей положил фон Эссен – отличный комфлот, но убежденный монархист. Канин продолжил ее. Адмиралы понимали, что запертый во льдах флот, лишенный с войною заграничных плаваний, которые всегда отвлекали матроса от нужд общественных, – такой флот способен в тягостные зимние вечера засесть за марксизм. В узкие, будто крысиные норы, отсеки (куда редко заглядывают офицеры) опять будут сползаться, словно ужи, и будут читать шепотком, обсуждать – готовить… бунты! бунты! бунты!
Официально же бунты назывались лукавым словом «беспорядок».
Если в дни мира поощрялось в матросах пьянство, тоже спасающее от политики, то теперь – в дни «сухого закона», войны – была найдена пьянству хорошая замена. Пышным букетом на Балтфлоте расцветали кружки самодеятельности, бренчали в кубриках балалайки «самородков», открытых офицерами в корабельных недрах, надрывались в пении глотки сигнальной вахты, приученной для лихости вообще орать, когда надо и не надо.
Но главное – спорт! Эссен премудро, аки змий искушения, залил катки возле кораблей, обсадив их елочками – ради изоляции тех же кораблей. На флоте насаждался культ грубой физической силы, которая издавна восхищает всех моряков. Порою матчи классической борьбы между крейсерами и эсминцами обсуждались с большей горячностью, нежели последние известия с фронта. Каждый корабль, каждый дивизион, каждая бригада имели своего чемпиона. Таких бугаев берегли и холили. Силачам давали по кольцу краковской колбасы в день: хоть тресни – только побеждай. Командование вешало на плечи чемпионов лишние лычки «контриков»… Еще бы не жить!
А чемпионом от 1-й бригады линкоров был гальванер Семенчук.
* * *
Страшно! Трофим Семенчук никогда не забудет этого дня.
Того памятного дня, когда в Крюковских казармах его раздели догола и гоняли от стола к столу. Из самых здоровых врачи выбирали отменно здоровущих – с ногами, словно чугунные кнехты для швартовки. И на спинах крепышей русской провинции цветным мелом писали две непонятные буквы: «Г. Э.». С этими то буквами он и попал в Гвардейский флотский экипаж.
Притихшие сидели новобранцы на нарах. Кто-то пустил слух, что домашние запасы сейчас отберут, а потому надо слопать все сразу. Из мешков сыпалась последняя родная благодать: пироги с треской, яйца печеные, соль в бумажке, сало бабкино, бутылки с топленым молоком, закрытые бумажными затычками. Стали матросы подминать все вчистую, чтобы не было потом жалко. Чавкали. Молча. Испуганно. Без аппетита. Вдруг откуда ни возьмись налетели шакалы-сверхсрочники со своими мешками.
– Ишь, расселись – быдто они в ресторанте. Всякую тут, знашь-понимашь, жратву не по уставу трескают. А ну! Сыпь сюды все, халява скобская… Или не знашь-понимашь, что от неказенной пишши на флоте крысы заводятся?
В жадно растопыренные мешки унтер-офицеров новобранцы покорно кидали остатки домашнего. А в торбе у Семенчука хранилась еще бутылка с водкой. На него и налетели как коршуны:
– Давай водку сюда, такой-сякой-немазаный.
– Да вить крысы-то, – отвечал Семенчук, робея (но со знанием дела), – крысы-то, говорю, от водки никогда не заведутся.
Только он это произнес, как ему врезали по зубам, а бутылку отобрали, внушив при этом:
– Эх ты, серость! Крысы не заводятся – это верно. Зато от водки клопы бывают, которых стерпеть на флоте никак нельзя…
А потом был Кронштадт и была Школа гальванеров. Два года в парня вбивали – безжалостно, как гвозди в стенку! – механику, электротехнику, математику и даже правописание. Гальванер на корабле – птица высокого полета. От самых марсов, с высоты которых «чечевицы» дальномеров прощупывают дистанцию до врага, и до самых нижних отсеков, где высокую алгебру боя в секунды отрабатывают бездушные автоматы, – во всем этом сложнейшем хозяйстве огня, стали, токов и оптики гальванер должен быть точен, неустрашим, проворен, смышлен, вездесущ… Наконец погнали всех – как баранов:
– На каталажку!
На «каталажку» – значит на корабли. Флот – штука странная. Сколько ужасов наслышится новобранец про железные коробки отсеков, похожие на тюремные камеры, про чудовищные взрывы погребов, возносящие корабли к небесам, как пыль, – идет молодой матрос на «каталажку» и трясется всей шкурой… Ать-два, ать-два! Но вот в просвете гельсингфорсской Эспланады яростно блеснет синева, а там зовуще и тревожно закачаются крестовины мачт, – и невольно парни усиливают шаг. Душа сама, будто ликуя, просится в эту синеву, ее влекут к себе своей неземной красотой чеканные профили кораблей, и уже не хочется думать о будущих тягостях. Как бы ни была сурова морская служба, но человек так уж устроен, что лучше пять лет жестокой романтики на море, нежели один месяц постылой жизни в вонючей казарме на берегу…
Трофим Семенчук выдержал – он прошел через все! Из 10 кандидатов на гальванную службу было по 7-8 человек отсева. Люди разбивались в люках, гробились об металл с высоты марсов, они сходили с ума в железных ущельях коридоров – среди горловин, автоматов и башен. Лучшие и выносливые оставались. И вот теперь (теперь-то!) Семенчук даже благодарен судьбе. Сам чувствовал, что выковался в человека, каким раньше и не мечтал быть. Приобрел знания, которые пригодятся и на «гражданке». Полюбил читать книги, а до флота думал, что это дело господское. Одного зуба лишился – это тоже так, но… Повидал Европу, посмотрел, как живут люди за границей, научился и мыслить пошире.
За год до войны Семенчук уже был большевиком…
Трофим – матрос крупный, видный, некурящий. После нелегкой жизни дома он отъелся на жирном корабельном пайке, когда в миске каждого среди кусков мяса ложка дыбом торчала. К французской борьбе он пришел случайно – не ради карьеры: шутя повалил одного, дурачась свалил второго и третьего – сразу началась слава чемпиона. Инструкторы из организации русских «Соколов» взялись за его сильное тело – с таким же напором, как брались когда-то в Школе гальванеров за его голову педагоги. По ночам кости стонали после тренировок. Натертая в схватках шея вздувалась бугром. Вешали ему на шею кранец с пятипудовым снарядом, и бегал Семенчук как угорелый от гюйсштока до кормового флага. А приятели подбадривали:
– Давай, Трошка, наяривай! Ежели Минную дивизию кверху лапками опрокинешь, мы тебе сообча бутылку чистой ханжи поставим…
Семенчук верил, что Минную дивизию он на ковре разложит. Но бригада крейсеров с Або-Аландской позиции растила и нежила под своей броней такого первобытного «лба», который – по слухам! – вручную, без помощи моторов, мог провернуть корабельную башню.
Честь своего линейного корабля «Гангут» гальванер защитил. Уже лежат на лопатках и не пикнут однотипные «Гангуту» линкоры – «Севастополь», «Полтава» и «Петропавловск». А вот дальше-то как? Крейсера, кажется, не шутили. Говорят, по литровой банке сгущенного молока выделяют на прожор своему чемпиону. Ходят по флоту нездоровые, панические слухи, будто этого быка офицеры даже с вахты сняли – лежит теперь кверху пузом на рундуке, силу копит.
– Как фамилия-то его? – дознавался Семенчук о сопернике.
– Безголовый!
Это тоже нехорошо: безголовые-то всегда сильнее головастиков…
А главою подпольной ячейки большевиков на линкоре «Гангут» был унтер-офицер Владимир Полухин[5]5
В. Ф. Полухин (1886—1918) – впоследствии был расстрелян английскими интервентами в числе двадцати шести бакинских комиссаров.
[Закрыть]. Он возглавлял работу и дальше – на всей бригаде «линейщиков». Семенчук – по праву чемпиона – имел доступ на другие корабли, и Полухин частенько использовал борца для связи между партийными ячейками дредноутов. Конспирация соблюдалась строго, ибо политический сыск на флоте был доведен жандармами до идеального совершенства. Водились и «шкуры», которые по ночам в каюты офицеров стукали… Но Полухин, парень башковитый и ловкий, был всегда настороже.
– Сейчас самое главное, – внушал он товарищам, – ты на рожон попусту не прись. Этим ничего не докажешь. Большевик должен быть самым дисциплинированным по службе, самым смелым в бою. Важно, чтобы офицеры нас попусту не теребили. Пусть анархия на пуговицах да курении засыпается. А мы – образцы поведения!
Это верно: большевики на линкорах были примером для других, и почти все члены партии носили на плечах яркие «Контрики» унтер-офицеров. Война внесла в работу большевиков многие нелады. Подпольщики, как правило, с мобилизацией 1914 года потеряли самое главное в работе – связь. Кто не арестован, тот был мобилизован. Один занял патриотическую позицию, а другой просто пропал… Явки пустовали! Связь отсутствовала! А если связь и была, то, видать, струилась неслышными ручейками где-то в глубочайшем подполье, как глухие подземные воды, и было не узнать, где они, эти воды, вырываются на поверхность.
Вот об этом часто на линкорах говорили. Придумывали сообща различные ходы и выходы. Как попасть в Петроград? Невозможно. Даже сидящие в Кронштадте и те, словно замурованные, не могли дальше Ораниенбаума вырваться.
– Хорошо быть раненым, – размышлял Семенчук. – Конечно, чтобы не до смерти шлепнули, а только повредили по мясу… Тогда ты – кум королю: повезут тебя в тыл, вот и связь!
Линейные силы Балтфлота включены в систему главной обороны финского залива, дредноуты находились в повышенной готовности – война есть война, и долг есть долг…
– А в Питере побывать надо, – говорил Полухин. – Без новой литературы, без связи с партией мы заскучаем. Не огурцы же мы соленые, которым только и хорошо, пока они в родимой бочке квасятся… Конечно, есть еще один способ – дезертировать, но, я думаю, никто из нас на это не пойдет!
* * *
Незаметно теплое и приятное лето пришло в шхеры финские. Хорошо спится матросам на палубах под казенными рыжими одеялами. Глядя на чистые звезды, что рассыпаны над ними, допоздна мечтают матросы. О том о сем. О житье-бытье. Как дальше? После войны-то как будет? О любви немало сказано. О ней. Неизбежной…
Договорятся, пока склянки не отбубнят третий час ночи.
– Задрай все дырки, какие имеешь! Братва, спать, спать…
В июне месяце, когда «линейщики» вернулись от Ревеля на Гельсингфорс, приплыла к эскадре финская девушка, плохо знавшая русский язык. Она плавала среди дредноутов – неутомимая, как русалка, вызывая уважение моряков. Длинные желтые волосы, намокнув, венцом окружили ее голову, плавные взмахи рук были прекрасны и грациозны.
Девушка плавала среди дредноутов, везде вопрошая:
– Коля… кте мой Коля? Я люпила Коля…
Несчастная (и, кажется, отвергнутая в любви), она среди множества Николаев с эскадры искала своего. С покатых броневых палуб, сочувствуя ей, кричала разноликая матросня:
– Эй, фамилия-то его как? Николая-то твоего? Знаешь?
– Коля, – доносилось от самой воды до палуб.
Скоро к ней привыкли настолько, что даже тревожились, если она долго не приплывала к эскадре. «Не случилось ли беды?» – говорили тогда матросы. И вся бригада дредноутов волновалась: где же он, этот подлый мерзавец по имени Коля? Видать, соблазнил девку, а теперь прячется за броней казематов…
– Ну, попадись нам этот Коля-Коля-Николай! – злобствовали матросы. – Всю харю ему расколотим. Разве можно девку мучить?
Верная любви к одному, она плавала среди однотипных кораблей, похожих один на другой, как близнецы. Сердца матросов щемило от чужой и суровой трагедии любви.
– Башку оторвем! – ревели палубы на этого «Колю», который затаился на эскадре, уверенный в своей неизвестности…
Слово «пловчиха» тогда еще не привилось в русском языке. Офицеры прозвали эту финку Ундиной, а матросы окрестили ее Русалкой. Девушку часто призывали подняться на борт кораблей, и, кажется, если бы она взошла по трапу, вся бригада устроила бы ей овацию, а оркестры дредноутов, выстроясь на спардеках, исполнили бы для нее гимны всепобеждающей верности женского сердца.
Но этого не случилось.