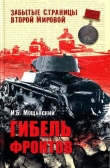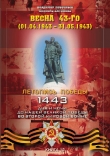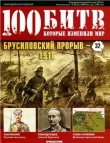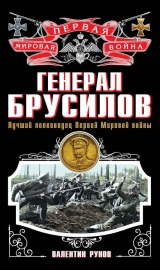
Текст книги "Генерал Брусилов. Лучший полководец Первой Мировой войны"
Автор книги: Валентин Рунов
Жанры:
Cпецслужбы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Кавалерийская школа
После окончания учебы ротмистр Алексей Брусилов, опять-таки по протекции влиятельных родственников, в отличие от других офицеров, не покинул столицу, а был назначен в Офицерскую кавалерийскую школу на должность адъютанта ее начальника. В начале 1886 года генерал И. Ф. Тутолмин был назначен начальником Кавказской кавалерийской дивизии, а вместо него начальником школы был назначен полковник В. А. Сухомлинов – будущий военный министр.
Через несколько лет службы в Офицерской кавалерийской школе Брусилов был назначен начальником ее офицерского отдела (факультета). В это же время он по совместительству занимался организацией верховой езды учеников Пажеского корпуса. Его заслуги в 1895 году были отмечены орденом Святого Владимира 4-й степени.
В середине апреля 1897 года генерал-майор В. А. Сухомлинов был назначен на другую должность, а руководство Офицерской кавалерийской школой принял генерал-лейтенант Александр Александрович Авшаров (Агаси-бек Авшаров). Брусилов его характеризовал следующим образом: «Человек с виду добродушный, но с азиатской хитрецой», который «вследствие ли старости или свойств характера не отличался особым рвением к службе и везде, где мог, старался доставить мне неприятности и затруднения. В сущности, во внутреннем порядке школы всем управлял я, а он был как бы шефом, ничего не делающим и буквально бесполезным. Он старался как будто бы и дружить со мной, но одновременно выказывал большую хитрость, заявляя всем начальствующим лицам, а в особенности великому князю Николаю Николаевичу, что управляет всей школой он и что ему необыкновенно трудно управлять мною и моими помощниками». При этом великий князь Николай Николаевич отлично знал, в чем дело, но потому, что Авшаров имел при дворе большие связи, был вынужден делать вид, что верит генералу.
К тому времени авторитет Брусилова среди кавалеристов был уже достаточно высоким. Среди его учеников было немало известных и влиятельных в то время людей. В 1898 году Алексей Алексеевич награждается орденом Святого Владимира 3-й степени, а когда в сентябре 1898 года для выпускников школы был учрежден специальный нагрудный знак, один из первых его образцов, изготовленных ювелиром по специальному заказу великого князя Николая Николаевича, лично им был вручен Брусилову. В ноябре того же года Алексей Алексеевич был назначен помощником (заместителем) начальника школы, а в 1900 году он производится в генерал-майоры.
Однако его триумф в области подготовки кавалерийских кадров произошел 10 февраля 1902 года, когда Брусилов был назначен начальником Офицерской кавалерийской школы. За предыдущие годы к этой должности он был настолько подготовлен, что никто из офицеров школы не заметил каких-то резких перемен, при том, что эффективность занятий стала значительно выше. Позже К. Маннергейм, служивший в школе под началом Брусилова перед русско-японской войной, вспоминал: «Он был внимательным, строгим, требовательным к подчинённым руководителем и давал очень хорошие знания. Его военные игры и учения на местности по своим разработкам и исполнению были образцовыми и донельзя интересными». И это так. Уже первая проверка школы комиссией генерал-инспектора кавалерии в 1903 году прошла успешно. В ее итоговом акте было указано, что «подготовка кавалерийских офицеров в школе поставлена на высочайший уровень». По итогам этой проверки Брусилов был удостоен ордена Святого Станислава 1-й степени.

Генерал-инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич (Младший).
Нужно отметить, что в Офицерской кавалерийской школе в разное время служили и учились такие известные личности, как генералы Петр Врангель, Петр Краснов, Карл Маннергейм, Алексей Игнатьев.
Сам Брусилов в своих мемуарах пишет:
«Все эти годы моей петербургской жизни протекали в кавалерийских занятиях Офицерской школы, скачках, всевозможных конкурсах, парфорсных охотах, которые позднее были мною заведены сначала в Валдайке, а затем в Поставах Виленской губернии. Считаю, что это дело было поставлено мною хорошо, на широкую ногу, и принесло значительную пользу русской кавалерии. Охоты эти производились с большими сворами собак, со строевыми лошадьми, прекрасно выдержанными, проходившими громадные расстояния без всякой задержки. Время это – одно из лучших в воспоминаниях многих и многих кавалеристов, и сам я вспоминаю эти охоты – создание моих рук – с большой любовью и гордостью, ибо много мне пришлось превозмочь препятствий, много мне вставляли палок в колеса, но я упорно работал, наметив себе определенную цель, и достиг прекрасных результатов».

Знак выпускника Офицерской кавалерийской школы.
Правда, были и другие мнения по вопросам постановки процесса подготовки кавалеристов в этой школе. Так, в частности, граф А. А. Игнатьев, также обучавшийся в Офицерской кавалерийской школе, пишет, что за время руководства ею А. А. Брусиловым она была «коренным образом преобразована и успела уже заслужить репутацию малоприятного учреждения. В ней впервые в России были применены мертвые барьеры, врытые в землю, и особенно пугали так называемые парфорсные охоты. Двухлетний курс школы проходило около ста офицеров кавалерийских полков, а на охоты командировались, кроме того, ежегодно все кандидаты на получение командования полком. Стонали бедные кавалерийские полковники, вынужденные скакать на этих охотах верст десять-двенадцать по пересеченной местности, многие уходили в отставку, не перенеся этого испытания».
Судя по воспоминаниям графа Игнатьева, можно сделать вывод о том, что «самодур» Брусилов специально создал в школе крайне тяжелые условия для обучения, справиться с которыми могли немногие. Но это совсем не так.

А. А. Брусилов с чинами управления Офицерской кавалерийской школы

Парфорсная охота (от франц. parforce– «силой, через силу») представляла собой не что иное, как конную охоту со сворой гончих или борзых собак, обязанностью которых было загнать зверя (зайца, волка, лисицу) путем преследования его до полного изнеможения. Лучшим временем для парфорсной охоты считались осенне-зимние месяцы, начиная с ноября по апрель. Как правило, в такой охоте участвовало несколько десятков всадников и стая от 30 до 40 собак. При преследовании по пересеченной местности всадники должны были преодолевать множество естественных препятствий, для чего нужны были отменные навыки управления лошадью. Брусилов вполне справедливо считал, что кавалерийский командир должен обладать такими качествами.
Другое дело – «мертвые» или вкопанные в землю барьеры. Они были серьезным препятствием для плохо обученных всадников или плохо тренированных лошадей. Зацепив такой барьер, лошадь могла упасть, а всадник – свернуть себе шею. Но Брусилов требовал вначале до мелочей отрабатывать преодоление временных барьеров, и только после этого обучаемый допускался до скачек с «мертвыми» барьерами. Освоив это дело, обучаемый допускался до парфорсной охоты, в ходе которой ему приходилось преодолевать лесные завалы и различные заграждения.
Поэтому Игнатьев, несколько покритиковав Брусилова, затем делает заключение, что «суровые требования кавалерийской школы сыграли полезную роль. Постепенно среди кавалерийских начальников становилось все больше настоящих кавалеристов и все меньше людей, склонных к покою и к ожирению» [2]2
Игнатьев А. А.Пятьдесят лет в строю. М.: Воениздат, 1986.
[Закрыть].
Во время работы Брусилова в Офицерской кавалерийской школе произошли большие изменения в личной жизни. В 1884 году по настоянию родственников он женился на племяннице своего дяди и воспитателя Карла Максимовича Гагемейстера Анне Николаевне фон Гагемейстер.

Подполковник А. А. Брусилов. (1891 г.).
До этого Алексей Алексеевич был хорошо знаком со своей невестой, так как этот брак готовился родственниками заблаговременно. Вероятно, между молодыми особых чувств не было, зато было понимание необходимости и значимости этого союза. Именно поэтому в своих мемуарах Брусилов пишет: «Этот брак был устроен согласно желанию моего дяди, ввиду общих семейных интересов. Но, несмотря на это, я был очень счастлив, любил свою жену горячо».
Но семейная жизнь четы Брусиловых протекала не совсем гладко, и причин тому было несколько. Анна Николаевна оказалась очень слабой здоровьем и часто болела. Вероятно, поэтому, дважды забеременев, она родила мертвых детей. Это обстоятельство послужило поводом для того, что некоторые родственники ее начали упрекать в отступничестве – крещенная при рождении в лютеранской вере, перед замужеством она, несмотря на протесты своих теток, приняла православие. Алексей Алексеевич, стараясь поддержать жену, трижды вывозил ее на курорты в Германию и во Францию. Кроме того, супруги практически каждую осень выезжали на некоторое время на отдых в имение брата жены, находившееся в Эстляндской губернии.
Наконец, общие усилия увенчались успехом. В 1887 году у Брусиловых родился сын, которого они назвали Алексеем. Других детей у них не было.
Многократные неудачные роды, частые болезни жены и прежние занятия спиритизмом вновь заставили Алексея Алексеевича поверить в силу оккультных наук. Он начал изучать соответствующую литературу и устраивать сеансы. В своих воспоминаниях он пишет, что в этих сеансах участвовали представителя высшего петербургского света, такие, как баронесса Мейендорф с дочерью, лейб-гусар князь Гагарин, флигель-адъютант полковник князь Мингрельский, князь Барклай де Толли и многие другие. Приглашался приехавший из Англии некий «медиум» Энглингтон. На его сеансах «происходили поистине необычные феномены. Летали под потолок тяжелые вещи, из другой комнаты при плотно закрытых дверях прилетали тяжелые книги и т. п. Подтасовки тут не могло быть никакой, и я, впервые видя это, был буквально поражен. Несколько позднее явился на петербургском горизонте с юга некий медиум Самбор, у которого тоже мне приходилось наблюдать поразительные явления» [3]3
Брусилов А. А. Мои воспоминания. С. 35.
[Закрыть].
Увлечение оккультными науками, в чем Брусилов признается даже 30 лет спустя, говорит о том, что он всю свою сознательную жизнь находился под их влиянием. Безусловно, что в 90-е годы это происходило также и под влиянием его жены.
В начале 1900-х годов Анна Николаевна в очередной раз сильно заболела. В последние годы она практически не покидала постели и умерла в 1908 году. Брусилов тяжело переживал смерть жены.

Алексей Брусилов (Младший), воспитанник Пажеского корпуса, 1906 г.
Воспитанием сына в раннем возрасте занималась Анна Николаевна, а затем – специально приставленная к мальчику воспитательница-немка. Сам Алексей Алексеевич, практически все время занятый службой, им занимался крайне мало.
По достижении 12-летнего возраста Алексей Брусилов-младший, как и его отец, был определен на учебу в Пажеский корпус, который закончил в 1908 году, незадолго до смерти матери. Он был выпущен корнетом в лейб-гвардии Конно-гренадерский полк, дислоцировавшийся в столице, и полностью окунулся в мир «золотой» молодежи. Позже А. А. Брусилов с некоторой горечью писал: «Любил я его горячо, но отцом был весьма посредственным. Окунувшись с головой в интересы чисто служебные, я не сумел приблизить его к себе, не умел руководить им. Считаю, что это большой грех на моей душе».
Возвращение в строй
19 апреля 1906 года А. А. Брусилов был назначен командиром 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, которая считалась лучшим соединением в Императорской армии. Это назначение он получил по решению своего непосредственного начальника великого князя Николая Николаевича, который лично курировал эту дивизию. В декабре того же года он был произведен в генерал-лейтенанты.
2-я гвардейская кавалерийская дивизия состояла из лейб-гвардии конно-гренадерского, лейб-гвардии уланского, лейб-гвардии гусарского и лейб-гвардии драгунского полков, 2-го дивизиона гвардейской конно-артиллерийской бригады, а также гвардейского запасного кавалерийского полка десятиэскадронного состава. В отношении командиров этих полков сам Алексей Алексеевич дает следующую характеристику.
Командиром лейб-гвардии конно-гренадерского полка был В. Х. Рооп – «человек очень красивый, изящный, корректный, выдержанный», но при этом он «в своем полку почти никакой роли не играл, и корпус офицеров его почему-то не любил».
Совсем другое отношение у подчиненных было к командиру лейб-гвардии уланского полка А. А. Орлову. Брусилов пишет, что он «имел громадное влияние на офицеров своего полка, и все они очень уважали и любили его». При этом «он сильно пил, и даже эта страсть не мешала любви офицеров к нему, а, напротив, как бы увеличивала эту любовь; бывали случаи, когда офицеры скрывали от высших начальствующих лиц его дебоши. Наружность его была исключительно красивая… Заболев скоротечной чахоткой, он был отправлен в Египет, но не доехал туда, умер в пути. Я чрезвычайно сожалел о ранней его смерти».
Лейб-гвардии гусарским полком командовал Б. М. Петрово-Соловово, по оценке Брусилова, «честнейший и откровеннейший человек», которого он очень любил.
Командиром лейб-гвардии драгунского полка был родственник императора герцог Г. Г. Мекленбургский. По оценке Брусилова, «герцог был большой чудак, и как он ни старался быть хорошим полковым командиром, это ему не удавалось». В то же время «он был очень честный, благородный человек и всеми силами старался выполнять свои обязанности».
Говоря об этих людях, Алексей Алексеевич также отмечает, что «все мне верили и считали необходимым стараться угождать мне в той или иной степени».
Но так продолжалось недолго. Через некоторое время герцог Г. Г. Мекленбургский скончался. Командование лейб-драгунским полком принял граф Ф. А. Келлер – также выпускник Пажеского корпуса, участник русско-турецкой и русско-японской войн. Позже, в годы Первой мировой войны, командуя кавалерийской дивизией и конным корпусом, он считался лучшим кавалерийским начальником русской армии. Но Брусилов в своих воспоминаниях о Федоре Артуровиче пишет весьма не лестно, как о человеке, известном своим необычайно высоким ростом, чванством и глупостью, с большой хитрецой, который «карьеру свою делал ловко. Он был храбр, но жесток, и полк его терпеть не мог».
В доказательство этого Брусилов приводит такие факты:

Командир 3-го кавалерийского корпуса Ф. А. Келлер.
«Женат он (Келлер) был на очень скромной и милой особе, княжне Марии Александровне Мурузи, которую все жалели. Однажды ее обидели совершенно незаслуженно благодаря ненависти к ее мужу. Это было в светлый праздник. Она объехала жен всех офицеров полка и пригласила их разговляться у нее. Келлеры были очень стеснены в средствах, но долговязый граф стремился задавать шик (чтобы пригласить всех офицеров гвардейского полка разговляться, нужно было очень потратиться). Хозяева всю ночь прождали гостей у роскошно сервированного стола и дождались только полкового адъютанта, который доложил, что больше никого не будет».
Спустя некоторое время Брусилову стало известно, что офицеры лейб-драгунского полка решили побить своего командира и даже «бросили жребий, кому выпадет эта обязанность». Узнав, что главным зачинщиком этого дела является полковник князь Урусов, он вызвал его к себе и строго предупредил о личной ответственности за данный поступок. Урусов не признал своей вины, тем не менее экзекуция над Келлером не состоялась». Позже, когда в 1924 году была издана переписка Николая II с императрицей, Брусилов прочел и сделал вывод, «что этот граф Келлер старался мне вредить и набросить тень на меня». Тогда он убедился, «что напрасно старался оберегать его от заслуженных побоев офицеров», и пришел к убеждению, что «они были правы в своей ненависти к нему».
Подводя итог рассказу о графе Ф. А. Келлере, хочу напомнить читателю о том, что, во-первых, свои воспоминания Брусилов писал уже в советское время, состоя на службе в Красной Армии. Во-вторых, генерал от кавалерии граф Ф. А. Келлер, в отличие от генерала от кавалерии А. А. Брусилова, в марте 1917 года отказался присягать Временному правительству и был уволен в отставку. Он, до конца оставаясь верным императору, также не пошел служить большевикам или каким-либо другим партиям, в связи с чем в декабре 1918 года и был расстрелян петлюровцами в Киеве. Поэтому не исключено, что Алексей Алексеевич специально дал Келлеру столь нелестную оценку.
Последний год службы Алексея Алексеевича в качестве командира 2-й гвардейской кавалерийской дивизии был омрачен смертью его жены, которая произошла в 1908 году.
В самом начале 1909 года Брусилов получил новое назначение на должность командира 14-го армейского корпуса, штаб которого находился в Люблине. Вначале начальником штаба корпуса был генерал Федоров – «человек очень толковый, дельный и симпатичный», которого вскоре сменил генерал-майор Леонтович, «раздражительный, подозрительный, болезненный, неприятный человек». Брусилов добился его перевода на другую должность, и начальником штаба корпуса были последовательно назначены полковники С. А. Сухомлин – «в высшей степени толковый и исполнительный человек», В. В. Воронецкий и генерал-майор В. Г. Леонтьев – «умный, дельный, но, к сожалению, очень болезненный человек». Таким образом, всего за три года в должности начальника штаба 14-го армейского корпуса отметилось пять человек. Вполне понятно, что ни один из них не успел как следует вникнуть в свою должность, в результате чего Брусилову приходилось управлять корпусом самостоятельно.
В это время были у Алексея Алексеевича столкновения и с руководителями местной власти, в частности с люблинским губернатором – толстяком N, который хотя и был «в высшей степени светский и любезный человек, но весьма самоуверенный и часто делавший большие промахи».
Брусилов жил в казармах напротив великолепного городского сада и ежедневно с собакой прогуливался по его тенистым чудесным аллеям. Но в один прекрасный день при входе в сад он увидел объявление о том, что нижним чинам и собакам туда вход воспрещен. Вернувшись в свой штаб, Брусилов приказал издать приказ о том, чтобы все генералы и офицеры наряду с солдатами не входили в этот сад, и сообщил об этом командующему войсками округа, который был также и генерал-губернатором всего края. Разразился большой скандал. Генерал Скалон не только издал приказ об отмене распоряжения губернатора, но и лично приезжал к Брусилову с извинениями. А в 1909 году Алексей Алексеевич из рук Скалона получил орден Святой Анны 1-й степени.
Жизнь Брусилова в Люблине протекала в служебных заботах, но не интересно. У него была прекрасная квартира в девять или десять комнат, балкон выходил в великолепный городской сад, «и вообще все было ладно, кроме одного – отсутствовала хозяйка». Поэтому вскоре он принимает решение снова жениться, наметив в качестве своей избранницы некую журналистку Надежду Владимировну Желиховскую – племянницу своей двоюродной сестры, которую знал еще молоденькой девушкой, с которой он встречался вначале в Тифлисе, а затем в Петербурге.
В своих мемуарах Алексей Алексеевич достаточно полно описывает все свои переживания, связанные с этим решением, и пишет, что «эти переживания были очень тяжелые». В этих колебаниях прошел год. Но в конце концов 57-летний вдовец предложил руку 45-летней Надежде Владимировне Желиховской.
Как и Брусилов, семья Желиховских была связана с Кавказом. Отец Надежды Владимировны, Владимир Иванович, директор Тифлисской классической гимназии, а позднее помощник попечителя Кавказского учебного округа, умер в 1880 году. Мать, Вера Петровна, урожденная Ган (по первому мужу Яхонтова) – популярная детская писательница 1890-х годов прошлого века.
Приняв решение, Брусилов действовал энергично. Эта предпринятая им осенью 1910 года стремительная наступательная операция на личном фронте как бы предвосхитила образ действий командующего 8-й армией летом 1914 года и командующего Юго-Западным фронтом летом 1916 года – та же ошеломляющая нетрадиционность замысла, та же продуманная тщательность подготовки, наконец, та же решительность в ходе осуществления самой операции. Сохранившиеся в архиве письма Брусилова к Желиховской позволяют лучше проследить развитие событий.

Желиховская Надежда Владимировна.
16 сентября 1910 года Брусиловым было направлено первое письмо Надежде Владимировне. Он писал: «Многоуважаемая Надежда Владимировна! На всякий случай пишу Вам, не будучи уверен, что мое письмо до Вас дойдет, и не зная, захотите ли Вы мне ответить. Живу я теперь одинокий в г. Люблине по занимаемой мною должности командира 14 армейского корпуса. Должность высокая, власть большая, подчиненных пропасть, но благодаря всему этому… тоскливо. Вот я и подумал со старыми знакомыми и друзьями начать переписку… Я случайно узнал Ваш адрес, но право не знаю, впрок ли он. Пишу на удачу. Мне много приходится разъезжать по войскам, а потому не сетуйте, если я Вам не сейчас отвечу, но, пожалуйста, отвечайте мне сейчас (подчеркнуто Брусиловым. – А. Г.), если только желаете мне ответить, и пишите подробно о себе».
Желиховская, видимо, хорошо поняла «намек» и ответила соответствующим образом. Едва получив ее ответ, генерал поспешил закрепить достигнутый успех. Он пишет: «Милая, дорогая Надежда Владимировна! Только что вернулся из объезда войск и застал Ваше обширное письмо, которому очень обрадовался. Спасибо Вам за него… На Ваше подробное письмо о Вашем житье-бытье и я опишу Вам мою жизнь; таким образом, хоть издали, мы с Вами сблизимся по-старому». Ниже он подробно написал о своем одиночестве в большом и очень благоустроенном на заграничный манер городе Люблине, о квартире, о жалованье и о родственниках. Свое письмо Брусилов закончил просьбой не забывать «старого друга».
Надежда Владимировна, которая к 45 годам уже, видимо, и не мечтала о замужестве, с большим «интересом» отнеслась к перечню всех благ, которые сулил ей брак с Брусиловым. После ее очередного скорого ответа в письме от 3 октября обнадеженный Брусилов решил написать о главном:
«Многоуважаемая и дорогая Надежда Владимировна! Вы будете, вероятно, очень удивлены, читая это письмо, но прошу Вас дочитать его до конца, обдумать его содержание и ответить вполне искренно, в той же степени, в какой и я Вам теперь пишу.
2 1/2 года назад, как Вам известно, я, к моему большому горю, овдовел. Я крепко любил мою жену, и ее потеря была для меня тяжким ударом…
Невзирая на видное положение и большой служебный успех, дающие мне полные основания полагать, что моя карьера не остановится должностью Корпусного командира, ничто меня не радует и отсутствие подруги жизни меня страшно угнетает…
Единственная женщина в мире, с которой я мог бы связать опять свою судьбу, – это Вы… Я хотел бы просить Вас принять мою руку и только, чтобы узнать верность Вашего адреса, я и писал Вам… Очевидно, если бы Вы, в принципе, приняли мое предложение, то нам было бы необходимо предварительно о многом переговорить».
И в завершение: «Я не хотел бы долго тянуть, повидать бы Вас и переговорить в последних числах этого месяца, когда у меня будет несколько свободных дней, а в 1/2 ноября мы бы повенчались, если наши переговоры увенчаются успехом».
Правда, в целях того, чтобы его намерения не стали достоянием широкой общественности, Брусилов просил Желиховскую свой ответ дать по телеграфу, а свое письмо отправил с пометкой «Секретно».
И тут Желиховская почему-то начала колебаться. Но бомбардировка ее письмами Брусилова продолжалась. Затем состоялось их свидание, в ходе которого Надежда Владимировна дала свое согласие. Но, как видно, у Брусилова появились сомнения в искренности чувств своей избранницы. Он попросил невесту еще раз «поразмыслить свой шаг» и предложил отсрочить свадьбу на два месяца. В своем письме от 4 ноября он писал:
«По многим данным, в Тебе я уверен не был. Это правда, что я ворвался в Твою жизнь как ураган, и я опасался, что в вихре его Ты не разобралась и будешь потом жалеть об этом непоправимом шаге. А потому, оставляя себя связанным по отношению к Тебе, я предоставлял Тебе свободу мне отказать или же отложить свадьбу, чтобы осмотреться… Как только Ты заявила, что желаешь теперь же связать свою жизнь с моей, я тотчас же это и устроил с радостью… Мне именно нужно было, чтобы Ты решила сама и потребовала свадьбы теперь же, чтобы это исходило от Тебя, по свободной воле».
Но теперь объяснений требовала уже сама Желиховская. Оправдываясь, Брусилов писал: «Я не мог исполнить Твоего желания ускорить нашу свадьбу на 8-е потому, что не хватило бы времени на исполнение всех формальностей и на получение разрешения вступить в брак, ибо Скалон ездил в Вержболово встречать Государя и вернулся только сегодня, а разрешение он должен сам подписать».
Получив согласие, Брусилов разработал детальный план венчания. Он не хотел, чтобы оно произошло в Люблине. Он решил организовать его в Ковеле, находившемся между Люблином и Одессой, где сходились железнодорожные линии из этих городов и был дислоцирован подчиненный Брусилову драгунский полк. При этом к самой церемонии он отнесся очень внимательно. Он инструктировал Желиховскую: «Имей в виду, что венчаться женщина должна с покрытой головой, таков церковный устав. Так как Ты венчаешься в дорожном, а не в свадебном платье, то нужно будет Тебе иметь (не знаю, как это у вас называется) чепец или наладку или же не чрезмерно высокую и широкую шляпу на голове».
В следующем письме от 6 ноября Брусилов оговаривает способ оповещения о выезде своей невесты из Одессы в Ковель. Он пишет: «Дорогая моя невесточка! 9-го ноября, при отъезде из Одессы в 11 ч. 50 м. у[тра], пошли две телеграммы на мое имя. Одну – срочную в Люблин (иначе я ее, наверно, не успею получить), а другую: Ковель, вокзал, до востребования, генералу Брусилову. В обоих сообщай кратко о часе выезда. Таким образом, не здесь, так там, я получу одно или оба извещения о твоем выезде».
Брусилов встретил свою невесту на вокзале в Ковеле утром 10 ноября. Венчание состоялось в церкви драгунского полка. Жених был в блестящем парадном мундире, невеста – в сером суконном дорожном платье и белой шляпе. На венчании присутствовало всего несколько свидетелей. Родственникам и знакомым, в соответствии со списком, составленным Брусиловым, только были посланы извещения.
Из Ковеля в Люблин Брусилов вернулся уже женатым человеком, и последний год в этом городе он прожил уже с женой, «которая вскоре завоевала все симпатии в городе и в войсках».
Правда, 1911 год для Брусилова прошел в заботах. Осенью на базе войск Варшавского военного округа, в том числе и 14-го армейского корпуса, проводились большие маневры. Затем начались пробные полеты самолетов, которые тогда только начали поступать в русскую армию. В связи с этим в округ постоянно приезжали великие князья, различное начальство и иностранцы со всеми вытекающими из этого последствиями.
15 мая 1912 года Брусилов был назначен помощником командующего войсками Варшавского военного округа генерал-адъютанта Г. А. Скалона и должен был переехать в Варшаву. Надежда Владимировна, которая к тому времени уже обжилась в Люблине и очень мало интересовалась карьерой мужа, не хотела переезжать в шумную Варшаву. Но делать было нечего…

А. А. Брусилов – помощник командующего войсками Варшавского военного округа (1912 г.).
Варшава Брусиловых встретила не очень радушно – остро встал так называемый «квартирный вопрос». Брусилов пишет: «В это время весь служебный персонал Варшавы жил в казенных прекрасных квартирах, а генерал Скалон – в замке бывших польских королей. Но для его помощника казенной квартиры не было». Поэтому Брусиловым пришлось снять частную квартиру, которой они были очень довольны. Кроме того, так как ему по должности была положена служебная дача, то Надежда Владимировна «с радостью поехала туда». Эта дача находилась в 30 верстах от города, в упраздненной крепости Зегрж, на берегу широкой реки Буго-Нарев, в месте, где располагались служебные дачи и других высших чинов Варшавского военного округа. Она представляла собой поистине райский уголок – большой дом со всеми приспособлениями для удобной и приятной жизни, как летом, так и зимой, громадный парк, чудный фруктовый сад, цветник. Дача соединялась с штабом округа телефонной связью. «Искусный садовник ежедневно скрашивал нашу жизнь редкими цветами, фруктами и ягодами. Это была не жизнь, а сплошной праздник».
В начале декабря того же года Брусилов был произведен в генералы от кавалерии.
Служба в целом складывалась удачно. В то же время сам Алексей Алексеевич, правда уже значительно позже, в советское время, писал, что в его службе в это время были и определенные минусы.
Во-первых, некоторым не нравилось то, что жена помощника командующего войсками округа, вместо того чтобы блистать в варшавском обществе, слишком увлеклась благотворительной деятельностью в Зегрже, где находилась дача Брусиловых. Она открыла там школу для русских детей вместе с польскими и еврейскими, зимой устраивала им елку, снабжала детскими книгами. И это при том, что, как пишет сам Брусилов, «в Варшаве нас окружало блестящее общество, элегантная жизнь, множество театров, в которых у меня были свои ложи (по очереди с начальником штаба), концерты, рауты, обеды, балы, невообразимый водоворот светской и пустой жизни, сплетни и интриги».
Тем не менее, даже несмотря на некоторые расхождения во взглядах на место супруги командующего, у нее «понемногу наладилось дело и составился более интимный и симпатичный кружок знакомых».
Во-вторых, ему не нравилось засилье немцев среди командного состава Варшавского округа. Немцем был генерал-губернатор Скалон. Он был женат на баронессе Корф. Ее родственник, барон Корф, был губернатором, помощником генерал-губернатора был Эссен, управляющим конторой Государственного банка – барон Тизенгаузен, начальником дворцового управления – Тиздель, обер-полицмейстером – Мейер, президентом города Варшавы – Миллер, прокурором – Гессе и т. д.
Алексей Алексеевич считал, что виноват в этом был прежде всего «немец до мозга костей командующий войсками Варшавского военного округа, генерал-адъютант Скалон, который «считал, что Россия должна быть в неразрывной дружбе с Германией, причем был убежден, что Германия должна командовать Россией». Более того, он находился «в тесных отношениях с немецким генеральным консулом в Варшаве бароном Брюком, от которого, как многие мне это говорили, никаких секретов у него не было». Брюка Брусилов подозревал в шпионаже в пользу Германии.
Придя к таким выводам, Брусилов написал на Скалона донос военному министру Сухомлинову, но письмо попало в руки начальника варшавского жандармского управления, тоже немца, генерала Утгофа, который сообщил о нем Скалону. Безусловно, после этого отношения между командующим округом и его помощником испортились. И Брусилов сделал все возможное для того, чтобы поскорее уехать из Варшавы. Он добился своего назначения командиром 12-го армейского корпуса, входившего в состав Киевского военного округа.