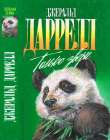Текст книги "Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла"
Автор книги: Вадим Михайлин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Единственное, что, подобно рекомендованной Персуорденом оси, объединяет эти три пласта, – Время. Распрямляясь из мифологической цикличности в эпическую линейность, разрывая себя на отдельные линейные участки пути с вымеренным километражем в лирической дискретности, Время так или иначе остается Демиургом, богом этого мира, оно привыкло притворяться в его пределах всесильным. Путь человека, по Дарреллу, – пробиться сквозь время к геральдической вселенной, и ведут к ней две дороги – любовь и творчество, которые лишь поначалу и только новичку, Влюбленному из Книги Таро, кажутся дорогами разными, ибо ни то ни другое не существует в отдельности. Художник без любви мертв, ему не одолеть «пути наверх», здесь Даррелл полностью солидарен с Лоренсом: недаром в тех же пассажах «Разговоров», где речь идет о Сексе и Культуре, о Сексе и Творчестве (и Времени, естественно), явственно слышится тяжелая, неторопливая поступь Лоренсовой эссеистики и щелканье Лоренсова бича. «Энергия секса и энергия созидания идут рука об руку. И то и дело перетекают друг в друга – солнечная сексуальная и лунная созидательная в извечном своем диалоге. Вдвоем они оседлали змеиную спираль времени. Вдвоем обнимают весь спектр человеческих мотивов и целей. Истину можно сыскать только в наших собственных кишках – истину Времени». И немного выше, уже и вовсе по-лоренсовски: «…культура означает секс, знание корней и знание корнями, там же, где способность эта разрушается или уродуется, ее производные, вроде религии, восходят в карликовых либо искривленных формах – и вместо мистической розы мы получаем приевреенную цветную капусту, как мормоны или вегетарианцы, вместо художников – скулящих сосунков, вместо философии – семантику!»
Евангельские аллюзии в «Клеа»
Отсылки к Евангелию, выходящие на поверхность именно в «Клеа», имеют с точки зрения общего целого две основные функции. Во-первых, священная история и традиционная христианская мистика – это именно тот общекультурный фон, на почве которого «объективная история» в духе «Маунтолива» может быть соединена с гностическими и оккультными построениями, сделав их логику более явной и доступной для воспринимающего, не обремененного специальными знаниями (ср. сходное использование также связанного с данным тематическим полем образа Дьявола). Во-вторых, история и смысл учения Христа, обстоятельства его жизни и смерти, интерпретируемые Дарреллом с точки зрения, близкой к традиции европейского тайнознания и некоторых гностических учений, используются в «Квартете» в качестве скрытого иллюстративного материала к основной линии даррелловской проповеди, ориентированной на личность «восходящего пути».
Параллель между Художником и Христом, помимо частных отсылок, подкрепляется символической природой Повешенного, в позе которого отражен тот же мистический знак преодоления плотской и личностной отьединенности «кесарю – кесарево», что и в позе распятого Христа. Прямая связь между Христом и Повешенным устойчива в европейской мистике, так что Даррелл опирается здесь на достаточно разработанную традицию (идеи искупительной жертвы, добровольного подчинения «постигшей» личности высшей необходимости, возвращения к божественной сущности в жертве, воплощения Солнца – Божественного логоса и т. д.). Через посредство образа Христа-Повешенного у Даррелла связываются воедино, кроме того, еще и судьбы Художника и Женщины: Клеа, чья рука прибита гарпуном к обломкам судна, явно уподоблена Распятому (ср. символические смыслы креста). Тематические параллели возникают даже на лексическом уровне, не говоря уже о структурном и ситуативном контекстах («повешенные» греческие моряки, указывающие дорогу к распятию, и т. д.).
Некоторые другие отсылки к евангельской истории становятся более понятными при учете специфического угла зрения, под которым Даррелл рассматривает христианство. Персуорден, которого в данном случае можно по привычке считать подставным лицом автора, на вопрос анкеты о вероисповедании отвечает, что он протестант – из чистого чувства протеста. По Дарреллу, христианство в любой его разновидности извращает и приспосабливает к нуждам мира сего великое учение Христа, опираясь на буквалистическое толкование тенденциозно отобранных евангельских текстов. В отрывке из «Разговоров», посвященном Лоренсу, Даррелл «намекает» на свое кредо. «Как прекрасна отчаянная борьба Лоренса: освободить свою природу, от и до, разбить оковы Ветхого Завета, он сверкнул на небосклоне бьющимся могучим белым телом человека-рыбы, последний христианский мученик. Его борьба есть наша борьба – освободить Иисуса от Моисея. На краткий миг сие казалось достижимым, но святой Павел восстановил утраченное равновесие, и железные кандалы иудейской тюрьмы сомкнулись на растущей душе навсегда». «Евангелический» пафос здесь отнюдь не схож с традиционным, к примеру баптистским или раннереформатским, недоверием к Ветхому Завету, так или иначе опирающимся на догматические расхождения в восприятии канонических текстов (как у немецких протестантов XVI века, настаивавших на буквалистическом чтении Ветхого, а во многом и Нового Завета и опиравшихся в полемике со своими католическими оппонентами на воспринятые буквально послания святого Павла, которые и «закрепили законодательно», по Дарреллу, социально-нормативное искажение сущности учения Христа). Ориентированные на эпическое сознание, на норму, трактовки святого Павла, как и само возникновение христианской Церкви в ее традиционном виде, стали возможны лишь в результате изначального отхода от действительного смысла проповеди Иисуса Христа. Апостол Петр, самонадеянно убеждающий Христа на тайной вечере в своей преданности, получает в ответ ироническое по сути уверение в том, что, прежде чем пропоет петух, он трижды отречется от Учителя. Буквалистическое толкование опирается в качестве оправдания этого предсказания на троекратный отказ Петра подтвердить свою близость к Христу во дворце первосвященников. Но истинное предательство было совершено ранее – еще на Масличной горе, где Иисус просил Петра, Иоанна и Иакова бодрствовать с ним, но трижды находил их спящими. Есть ли необходимость пояснить символический смысл призыва к бодрствованию: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет»?[61]61
Мф. 24, 42; 25, 13, Мк. 13, 33.
[Закрыть] Ведь именно пес, постоянный спутник таротного Дурака, и не дает ему «задремать в пути». Не есть ли «повторное» отречение лишь пояснение для Петра, единственного из апостолов, кто не понял смысла свершившегося и возымел гордыню пойти вслед за Христом, не сумев идти вослед Ему? И не является ли троекратное вопрошание Петра воскресшим Христом: «Любишь ли ты меня?» – вкупе с троекратным указанием-рефреном «Паси овец моих» одновременно напоминанием о предательстве и своего рода епитимье?[62]62
Ин. 21, 15–15.
[Закрыть] Ведь из всех учеников именно трое не выдержавших испытания на Масличной горе остались основывать церковь в Иерусалиме. Итак, Масличная гора – место настоящего отречения учеников от Христа.
В этом контексте становится понятной и символическая роль имени основного антипода Художника (ср. символическое значение имени Персуорден) в «Квартете» – Маунтолива (в «Монсеньоре», первом романе «Авиньонского квинтета», это имя раскладывается на сочетание слов «Масличная гора»), променявшего путь Влюбленного на дороги мира сего. Как и у Элиота, Божественный Логос, воплощенный в Христе, живая вода, дан лишь идущим и обходит стороной мертвенную статичность царства Короля-Рыбака, Маунтолив, Масличная гора, – это победа Закона над Духом, Тьмы над Светом (ср. символику рисунка таротного Дьявола). Персуорден, Художник вообще – выход Духа из-под власти Закона, прямое восприятие сущностей без «социально-этического» и личностного их преломления – первородного греха мира, отпавшего от единства бытия. Здесь и следует искать основную цель и главный смысл проповеди Христа. Не это ли пафос исполненной могучей иронии Нагорной проповеди? «Блаженны нищие духом (нищие в духе, взыскующие духа. – В. М.), ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».[63]63
Мф. 5, 3–5.
[Закрыть] Итак, каждому – по дерзновению его. «Подзаконный» Маунтолив как раз и наследовал землю в блаженном оцепенении, ибо большего и не искал. А далее, после иронической посылки об исполнении законов, прямой призыв превзойти Закон в той мере, в которой каждый способен: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном (то есть в любом случае войдет в него. – В. М.); а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном».[64]64
Мф. 5, 19.
[Закрыть]
Четыре книги «Александрийского квартета»: подобие экспертной оценки
Попробуем выстроить все четыре книги в ряд и подвести черту.
«Жюстин», первый роман тетралогии, имеет, на наш взгляд, выраженную лирическую природу. Объект повествования целиком и полностью растворен в субъект – предметом текста являются воспоминания протагониста. Субъект многослоен и многопланов – наряду с некоторой долей прустовской маскировки авторского «я» под протагониста (помимо общей автобиографичности, внешне выраженной в сходстве имен Л.-Г. Даррелла и Л.-Г. Дарли), дающей ему возможность, прячась за показную искренность лирического «я» главного героя, выполнять роль всепроникающего организатора текста, субъект повествования в различной степени растворен практически во всех основных персонажах романа. Персонажи, как и сюжеты, неизбежно играют чисто вещественную, кукольную роль, являясь инструментарием эксперимента по возможно более полному раскрытию возможности субъекта и текста. Эта «вещественность» закрепляется «объективностью» явных источников текста – обильно цитируемых дневников, писем, романов и т. д., объединенных исключительно лирическим «я» протагониста, восходящим к авторскому. Сюжетная последовательность сведена к минимуму, акцент восприятия переносится на логику движения внутренних смыслов текста, относящихся к его символической основе. Рациональный, «эссеистический» пласт субъекта незначителен и служит в первом романе «Квартета» в первую очередь для «подсказки» нужного направления поиска параллелей, для «наведения мостов» от поверхности текста к обнаруживаемому время от времени символическому «скелету», готовя таким образом базу для более активного его функционирования в других романах тетралогии. Пространство экзотично и карнавально и, помимо символической и сюжетной нагрузки, выполняет в основном роль лирического фона, отражающего внутритекстовое движение смыслов.
«Бальтазар» сохраняет выраженную лирическую природу при некотором усложнении общей типологической картины. Объект по-прежнему растворен в субъкте, а введение «чужого» текстового материала, полемичного по отношению к первоначальной точке зрения, рассматривается скорее как прием письма, не меняющий в целом типологическую природу романа. Создаваемая таким образом смысловая полемика носит внутритекстовой характер и воспринимается скорее как самоирония текста, а не как элемент типологии романа-парафразы, поскольку и старая, и новая точки зрения на текст объединены в рамках одного и того же в достаточной степени статичного субъекта. Несколько усиливается эссеистическое начало, но не настолько, чтобы составить предмет отдельного рассмотрения. Укреплена конструктивная основа текста за счет обращения к достаточно жесткой системе образов Книги Таро, а не к аморфной образной структуре гностического мифа. Оба «скелета» сведены воедино и составляют, взаимно дополняя друг друга, общую внутренне непротиворечивую структурную основу текста двух романов. Предполагается знакомство читателя с большинством сюжетных ситуаций, что позволяет при варьировании темы усилить акцент на ее многослойном символическом подтексте, на взаимодействии двух уже известных его макрокомпонентов – гностического и оккультного «скелетов». Пространство начинает играть несколько более активную роль, образуя самостоятельную составляющую весьма важной темы смерти. Особенно это касается наметившегося противопоставления Города и Дельты, которое получит дальнейшее развитие в романе «Маунтолив».
Действие романа «Маунтолив» носит линейный характер, в центре повествования – субъект, внутренняя эволюция которого и является предметом текста. Субъективно-объективные отношения разрабатываются с тягой к уравновешенности и отвечают в целом традиционной реалистической («бальзаковской») модели. Повествование объективировано и ведется от третьего лица, повествователь всеведущ, и предполагается, что излагаемые им истины носят общезначимый характер. В то же время внутренний мир центральных персонажей разработан достаточно глубоко, каждый из них обладает самостоятельным «голосом» и служит предметом исследования. Образность носит обобщенный характер и, следовательно, также претендует на общезначимость эстетического воздействия. Центральный конфликт – между идеалом и действительностью – решается на основе симметричной композиции, где изменившийся персонаж возвращается в начальную точку пути. Пафос текста – констатация неизбежности утраты духовных ценностей в современном мире и героизация стоического сопротивления уходящего патриархального типа личности. Текст в общих чертах отвечает традиционной модели романа «минус воспитание» как разновидности романа воспитания. Стиль письма импрессионистичен, с элементами натурализма и романтической возвышенности. Но истинная природа этого текста, понимаемого как часть макротекста тетралогии, носит совершенно иной характер. Форма и проблематика традиционного романа воспитания используются Дарреллом в качестве плацдарма для полемики со свойственным искусству XIX века способом видения мира. Бартовская «ответственность формы», обязательная «заряженность» устоявшихся литературных структур устоявшимися же коннотативными смыслами и интенциями служит у Даррелла стимулом к пробуждению активной читательской субъективности. Персонаж, действие и пространство абсолютно несостоятельны, так как их «свобода» является лишь функцией от «переосмысленного» текста, который самостоятелен только внутри себя и вне контекста. Максимальное внимание привлечено к движению макротекстуальных смыслов, для которых «переосмысляемый» текст лишь поставляет коннотативно заряженный материал. Таким образом, роман «Маунтолив» можно считать в достаточной степени чистым случаем романа-парафразы.
«Клеа». При сохраняющемся для трех субъективных романов тетралогии общем тяготении к лирическому роману типологическая картина снова усложняется, и на сей раз весьма существенно. Текст ориентирован на выявление символического подтекста, обнажение конструктивных элементов, игру структурами и смыслами. Образно-понятийные и символические «скелеты», служившие основой для предыдущих романов, сводятся воедино, становятся фундаментом для создания по сути чисто игровой «геральдической» системы символов и тем самым существенно снижаются. Лирическое единство субъекта и объекта время от времени уступает место натиску игровой стихии текста, который в ряде случаев становится самодовлеющим. Действие, которое в отличие от «Жюстин» и «Бальтазара» развивается линейно, полностью обнаруживает свою условную природу, выполняя роль «внешнего скелета» текста. Персонаж и пространство, почти полностью освободившиеся от внешней сюжетной и «достоверностной» обусловленности, открыто принимают участие в выходящей на поверхность карнавальной процессии смыслов. Объемные эссеистические вставки, сюжетно почти не мотивированные, довершают иронический «разгром» традиционной романной формы, вводя при этом комплекс идей, параллельный «нелинейному» потоку смыслов окружающего символического контекста. Проповедь, тенденция к которой явственно ощутима в эссеистических частях романа, не претендует на «достоверные» «внешнесюжетные» иллюстрации, а посему не имеет и морализаторской окраски, дублируя на рациональном уровне разрешение конфликта, прочно и бесповоротно перешедшего в область условно-символического.
«Александрийский квартет» как единое целое
Итак, три романа из четырех, составляющих «Квартет», в той или иной степени ориентированы на лирический роман, четвертый же представляет собой вариант романа-парафразы. Но типологическая природа тетралогии в целом представляется явлением более сложным. В предшествующих статьях я в силу необходимости рассматривал каждый роман как самостоятельное, внутри себя завершенное целое, ибо только таким образом можно было вычленить в многомерном лабиринте «Квартета» преобладающие в том или ином тексте «несущие конструкции», проследить их взаимосвязь и взаимодействие с системами персонажей, действия и пространства. Но уже при анализе романа «Маунтолив» для оправдания предложенной версии его типологии я вынужден был частично опереться на «общую панораму», затронуть взаимосвязь текста романа с макротекстом тетралогии. И сразу же в сухую ткань анализа были введены категории иронии и игры, ибо общий контекст «Квартета» носит ярко выраженный иронический характер (имеется в виду прежде всего «серьезная» надсубъективная ирония романтической ориентации), сама же тетралогия, как и всякое произведение искусства, есть форма бытия – состояния игры, но в отличие от множества других соположенных феноменов она явно «осознает» свою природу.
Уже в «Жюстин» Дарли, в целом весьма высоко оценивающий роман «Mœurs» своего предшественника в литературе и в общении с Жюстин Жакоба Арноти, пишет о нем: «Чего не хватает его вещи – впрочем, это относится к любой вещи, не достигшей уровня „свежего слова“, – так это чувства игры». Тем не менее именно Арноти пишет о романе, в котором «на первой странице – выжимка сюжета в нескольких строках. Таким образом, мы могли бы разделаться с повествовательной интонацией. А вслед за этим – драма, освобожденная от груза формы». Эта чисто конструктивистская по своей сути идея маскировки истинной структуры текста путем слишком явной ее демонстрации на первой же странице используется самим Дарреллом во всех четырех романах «Квартета» (а следовательно, и Дарли, столь нелицеприятно критикующим литературного собрата, – в трех из них). Повторяемость одного и того же приема из романа в роман (в том числе и в весьма разнородных текстах) создает на уровне макротекста, помимо определенной смысловой сетки ожиданий, ритм, структуру как непременный элемент игрового движения – в отличие от «идеологических» структур, несущих конструкций отдельных текстов. Здесь мы впервые касаемся проблемы авторской субъективности в макротексте тетралогии, ибо игра в высшем смысле слова, не как «изображение», но как мимесис, воспроизведение божественного самодвижения сущего с неявной целью его постижения в процессе игры, отнюдь не ориентирована на личность играющего (творящего – в случае с произведением искусства) и лишь использует ее в процессе самостановления. «…Субъект игры, – пишет Х.-Г. Гадамер, – это явно не субъективность того, кто наряду с другими видами деятельности предается также и игре, но лишь сама игра». И далее: «Структурная упорядоченность игры дает возможность игроку как бы раствориться в ней».[65]65
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М. 1988. С. 150.
[Закрыть] Всесильная ирония оказывается обоюдоострым оружием: «ставя на место» любую якобы самодостаточную в рамках произведения конструкцию, она проделывает ту же операцию и с источником этих конструкций – творческой личностью со всеми ее претензиями на присвоение объекта. Итак, на авансцену выходит всесильный текст, осознающий свою игровую сущность и растворяющий в себе тот самый субъект, который только что одержал уверенную победу над «объективностью». «Геральдическая Вселенная» Лоренса Даррелла воспринимает собственного творца как некий первотолчок, через который она обрела бытие, но который, творя ее, является ее же составной частью (Даррелл не дает все же тексту упиваться греховной гордыней, быстро ставя его на положенное место в замкнутой формуле постижения и движения смыслов «автор – текст – читатель», где все члены равноправны), подтверждая свою (вселенной) игровую природу. Недаром в одном из писем к Генри Миллеру Даррелл пишет: «Я пытаюсь вычленить самый момент созидания, в котором, как мне кажется, творец существует геральдически».[66]66
Durrell Lawrence, Miller Henry. A Private Correspondence. P. 23.
[Закрыть]
Самодостаточный в своей символической всеохватности «геральдический» мир «Квартета» (и даррелловского «гиганта» вообще) – это книга-мир, замыкающая на себе пространство и уничтожающая тем самым время, возрождая барочный мир-книгу. Отсюда красочность и избыточность даррелловского стиля, громоздящего друг на друга статичные именные конструкции в попытке одновременно и скрыть, и подчеркнуть сущность определяемого – архитектурные излишества барочного дворца. Отсюда же и его способность к гротескному сочетанию самых разноплановых сущностей в одной фразе – к примеру, сюжетно «интересного», пропитанного чувственностью случайного прикосновения протагониста к груди любимой женщины и отсылающего к символическому контексту элегического замечания о пожаре в александрийской библиотеке.
Мир этот подчеркнуто литературен – сошлюсь хотя бы на письма Клеа, регулярно помещаемые Дарреллом в конце каждого субъективого романа с целью подытожить его, вместе с «приложенными» к романам «Рабочими заметками», предсказывающими направления движения смыслов в следующем тексте, а заодно – и эволюцию сюжетов и персонажей (предваряя тем самым его еще неоткрытую, конструктивно важную первую страницу; благодаря плавности перехода текст становится непрерывным).
Игровая всевластность текста «ответственна» и за вызвавшие столько нареканий в адрес автора языковые банальности и литературные штампы, зачастую соседствующие с яркими, свежими образами и тонкой игрой стиля. Во-первых, создаваемый контекст, так же как и частые у Даррелла столкновения романтической возвышенности и натуралистического эпатажа «физиологией», повышает динамичность текста, отражая при этом «закулисную» полемику и намекая на единосущность «оппонентов». Во-вторых, стертый образ или банальность именно в силу своей коннотативной перегруженности несет гораздо больший потенциальный эстетический заряд, нежели образ свежий, а контрастное противопоставление их помогает «высветить» оба. Дарли рассматривает в качестве одной из причин второразрядности романа Арноти то обстоятельство, что автор произвел отбор материала исходя из соображений «эстетических», отбросив при этом, к примеру, историю с ребенком Жюстин, ставшую столь важной в «Квартете», как «мелодраматическую». Да Капо, перед «смертью» рассуждая с Дарли о технике Персуордена, обращает внимание на обычную персуорденовскую манеру строить текст, высыпая перед читателем серию духовных проблем, поданных как банальности, и иллюстрируя их персонажами («вскрытый» прием, ибо им по подсказке собственного персонажа широко пользуется сам Даррелл).
Игровая природа текста очевидна, но, как это ни парадоксально, именно это его свойство и используется Дарреллом в качестве фундамента при изложении собственного кредо. Игровая стихия, снижающая устремленные к универсальности потуги частных конструкций, бросая их друг на друга, тем не менее отнюдь не ориентирована на их полное уничтожение, ни даже на полную дискредитацию. Более того, она выступает в роли своего рода демона Максвелла, отделяющего зерна от плевел, – и в создании «геральдической вселенной» принимают участие только «энергетически насыщенные» доминанты частных конструкций. В результате Дарреллу, на мой взгляд, до определенной степени удается «оседлать» литературу, создать значимую структуру не на уровне «произведения», а на уровне «текста» (в системе терминов «постструктуралистского» Ролана Барта), отталкиваясь от частных конструкций. Выходящая наружу на уровне макротекста стихия игры делает зримым смысловой зазор между «произведением» и «текстом», заставляя читателя отбросить попытки рационального постижения обнаруженных смысловых полей (на которые, помимо общей логики текста, указывают и «рациональные» выкладки эссеистических вставок). Приходится опираться лишь на опыт «вчувствования», приобретенный в «общении» с частными конструкциями, ведь в отличие от них «геральдическая вселенная» не отсылает ни к какой традиционной, т. е. не раз рационализованной и обросшей коннотациями системе видения мира. Мечте Персуордена о создании книги с «полным отсутствием кода» по крайней мере дана попытка воплотиться.
Даррелл одерживает победу над «лгущим» языком литературы, не разрушая его, но подчиняясь ему, обнажая его условности, чтобы указать направление поиска скрытых за ними смыслов. Здесь мы выходим к образу, которым Даррелл завершил свой «Квартет», – к искусственной правой руке Клеа, вместе с которой эта весьма посредственная до самой своей «смерти» художница обрела истинный талант. Конструкция, приходящая на смену опоре на «тактильные ощущения», есть условие создания истинного искусства, хотя отнюдь не предмет его, как, впрочем, и не способ его восприятия. «Любая хорошая работа должна иметь в своем составе изрядную долю костей, мяса и связок», – написал как-то Даррелл.[67]67
Цит. по: Contemporary Authors / Es. by J. S. Etheridge. Detroit, 1964. Vol. 9-10. P. 135.
[Закрыть] Что ж, подобная «дисциплина» носит вполне классический характер (помните, как в предисловии к «Бальтазару» Даррелл, сделав страшные глаза, пообещал найти классическую – для нашего времени – «морфологическую форму»). К этому остается добавить только брошенное мимоходом в том же «Бальтазаре» замечание Персуордена: «В искусстве классично то, что сознательно идет в ногу с космологией своей эпохи», – которое многое проясняет как в мотивах выбора конкретных частных конструкций, так и в правилах разворачивающихся меж ними баталий.