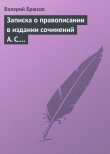Текст книги "Три Клеопатры"
Автор книги: Вадим Вацуро
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Три Клеопатры
1
В 1910 году В. Я. Брюсов задумывал издание сборника своих статей о Пушкине. Сохранился план этой неосуществленной книги, в котором наше внимание должен привлечь один пункт, в разной мере реализованный в нескольких статьях Брюсова («Разносторонность Пушкина», «Пушкин-мастер»). Это пункт – «Темное в душе Пушкина», под которым Брюсов понимал «Египетские ночи», «В начале жизни школу помню я…», «Пир во время чумы», «Не дай мне Бог сойти с ума»; перечисленные произведения, с его точки зрения, предвосхищали символизм XX века [1]1
См.: Брюсов В. Я.Собр. соч.: В 7 т. М., 1975.
[Закрыть].
Несколько ранее в статье «Священная жертва» (1905) он высказался более развернуто. «Подобно Баратынскому, Пушкин делил свои переживания на „откровения преисподней“ и на „небесные мечты“. Лишь в таких случайных для Пушкина созданиях, как „Гимн в честь чумы“, „Египетские ночи“, „В начале жизни школу помню я“, сохранены нам намеки на ночную сторону его души» [2]2
См.: Там же. Т. 6. С. 98.
[Закрыть]. Согласно Брюсову, в этом «принудительном молчании» потерялись для нас целые «бури страстей», откровения, ибо Пушкин-поэт отделил себя от Пушкина-человека, как он отделил жизнь от искусства.
Статья «Священная жертва» была столько же работой о Пушкине, сколь литературной декларацией символизма, как понимал его Брюсов в 1905 году. Напомним, что он рассматривал новейшую поэзию как непосредственную наследницу реализма XIX века: объектом ее является жизнь в ее многообразии, поскольку она отражается в душе поэта и в его жизни; символ – язык этой поэзии, содержание же – светлые и темные стороны души, предстающие как единство. Все это нам придется иметь в виду, когда речь пойдет о брюсовском продолжении «Египетских ночей»; сейчас же заметим, что к 1910 году относятся вспышки острого интереса к проблемам подсознательного и даже мистического у Пушкина (М. О. Гершензон, В. Ф. Ходасевич). Было бы ошибочно думать, что все эти концепции полностью умозрительны, – нет, они опирались на реальный материал, но интерпретированный в духе эстетических исканий начала века. Ученые, исходившие из других методологических посылок, усвоили целый ряд сделанных в это время наблюдений и выводов. Так, Д. Д. Благой в «Социологии творчества Пушкина» писал даже о настроениях «декадентства», «ущерба», выразившихся «с особенной силой» в творчестве Болдинской осени 1830 года [3]3
См.: Благой Д.Социология творчества Пушкина: Этюды. М., 1931. С. 184, 210.
[Закрыть]. Специфически «декадентскую» тему, излюбленную символистами, Благой видел, в частности, в теме «предельного сближения в одном переживании любви и смерти, теме любви перед лицом смерти, любви „при гробе“») [4]4
В несколько ином аспекте тема рассматривается в новейшей работе Т. Бароти «Мотивы „смерти“ и сочетания „двух миров“ в русской романтической лирике и в маленькой трагедии Пушкина „Пир во время чумы“» (Dissertationes Slavicae. Т. XIV. Szeged, 1981. P. 33–83). Т. 7. С. 454–455.
[Закрыть]; она проходит в «Каменном госте», «Пире во время чумы», она же является нам в «Египетских ночах».
2
В статье «Египетские ночи», написанной для Венгеровского издания сочинений Пушкина (1910) и затем вошедшей в посмертный сборник статей Брюсова «Мой Пушкин», Брюсов очерчивает пушкинский замысел «Египетских ночей». С исследовательской осторожностью он рассматривает две возможности «продолжения» повести: Пушкин мог сосредоточиться на контрасте между современной жизнью и Античностью (к такому решению склонялся сам Брюсов) или выразительнее оттенить античный эпизод, вложив его в раму современного рассказа. Брюсов отказался от интерпретации текста, только наметив три культурно-психологических типа любовников Клеопатры: стоик Флавий – «олицетворение Рима и его высшей доблести – храбрости», эпикуреец Критон – «олицетворение Эллады», для которой нет ничего выше наслаждения, и третий, безымянный, любящий Клеопатру первой, истинной любовью. «Поэма о Клеопатре» для Брюсова является центральной в «Египетских ночах». «Прозаический рассказ, – пишет он, – является только ее рамой. Сцены современной жизни только оттеняют события древнего мира» [5]5
Брюсов В.Мой Пушкин: Статьи, исследования, наблюдения. М.; Л., 1929. С. 112, 115.
[Закрыть].
Это замечание входит в некоторое противоречие с конечным, более осторожным выводом самого же Брюсова, и оно дань его давнему, устойчивому художественному интересу. Современная тема в «Египетских ночах» никак не могла быть «только рамой», потому что в ней намечено слишком много проблем, существенных для позднего Пушкина: судьба искусства в современном мире, профессионализм и дилетантизм в искусстве, социально-психологическое состояние общества и т. п. Акцент на теме Клеопатры означал, что именно она находится в фокусе внимания самого Брюсова.
В монографии «Валерий Брюсов и наследие Пушкина», о которой нам придется еще говорить специально, В. М. Жирмунский обращал внимание на то место статьи Брюсова, где характеризуется античное мироощущение. Оно, пишет Брюсов, «было культом плоти. Античная религия не стыдилась Красоты и Сладострастия». Клеопатра – воплощение телесной красоты, которая, как и наслаждение, является даром божества. Брюсов приводил в пример священную проституцию при античных храмах – и считал, что Клеопатра «становится в ряды таких храмовых проституток». Но «в миросозерцании, основанном на культе плоти, должны господствовать две идеи: наслаждения и смерти… Клеопатра является как бы олицетворением этого античного мира» [6]6
Там же. С. 112–113.
[Закрыть].
Все это и оказывается основой той художественной концепции, на которой выросло брюсовское продолжение «Египетских ночей», завершенное к 1916 году. Под «Египетскими ночами» здесь понимается только стихотворение «Клеопатра» 1828 года, и, соответственно, «героями» становятся «Клеопатра и ее любовники», а главной темой – психологическое, этическое и философское содержание возникающей коллизии.
3
Брюсов был не первым, кто поставил поведение пушкинской Клеопатры в прямую связь с мироощущением античного мира. Еще Ф. М. Достоевский рассматривал «Египетские ночи» как изображение древней цивилизации накануне ее крушения. Клеопатра для Достоевского – воплощение пороков гибнущего общества, погрязшего в телесном разврате и ищущего «мрачных и болезненных» потрясений; ее вызов полон «сильной и злобной иронии», «неслыханного сладострастия» и жажды неизведанных наслаждений. «Бешеная жестокость уже давно исказила эту божественную душу» [7]7
См.: Достоевский Ф. М.Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1979. Т. 19. С. 135–136, 300–302; Комарович В. Л.Достоевский и «Египетские ночи» Пушкина // Пушкин и его современники. Пг., 1918. Вып. 29/30; O’BellL.Pushkin’s «Egyptian Nights»: The Biography of a Work. Ann Arbor: Ardis, 1984. P. 31–33.
[Закрыть]. Трактовка Достоевского, появившаяся в развернутом виде в статье «Ответ „Русскому вестнику“» (1861), была изучена В. Л. Костомаровым только в 1916 году, и Брюсов уже не мог учесть ее в своих научных и художественных студиях, но нам сейчас важен не источник, а основные вехи истории восприятия образа. У Достоевского он переведен в иную систему эстетических и этических представлений и ценностных характеристик, не сходных ни с пушкинской, ни с брюсовской. Уже к 1860-м годам реконструировать подлинную пушкинскую концепцию оказывалось затруднительно.
В 1830-е же годы, при первом своем появлении (в томе VIII «Современника» за 1837 год), «Египетские ночи» и прежде всего стихотворение «Клеопатра», присоединенное Жуковским к прозаическому тексту, должны были читаться совершенно иначе. Одной из попыток их прочтения была баллада М. Ю. Лермонтова «Тамара» (1841).
То, что «Тамара» ориентирована на пушкинский текст, было замечено еще дореволюционными исследователями. Однако в историографии лермонтовской баллады есть отдельные наблюдения над характером этой связи [8]8
См.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 559–560.
[Закрыть]. Между тем баллада явно содержит художественную интерпретацию пушкинского образа; в ней сохраняется общий контур характера, перенесенного в другое время (Средневековье) и другую этническую среду (Грузия, понятая как «Восток»). Конечно, искать тождества здесь было бы наивно: Лермонтов не «дописывал» Пушкина, как Брюсов; он, подобно Достоевскому, удерживавшему некоторые черты Клеопатры в женских образах «Идиота», лишь отправлялся от Пушкина, создавая свою концепцию демонической соблазнительницы. Здесь на первый план выдвигается та тема, которую Д. Д. Благой считал характерной для художественных вкусов серебряного века и которая в такой же – если не в большей – мере свойственна позднеромантической литературе: тема «упоения» «бездны мрачной на краю», соединения гибели и высшего наслаждения. Как мы видели, она прослеживается у Пушкина и за пределами «Египетских ночей».
В «Ледяном доме» И. И. Лажечникова (1835) Мариорица умирает от яда в момент исступления страсти, приобретающего почти сакральный характер: «жрица любви возвышенной и вместе жертва самоотвержения», «не земным наслаждениям предавала она себя, Мариорица сжигала себя на священном костре…». Здесь слышатся отзвуки гетевской баллады «Бог и баядера» («Der Gott und die Baja-dere», 1797), весьма популярной в России именно в 1830-е годы; может быть, к ней восходит и мотив радостного самосожжения Пери в поэме А. И. Подолинского «Смерть Пери» (1834–1836). Смерть оказывается апофезом любви; Мариорица умирает «счастлива, как нельзя счастливее…»: «На мне горят еще его (т. е. Волынского. – В.В.) поцелуи… Какое блаженство умереть так!» [9]9
Лажечников И. И.Соч.: В 2 т. М., 1986. Т. 2. С. 274–275.
[Закрыть]К этой главе в качестве эпиграфа писатель берет «Румилийскую песнь» В. Г. Теплякова (1829), где подчеркнут этот мотив:
О милый! Пусть растает вновь
Моя душа в твоем лобзанье;
Приди, допей мою любовь,
Допей ее в моем дыханье.
Прилипну я к твоим устам
И все тебе земное счастье,
И всей природы сладострастье
В последнем вздохе передам.
Н. А. Полевой, с резкой насмешкой отозвавшийся о «страстях» героев романа, в написанном почти одновременно с ним «Блаженстве безумия» оказывается близок Лажечникову как раз в концепции страсти: радость встречи с возлюбленным переходит у его героини «в совершенное безумие», после чего «жить <… > было невозможно»; оба героя погибают. Сила взаимной любви превращает безумие и смерть в «блаженство»; концовка повести прямо корреспондирует с заглавием [10]10
См.: Полевой Н. А.Избранные произведения и письма. Л., 1986. С. 129, 133.
[Закрыть]. Этот мотив с почти навязчивым постоянством варьируется в поэзии 1830-х годов: он есть в «Алине» А. А. Бестужева-Марлинского (1827 или 1828), в «Призвании» А. И. Полежаева (1833), в «Сознании» В. Г. Бенедиктова («сожги ж меня в живом огне твоих объятий»), в стихах Е. Бернета, где он выступает в разных модификациях: так, в «Прощании» возлюбленная отъезжающего ратника просит его убить ее [11]11
См.: Вацуро В. Э.«Моцарт и Сальери» в «Маскараде» Лермонтова // Русская литература. 1987. № 1. С. 78–88 [см. наст. изд.].
[Закрыть]. В прозе и поэзии, тяготеющей к «неистовой словесности», меняется аксиологическая шкала; она резко отличается и от той, которая будет затем у Достоевского. На ней любовь, страсть занимает более высокое место, чем жизнь. Для поэта или романиста 1830-х годов «торг» Клеопатры – не чудовищное надругательство над основами человеческой морали, а испытание правомочности ее будущих «властителей». Так было и для Пушкина: «цена», предлагаемая Клеопатрой, больше, чем цена жизни, и «вызов» обращен к тем, кто способен это понять. Здесь психологический парадокс, подобный тому, какой мы видим в конфликте «Моцарта и Сальери», где также сближены момент высшего счастья и смерти (самоубийства): Сальери намерен покончить счеты с жизнью, когда убедится, что пережил высшее из возможных наслаждений искусства; «наказание» в том, что самоубийство не состоялось. Смерть в этой системе представлений – апофеоз идеи. То же самое происходит в «Маскараде» Лермонтова [12]12
См.: Брюсов В. Я.Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т– 3– С. 453.
[Закрыть].
Соотношение «Тамары» и «Клеопатры» несколько иное. Как и в других случаях, Лермонтов упрощает пушкинский конфликт и проблематику, решая их в ключе поэтики контрастов: «Прекрасна, как ангел небесный, / Как демон, коварна и зла». В ориентальной балладе он подчеркивает и эротическое начало. Ни «демонизм», ни эротика не являются ведущими темами «Египетских ночей»; выделение их – первый шаг к толкованию Достоевского. Антитетичность построения прослеживается в «Тамаре» и далее, например, в метафоре «свадьба – похороны». Лермонтов меняет и модальный план повествования: то, что лишь ожидается в «Клеопатре», предстает реализовавшимся в «Тамаре»; самая коллизия уходит в предысторию. И здесь возникает очень важный для Лермонтова имплицированный мотив.
Мы не случайно вспомнили об изменении ценностных ориентиров в литературе 1830-х годов. Коннотативные значения понятия «смерть» у позднего Лермонтова достаточно сложны. В «Демоне» поцелуй любви оказывается для героини роковым, но он не покрывается значением «зла», «страдания». В «Песне про царя Ивана Васильевича…» казнь Калашникова – жестокость, но одновременно она апофеоз, праздник. Каждого из случайных любовников (или мужей) демонической обольстительницы смерть постигает вслед за моментом высшего наслаждения и сопровождается любовным прощанием. Казнь совершается на рассвете (ср. в «Клеопатре»: «Но только утренней порфирой Аврора вечная блеснет, / Клянусь – под смертною секирой / Глава счастливцев отпадет»), ночь – время наслаждения. Цепочка антитез продолжается: с сиянием утра в природе – воцаряются «мрак и молчание» в башне; нежные и сладостные слова, обещающие «ласки любви» и «восторги свиданья», обращены к «безгласному телу», которое уносит река. Последний мотив вновь находит себе соответствие в исходном тексте: Клеопатра останавливает «грустный взор» на неизвестном юноше, обрекшем себя смерти во имя любви. Это мотив зарождающегося чувства – но в отличие от Клеопатры лермонтовская Тамара переживает его каждый раз, когда отправляет на гибель нового избранника. В такой интерпретации героиня оказывается жрицей любви в самом точном смысле слова: каждый новый брак для нового претендента – единичен и неповторим; эта единичность и неповторимость может быть достигнута только его смертью. Так в обрамляющей сказке «1001 ночи» царь Шахрияр казнит свою новую жену наутро после брачной ночи, ибо только так мыслит гарантировать себя от супружеской измены. Когда романтическая аксиология перестала существовать в эстетическом сознании, открылась возможность для трактовки Достоевского.
4
Мы можем теперь вернуться к началу нашего этюда и к художественной интерпретации «Египетских ночей» В. Я. Брюсовым.
В начале XX века актуализировались романтические мотивы на новой основе и в новом качестве.
У нас нет никаких оснований считать, что Брюсов отправлялся непосредственно от романтической традиции толкования «Египетских ночей». Но окончание сюжетной линии Клеопатра – безвестный юноша показывает, что она была в генетической памяти брюсовской прозы. Разрешение этой сцены опирается на источник, насколько нам известно, не учтенный в литературе о Брюсове; источник, который сам Брюсов высоко ценил и знал чуть что не наизусть, – и именно поэтому не осознавал его присутствие. Во всяком случае, скрупулезно перечисляя стихи и даже полустишия, им заимствованные, он не упомянул, что написал реплику на одну из центральных сцен «Цыганки» («Наложницы») Е. А. Баратынского. Напомним, что в поэме Баратынского цыганка Сара случайно отравляет возлюбленного приворотным зельем. У Брюсова Клеопатра отравляет сознательно, даруя смерть в момент высшего счастья, согласно уже известной нам концепции. Мотив варьирован, но сходство сцен несомненно. Сравним:
БРЮСОВ
Он кубок пьет. Она руками
Его любовно обвила
И снова нежными устами
Коснулась детского чела.
Улыбкой неземного счастья
Он отвечает, будто вновь
Дрожит на ложе сладострастья…
Но с алых губ сбегает кровь,
Взор потухает отененный,
И все лицо покрыто тьмой…
Короткий вздох, – и труп немой
Лежит пред северной колонной [13]13
Там же. С. 394–395.
[Закрыть].
БАРАТЫНСКИЙ
Цыганка страстными руками
Его, рыдая, обвила
И жадно к сердцу повлекла.
Глядел он мутными глазами,
Но не противился. Главой
Он даже тихо прислонился
К ее плечу; на нем, немой,
Казалось, точно позабылся.
По грозной буре, тишина
Влилась отрадно в сердце Сары.
«Он мой! подействовали чары!» —
С восторгом думала она.
Но время долгое проходит —
Он все лежит, он все молчит;
Едва дыханье переводит
Цыганка. «Милый мой! Он спит.
Проснись, красавец!» Зов бесплодный;
Миг страшной истины настал:
Она вгляделась – труп холодный
В ее объятиях лежал [14]14
Баратынский Е. А.Полн. собр. соч. Л., 1957.С.304–305.
[Закрыть].
Еще в 1898 году Брюсов находил в поэзии Баратынского «стихийное смятение» и идею «отрадной», «обетованной», примиряющей смерти [15]15
См.: Тиханчева Е. П.Брюсов о русских поэтах XIX века. Ереван, 1973. С. 82.
[Закрыть]. Теперь импульсы, полученные им как поэтом от двух своих великих предшественников, объединились по естественной логике ассоциаций. Брюсов словно сам раскрыл факт своей ориентации на романтическую поэму.
5
Продолжение «Египетских ночей», появившееся в 1916 году, вызвало полемику; у Брюсова нашлись и защитники, и резкие оппоненты. По свежим следам этих полемик, в 1918 году молодой тогда филолог В. М. Жирмунский, уже получивший известность своими работами о культурной традиции в современной поэзии, в частности книгой «Немецкий романтизм и современная мистика» (1915), выступил с докладом о брюсовском переложении. Это была первая редакция той работы, которая появилась в свет в 1922 году как монография «Валерий Брюсов и наследие Пушкина».
Книга Жирмунского вошла в академическую брюсовиану, и мы сейчас смотрим на нее как на факт научной историографии. Между тем при своем возникновении это был и критический разбор, и борьба эстетических идей, вышедшие из недр той же литературной жизни, что и поэтическая интерпретация Брюсова. Поэтому она рассматривала «Египетские ночи» как живое литературное явление, заявившее о своей связи с пушкинской традицией, и отвечала на вопрос: есть ли эта связь. Она исходила из представления о классической основе стиля Пушкина и романтической – Брюсова. Жирмунский сравнивал лирическую композицию, лексику, систему тропов в обоих произведениях и приходил к выводу, что классическая точность, логическая определенность и «гармоническая» в широком смысле поэтика Пушкина потеряла у Брюсова свои определяющие черты, будучи опрокинута в эмоционально-лириче-скую стихию. Точность заменилась неопределенностью, повышенной экспрессией; на месте рационалистической сдержанности выросла эротика, и все произведение приобрело очертания эротической баллады, какие сам Брюсов и писал в эти годы. Самый облик Клеопатры изменился; она превратилась в демоническую соблазнительницу, жрицу любви и гибельное начало; комплекс любовь – смерть стал доминирующим в ее духовном облике, и в балладе проступили черты романтического психологизма. Тем самым поэтика Брюсова обнаружила свою зависимость не от пушкинской традиции, а от русской романтической литературы. В конце своего труда Жирмунский упомянул и о балладе Лермонтова «Тамара». Поэтическая вариация Брюсова дала, таким образом, мощный стимул исторической поэтике, побудив литератора и историка литературы дать первоначальное типологическое различение стилей «классического» и «романтического». В дальнейшем эта типология была исследована самим Жирмунским, Б. М. Эйхенбаумом и другими уже на историческом материале.
Интерпретации поэтические, критические и научные выстраивались в некую единую цепь как разные фазы осмысления литературой самой себя.