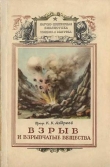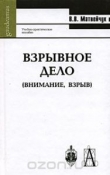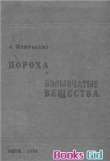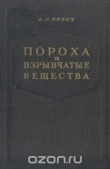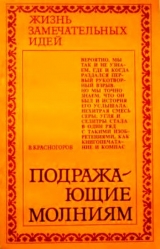
Текст книги "Подражающие молниям"
Автор книги: В. Красногоров
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Эти беспокойные годы – как, впрочем, и всю свою жизнь – «самый богатый бродяга Европы» проводит на колесах. У него нет семьи, нет корней, ничто не привязывает его к одному месту. Поэтому не только коммерческие дела толкают Нобеля к странствиям. В конце концов он мог бы поручить свои заграничные операции доверенным лицам. Но какая страна – «заграница» для этого космополита? Швеция – место его рождения; в России живут его братья и многочисленные друзья, в русские предприятия им вложены значительные средства; в Германии – его крупнейшая фирма и технический центр; в Париже – его дом и лаборатория; в Шотландии – его летняя усадьба: в Швейцарии – его вилла и во всех странах мира – его предприятия. Одинаково свободно он говорит на любом языке и, кажется, ни одной стране не отдает предпочтения. «Моя родина там, где я работаю, а работаю я повсюду».
Ко второй половине семидесятых годов сеть нобелевских предприятий разрослась настолько, что они стали конкурировать не только с другими фирмами, но и... между собой. Перед их владельцем стала сложная задача – навести порядок в собственном доме. Динамитный король принялся за объединение своих владений в единую державу. В 1886 году эти усилия завершились созданием двух гигантских международных трестов – Англо-Германского и Латинского. Первому из них, насчитывавшему 47 предприятий, принадлежали, помимо немецких и британских фирм, фабрики в Мексике, Бразилии и Чили, а впоследствии и в Австралии. Латинский трест объединял 28 заводов во Франции, Италии, Швейцарии, Испании, Алжире, Тунисе и других местах. В год смерти Нобеля в различных странах мира действовало 93 его предприятия, производивших не только динамит, но и сопутствующие материалы: азотную кислоту, глицерин, удобрения, медные сплавы, проволоку, кабель, нитроглицерин, нитроцеллюлозу и все виды взрывчатых веществ и детонаторов. Кроме предприятий Нобеля, десятки заводов получали взрывчатые вещества по его патентам.
Не лишена интереса дальнейшая судьба основанных Нобелем предприятий. В годы первой мировой войны Англо-Германский трест, естественно, распался. По иронии судьбы, а точнее – по законам капиталистического мира, предприятия, принадлежавшие в свое время Нобелю, работали с полным напряжением, чтобы уничтожать нобелевские предприятия по другую сторону фронта.
Конец войны не вернул динамитному колоссу единства. Двуглавая гидра, рассеченная надвое, превратилась в могучих драконов, готовых пожрать друг друга. Между тем закон концентрации капитала продолжал Действовать с прежней неумолимостью. В двадцатые годы Английский динамитный трест объединился с двумя Другими крупными компаниями, образовав могущественную корпорацию «Империэл кемикл индастриз», существующую поныне и являющуюся одной из десяти крупнейших монополий мира. В ее Нобелевском отделении работает десять тысяч человек, в том числе восемьсот научных сотрудников.
Германский Нобелевский трест стал составной частью всемирно известного «ИГ-Фарбениндустри». Большинство предприятий бывшего Латинского треста составили фирму «Сосьете Нобель – Бозель», взявшую под консоль восемнадцать предприятий во Франции, Алжире и Тунисе.
В 1865—1873 годах главный штаб Нобеля находился в Гамбурге, но после того как деятельность Альфреда приобрела международный размах, он перенес свою ставку в Париж.
Даже в зените славы ничто в облике и поведении Нобеля не выделяло его среди прочих смертных. К своим многочисленным орденам, почетным титулам и отличиям он относился с юмором:
«Мои награды мне дали не за взрывчатые вещества. Шведский орден Полярной звезды я заслужил благодаря своему повару, чье искусство угодило одной высокопоставленной особе. Французский орден я получил благодаря близкому знакомству с министром, бразильский орден Розы – потому что меня случайно представили бразильскому императору. Что же касается знаменитого ордена Боливара, то я удостоился его потому, что мой друг хотел показать, как добываются там ордена».
Лишь оспаривание его изобретательских прав всегда задевало самолюбие Нобеля, и он не упускал случая поиздеваться над тугодумами из патентных бюро, отказывавшихся иногда признать справедливость его требований:
«Если бы они существовали во времена Уатта, он бы никогда не получил патента на свое изобретение. Они бы сказали ему, что вода известна, пар известен, его конденсация известна, и, следовательно, было бы абсурдно называть паровую машину изобретением».
Нобель был блестящий и остроумный собеседник, но всю жизнь предпочитал уединение. Он не имел даже личного секретаря и писал, копировал и регистрировал все письма собственноручно – немалая работа, если учесть его занятость. Он применял своеобразную классификацию личных писем: «От мужчин», «От женщин» и «Письма с просьбами». Последняя связка была значительно толще других.
При жизни Нобеля не было сделано ни одного его портрета. Каждый раз, когда он бывал в Петербурге, Людвиг просил брата позировать их общему другу, знаменитому художнику Владимиру Егоровичу Маковскому, но Альфред неизменно отказывался. Зато во всей полноте предстает перед нами его многогранный внутренний облик. Оставшиеся после него тысячи писем, всегда с безупречным литературным изяществом написанные на языке адресата, создают яркий образ неутомимого труженика, разностороннего ученого, образованного мыслителя, энергичного организатора, проницательного ироничного человека, понимающего людские недостатки и умеющего относиться к ним снисходительно. Многие их строчки пронизаны пессимизмом, вызванным постоянным одиночеством:
«Последние десять дней я болел и должен был оставаться дома в обществе только лакея. Никто даже не справлялся обо мне. Кажется, мне теперь гораздо хуже, чем полагает врач, так как постоянная боль упорно не оставляет меня. К тому же мое сердце тяжело, как свинец. Когда в возрасте пятидесяти четырех лет тебя оставляют таким одиноким на свете и только наемный слуга добр к тебе, тогда приходят тяжелые мысли – тяжелее, чем большинство людей могут себе представить...»
Лишь книги всегда оставались любимыми друзьями Нобеля. Очень часто цитирует он в письмах Шелли, Байрона, Ибсена, Гюго (с которым он был хорошо знаком лично). Из русских писателей он больше всего любил Тургенева.
Гостям парижского особняка Нобеля бросались в глаза только парадные апартаменты, оранжереи для орхидей и конюшни для породистых лошадей. Но, подобно замку Синей Бороды, этот дом имел заветные покои, о существовании которых посторонние даже не имели представления. Лишь посвященные знали, что здесь, в маленькой, но хорошо оборудованной домашней лаборатории неутомимо работают два химика – сам Нобель и его ассистент Ференбах, опытный и добросовестный исследователь, сотрудничавший со своим патроном восемнадцать лет.
В первые годы работы в Париже изобретатель пытается найти замену динамиту. Сколь это ни кажется странным, динамит удовлетворяет всех, кроме его творца. Нобелю не нравится, что динамит хоть и много мощнее пороха, все же несколько слабее нитроглицерина. Кизельгур, впитывая в себя жидкую взрывчатку, отнимает у нее часть ее богатырской силы. Динамит неудобен в применении под водой, портится при долгом хранении, теряя нитроглицерин, особенно при сжатии. Недостатки разрывного масла – жидкого текучего продукта – и тут давали себя знать. Ученый хорошо понимал, каким шагом вперед было бы получение вместо жидкой взрывчатки хотя бы студнеобразной.
В поисках нового взрывчатого вещества Нобель обращается к почти забытому пироксилину. За четверть века, прошедших со времени получения его Шенбейном, ничего не изменилось. Взрывчатая вата по-прежнему остается непригодным для пороходелия веществом. Когда-то, создавая динамит, Нобель попытался пропитать ее нитроглицерином и даже взял на это патент. Но брак нитроклетчатки с нитроглицерином оказался непрочным, их союз – недолговечным: вата плохо удерживала масло, и взрывоопасность их еще больше увеличивалась.
В Париже экспериментатор вернулся к своей заманчивой идее объединить самые мощные взрывчатки. На этот раз он добавляет не масло к пироксилину, а пироксилин к маслу в тщетной надежде получить густой коллоидный раствор. Однажды во время очередного неудачного опыта Нобель порезал палец и заклеил его коллодием. Ночью боль не давала ему спать, и он снова– уже в который раз – принялся обдумывать причины своих неудач. И тут ему пришла мысль использовать вместо пироксилина коллодий – тот самый, которым он заклеил рану.
Коллодий в химическом отношении очень близок к пироксилину. Однако в отличие от взрывчатой ваты коллоксилин легко растворяется во многих органических растворителях, образуя густые клейкие массы. Нобель предположил, что коллодий должен хорошо совместиться и с нитроглицерином. Как только ему пришла в голову эта идея, он сразу же бросился в лабораторию. К утру уже все было готово. Когда Ференбах пришел на работу, он увидел своего шефа, склонившегося над стеклянной пластиной, на которой лежал комок студнеобразного прозрачного желтоватого вещества, похожего на плотное персиковое желе. Ференбах отрезал ножом кусочек студня и сделал первый пробный взрыв. Так была создана новая удивительная взрывчатка – гремучий студень. Это произошло в 1875 году.
Гремучий студень сразу получил широкое распространение. Благодаря ему строительство Большого Сен-Готардского туннеля было закончено на три года раньше срока. Гремучий студень не боится воды и оказался незаменимым при взрывах под водой и в обводненных скважинах и пластах. Динамиты тоже стали приготовляться на основе желатинированного, загущенного нитроглицерина и благодаря этому приобрели большую устойчивость и безопасность. Такие динамиты, так же как и гремучий студень, применяются и в наши дни.
В 1887 году Нобель наносит последний удар дымному пороху: после длительных исследований в его лаборатории рождается новое метательное взрывчатое вещество – долгожданный бездымный порох, мощный, надежный, безопасный. Однако единственное крупное изобретение военного характера не принесло его творцу удачи. В Париже по причинам, о которых будет сказано дальше, не захотели признать баллистит (так был назван новый порох) и обвинили Нобеля во враждебной деятельности против Франции, а в Англии началось долгое и неприятное разбирательство о патентных правах и приоритете. Эта тяжба больно ранила самолюбие Нобеля. Между тем изобретателя ждали новые удары. В 1888 году в Канне умер его брат Людвиг. Мировая печать часто путала двух могущественных магнатов, и многие газеты поспешили посвятить Альфреду прочувствованные некрологи, которые он прочел со смешанным чувством горечи и любопытства. В следующем году Нобель потерял последнего близкого человека – свою мать, к которой он был горячо привязан. В полном одиночестве он встретил новую грозу, которая обрушилась на него через несколько месяцев: директора его французской компании, увлекшись незаконными биржевыми операциями, привели ее к финансовому краху.
Весть об этом застала Нобеля в Гамбурге. Сначала он считал себя полностью разоренным и собирался даже просить место химика на одном из своих немецких заводов. Но убытки оказались не столь значительными. Нобель распутал дело со свойственной ему энергией и решительностью. Потери были восполнены займами. Все члены правления компании были смещены. Алчные директора, которым Нобель ранее безусловно доверял и чья продажность огорчила его больше, чем потеря нескольких миллионов, были заменены.
Тем временем во Франции не прекращалась травля Нобеля, которому не могли простить баллистит. Его домашняя лаборатория и частные полигоны для испытания оружия были закрыты, а их имущество конфисковано под предлогом, что проводившиеся там работы «угрожали безопасности Франции». В борьбу против Нобеля включились и смещенные им директора, среди которых были влиятельные сенаторы. В этих условиях Нобель не мог больше оставаться в Париже. Уже немолодой, тяжело больной, одинокий, обманутый теми, кому он доверял, измученный тяжбами, досаждаемый клеветниками, он решил оставить дела и покинуть город, бывший ему родным домом восемнадцать лет.
В 1891 году он переселился в Италию. Здесь, в курортном городке Сан-Ремо на берегу Средиземного моря, он купил красивое имение, окруженное большим парком. Оно называлось первоначально «Мое гнездо», но когда один из знакомых Нобеля шутливо заметил, что в гнезде должны жить две птицы, а не одна, хозяин изменил название на «Вилла Нобель».
Покидая Париж, Нобель принял еще одно важное для себя решение:
«Я сыт по горло торговлей взрывчаткой, где вечно приходится иметь дело с несчастными случаями, ограничениями, канцелярской волокитой, педантами, бравированием и подобной чепухой. Я мечтаю о покое и хочу посвятить себя научным исследованиям, что невозможно, когда каждый день приносит новые тревоги... Я хочу абсолютно удалиться от дел. Для меня пытка выступать примирителем в гнезде стервятников. Нет никакой причины для того, чтобы я, никогда не учившийся коммерции и ненавидящий ее всем сердцем, занимался этими делами, в которых я разбираюсь немного больше, чем человек с луны».
Перед переездом в Сан-Ремо Нобель вышел из правлений всех компаний, в которых он состоял. Из Парижа уехал промышленный магнат, в Сан-Ремо прибыл любознательный ученый. В тени апельсиновой рощи, среди цветов, которые Нобель так любил и которыми окружал себя всю жизнь, он снова строит себе лабораторию– уже третью по счету. В ней развертываются широкие исследования. Интересы его не ограничиваются взрывчатыми веществами. Он разрабатывает новые виды артиллерийского оружия; ищет и находит новые растворители для нитроклетчатки; по примеру знаменитого французского химика Анри Муассана (впоследствии нобелевского лауреата) пытается получить искусственные драгоценные камни; работает над улучшением телефона, фонографа, ламп накаливания; изыскивает новые виды легких сплавов; изобретает и конструирует летательные аппараты, в том числе крупную ракету («воздушную торпеду»), пролетевшую четыре километра; пробует, и не без успеха – получить искусственное волокно; предлагает идею аэрофотосъемки; исследует электрохимические методы производства соды и поташа; разрабатывает теорию горения пороха.
Последнее важное изобретение Нобеля датировано годом его смерти. Это так называемый «прогрессивно горящий порох», чрезвычайно нужный в артиллерийском деле. Производство его немедленно начали многие заводы еще при жизни изобретателя.
Бури, бушевавшие над его головой в последние годы, утихли. Страсти, кипевшие вокруг биржевого скандала, улеглись; дело о бездымном порохе было забыто; тяжба в Англии закончена; заводы Нобеля процветали и приносили ему все большие доходы; тяготы администрирования больше не беспокоили его. Казалось, ничто теперь не может ему помешать посвятить свои дни плодотворным научным изысканиям, счастливому безмятежному отдыху. Но этих дней у Нобеля оставалось очень немного. Здоровье его резко ухудшалось. Когда больному становилось особенно плохо, врачи предписывали ему внутрь... нитроглицерин. Однако старый знакомый Нобеля, с которым он работал сорок лет и который принес ему известность и богатство, не мог вернуть ему здоровья. Для облегчения сердечного приступа нужна всего одна капля этого лекарства, но все фабрики Нобеля были уже не в силах отдалить неотвратимый конец.
Изобретатель работал до последнего часа. 7 декабря 1896 года он выразил в письме к другу сожаление, что не может продолжать работу над новой взрывчаткой: «К несчастью, мое здоровье опять плохо, но как только смогу, я снова вернусь к интересующему нас предмету»
Письмо осталось неотправленным. Через несколько минут он был поражен кровоизлиянием в мозг, и 10 декабря скончался. Его останки были перевезены в Швецию и после кремации с почестями помещены 29 декабря в семейную могилу на стокгольмском Северном кладбище, где были похоронены его родители и младший брат Эмиль-Оскар.
Нобель встретил свой смертный час, как и жил,– в полном одиночестве. Как он и предвидел, рядом с ним не было «близкого друга или родственника, чья добрая рука закроет в назначенный день глаза и прошепчет мягкие и сердечные слова утешения».
ОГОНЬ БЕЗ ДЫМА

С середины XIX века в исследовательских лабораториях крупнейших стран мира шли лихорадочные поиски бездымного пороха, и велись они уже достаточно осознанно. Химия и баллистика достигли высокого уровня; недостатки дымного пороха были известны; основные принципы получения бездымных взрывчатых веществ также были понятны; необходимое сырье – нитроклетчатка и нитроглицерин – было открыто. Тем не менее получение бездымного пороха оказалось труднейшей научно-технической задачей, для решения которой были привлечены лучшие химики того времени.
Чтобы победить, нужно стрелять дальше и точнее противника. А дымный порох со времен Бертольда Шварца не изменился и не мог измениться. Он достиг своего потолка уже много столетий назад и на фоне технических достижений XIX века начинал превращаться в анахронизм. К чему скорострельные винтовки, мощные орудия, точные калибры – ведь выше потолка не прыгнешь, дальше, чем позволяет порох, не выстрелишь. Беда пороха была не только в том, что он давал густой белый дым и черный нагар. Ведь при сгорании пороха только сорок процентов его превращается в газы; остальное переходит в твердые вещества, не имеющие метательной силы. Об этой стороне изысканий новых видов пороха хорошо сказал Менделеев:
«Черный дымный порох нашли китайцы и монахи – чуть ли не случайно, ощупью, механическим смешением, в научной темноте. Бездымный порох открыт при полном свете современных химических познаний. Он составит новую эпоху военного дела не потому, что не дает дыму, глаза застилающего, а потому преимущественно, что при меньшем весе дает возможность сообщать пулям и всяким иным снарядам небывалые скорости в 600, 800, даже 1000 метров в секунду».
История создания бездымного пороха начинается, пожалуй, с опытов Гийома Леблона в середине XVIII века. Леблон родился в 1704 году в Париже и умер в 1781 году в Версале. Значительную часть своей долгой жизни он посвятил теории военного дела. Книги его давно канули в Лету, но одна небольшая, даже не подписанная им статья в «Энциклопедии» сохранила его имя для потомков. В ней Леблон сообщает об испытании порохов различного состава. Ему удалось получить метательную взрывчатку, дающую мало дыма, не содержащую серы и немного превосходящую по мощности обычный порох. Открытие Леблона, сделанное в 1756 году, на целый век опередило потребности эпохи: бездымными порохами заинтересовались только столетие спустя.
Следующими важными вехами в истории бездымного пороха являются открытия коллоксилина, нитроглицерина и пироксилина. Но открыть вещество, способное взрываться,– еще не значит создать взрывчатое вещество. Нужно еще преодолеть труднейшие, а иногда и совсем неразрешимые проблемы. Мы убедились в этом на примере нитроглицерина. От пироксилина Шенбейна до пироксилинового пороха Вьеля нужно было пройти еще долгий нелегкий путь, путь проб и – увы – ошибок.
Когда Шенбейн предложил ряду стран купить У него секрет производства пироксилина, Пруссия, Бавария и Австрия образовали объединенную комиссию для Рассмотрения этого вопроса. Наиболее влиятельным членом комиссии был уже известный нам Юстус Либих, президент Баварской академии наук. Он относился к новому взрывчатому веществу (и, кстати, к его творцу) весьма прохладно. То ли взрывы, дискредитировавшие пироксилин, то ли авторитет знаменитого Либиха побудили комиссию отклонить предложение Шенбейна.
Но мнение комиссии не было единогласным. Один из ее членов, барон фон Ленк, представлявший интересы Австрии, оказался горячим приверженцем пироксилина и продолжил переговоры с Шенбейном уже только от имени своей страны. Эти переговоры завершились покупкой патента на взрывчатый хлопок за тридцать тысяч гульденов. Ленк чрезвычайно много сделал для того, чтобы вдохнуть жизнь в казавшийся обреченным пироксилин. Образованный артиллерист, неплохой химик, неутомимый организатор, занимавший к тому же видное положение в армии и при австрийском дворе, он развернул широкие исследования в попытках получить порох из пироксилина.
«Приняв дела» от Шенбейна, Ленк обнаружил, что с пироксилином предстоит еще непочатый край работы. Прежде всего – ив этом его основная заслуга – Ленк разработал безопасный промышленный метод производства пироксилина: допускать, чтобы пироксилиновые заводы взрывались и далее, было нельзя. Затем Ленк сконструировал артиллерийские орудия, специально предназначенные для новой взрывчатки и не разрывавшиеся при выстреле. Однако пороха Ленк все же не выдумал. Пироксилин по-прежнему оставался неоднородным рыхлым продуктом, не слишком пригодным для стрельбы. После катастрофического взрыва пироксилинового склада близ Вены в 1862 году бесплодность дальнейших попыток получения бездымного пороха стала очевидной. Распоряжением австрийского правительства всякие опыты в этом направлении были прекращены сначала в военных целях, а после нового большого взрыва в 1865 году – «окончательно». Вслед за благочестивым Шенбейном Ленк мог бы произнести слова из священного писания: «Нам дано трудиться, но не дано видеть плодов трудов наших».
Тем не менее Ленк не отступил. Он сумел заинтересовать своими проектами Наполеона III, получил от него поддержку и продолжал исследования во Франции. Из несчастных случаев и взрывов были извлечены уроки. Оказалось, что при хранении разлагается и взрывается лишь плохо промытый пироксилин. Поэтому в дальнейшем длительная (иногда многонедельная) промывка стала обязательной стадией производства пироксилина.
Повторяем, Ленк не выдумал пороха. Но его роль как одного из создателей новых метательных взрывчаток является общепризнанной. Вера австрийского артиллериста в успех пироксилинового пороха, его неутомимые исследования, разработка им промышленного способа производства пироксилина имели большое реальное значение и были высоко оценены другими учеными, в том числе и создателями русского пороха Менделеевым и Чельцовым.
Широкое практическое применение пироксилину удалось найти не Ленку и не в Австрии. Сделано это было в Англии Фридрихом Абелем. Свои опыты над пироксилином он начал в 1862 году – в тот год, когда Австрия их прекратила. Имя Абеля в ту пору еще не гремело на всю Европу, но уже тогда он был прекрасным химиком и знатоком своего дела. Биография Абеля до невероятности бедна внешними событиями. Он родился и всю свою жизнь проработал в Вульвиче – небольшом городке близ Лондона, слившемся теперь с английской столицей Вульвич невелик, но он известен всей Англии своими вековыми традициями. Своего рода британская Тула. Еще в 1683 году здесь появился первый в Англии завод по изготовлению пушечных лафетов, а затем и самих пушек. Естественно поэтому, что именно в Вульвиче расположился впоследствии Главный штаб британской артиллерии, а в 1805 году обосновался Королевский арсенал. Еще раньше там была организована Военная академия. В ней-то и стал с 1852 года преподавать молодой Абель химию, после того как закончил Политехнический институт и Химический колледж. В Военной академии двадцатипятилетний химик «по долгу службы» заинтересовался взрывчатыми веществами (впрочем, чем еще мог интересоваться коренной житель Вульвича?) и с тех пор посвятил их изучению всю свою жизнь. Скоро он стал наиболее влиятельным и компетентным специалистом Англии по пороховому делу, консультантом правительства, председателем Комитета по взрывчатым веществам, состоявшего из четырех членов и руководившего всеми британскими исследованиями в этой области. За полвека непрерывного труда (Абель умер в 1902 году) он успел сделать очень многое. Его работы по теории горения пороха и детонации взрывчатых веществ были известны каждому артиллеристу. Он предложил остроумный метод определения устойчивости взрывчатых веществ («проба Абеля»), До сих пор во всех странах мира применяется метод Абеля для определения температуры вспышки жидких горючих. Заслуги английского ученого были признаны широко и немедленно, и ему не пришлось жаловаться на невнимание современников и утешать себя надеждами на посмертную славу.
В 1860 году – в возрасте всего тридцати трех лет–он был избран в Королевское общество. Вскоре Абель стал также президентом английского Химического общества, президентом Общества химиков-технологов, президентом Института железа и стали, почетным доктором Оксфордского и Кембриджского университетов. Своим «собратом по науке» его назвал сам Менделеев. За выдающиеся заслуги Абель в 1893 годы был удостоен звания баронета и стал именоваться «сэр Фридрих». Друзья, однако, считали, что Фридрих избрал для себя ложный путь и что его истинное призвание – музыка. Действительно, в исполнительском мастерстве Абель превосходил любого профессионала, но, видимо, горящий фитиль у пороховой бочки дарит более сильные ощущения, чем напряженное внимание зрительного зала, а гул мощного взрыва иногда впечатляет больше, чем грозный аккорд Бетховена. Во всяком случае, этот Паганини пороха виртуозно сыграл свою партию в ансамбле выдающихся творцов взрывчатых веществ. Несмотря на отдельные заблуждения, связанные со своекорыстными мотивами и личными антипатиями (как это мы уже видели и еще увидим на примере его отношений с Нобелем), Абель оставил заметный след в истории техники.
В 1868 году, когда больной Шенбейн, простудившись при возвращении с курорта, умирал в чужом городе, Абелю уже удалось разработать метод получения прессованного пироксилина, который, в отличие от взрывчатой ваты Шенбейна, стал пригоден для промышленного применения. Остроумный способ Абеля был несложен и безопасен. Он напоминал производство бумаги. Пироксилин размельчался в воде (во влажном виде он совершенно безобиден) до его превращения в однородную кашу, после чего из него формовались листы, бруски и шашки – совсем как при изготовлении картона или папье-маше. Такой пироксилин сохранял еще волокнистое строение и сгорал недостаточно равномерно, что не позволяло использовать его в качестве пороха. Однако для промышленных целей – в качестве дробящего веществ в горном деле – его можно было применять успешно и совершенно безопасно. Достаточно было приобрести голландер (машину, применяемую в бумажном производстве), внести в него кое-какие изменения, и можно было начинать дело.
Прессованный пироксилин нашел довольно широкое применение, однако решающий коммерческий успех новой взрывчатки был подорван (подорван в буквальном смысле слова) конкуренцией со стороны только что появившегося динамита. Вот почему с тех пор Абель видел в Нобеле и научного, и промышленного соперника.
Несмотря на очевидные достижения в освоении пироксилина, все-таки и не Абелю выпала честь создания первого бездымного пороха. Решающий успех пришел к французам, и добились они его не случайно. Исследования пироксилина, перенесенные Ленком во Францию, были продолжены Управлением порохов и селитр с должной основательностью и размахом. Во главе работ по взрывчатым веществам во Франции стоял Марселей Бертло – один из самых могучих умов прошлого века, вооруживший исследователей первой научной теорией взрыва и экспериментальными методами его изучения. Благодаря Бертло Управление порохов обладало лучшими в мире лабораториями и приборами. В испытании взрывчатых веществ с Бертло сотрудничал крупнейший специалист по баллистике и теории взрыва академик Жан-Роз Сарро, возглавлявший Институт порохов и селитр.
Задачу непосредственного получения бездымного пороха Бертло и Сарро возложили на молодого, но подающего большие надежды воспитанника Политехнической школы Вьеля. Поль-Мари-Эжен Вьель родился в 1854 году. По окончании Политехнической школы он сразу же выдвинулся в первые ряды исследователей взрывчатых веществ. Двадцати пяти лет он стал заместителем директора Центральной лаборатории порохов и селитр. В течение долгих лет тесного сотрудничества с Бертло он провел множество важнейших исследований в области детонации взрывчатых веществ, методики их исследования и испытания, теории горения порохов. Он установил так называемый «закон Вьеля», связывающий скорость горения твердых взрывчатых веществ с давлением. Но главной его заслугой, несомненно, является изобретение бездымного пороха.
Для решения кардинальной задачи создания пороха – образования совершенно однородной пироксилиновой массы – Вьель вознамерился применить чрезвычайно простой прием. Он хотел растворить пироксилин в подходящем растворителе, затем, отогнав растворитель, получить уже не волокнистую вату, а однородный плотный материал. План был хорош, но неясно было, как его осуществить. Упрямый «стрелятельный хлопок» упорно не хотел ни в чем растворяться. Лишь после долгих поисков Вьель нашел, что пироксилин не то чтобы растворяется, но по крайней мере набухает (да и то плохо) в смеси спирта и эфира. Еще одна продолжительная вереница бессонных ночей помогла Вьелю установить, что растворять нужно не чистый пироксилин, а смесь его с коллоксилином. Такая смесь, составленная в нужной пропорции, разбухает в спирто-эфирном растворителе, как желатин в воде, с образованием густой студнеобразной полупрозрачной однородной массы.
Желатинирование – главное условие получения хорошего плотного однородного пороха. В желатинировании, в подборе растворителей и условий растворения как раз и состоит сущность изобретения Вьеля. Студнеобразную массу можно формовать – продавливать через отверстия разных форм и размеров, подобно тому, как это делают с тестом при изготовлении макарон. Возможность формования крупных зерен – важное достоинство бездымных пороков. Чтобы вытолкнуть тяжелый снаряд из длинного ствола дальнобойного орудия, нужно, чтобы порох горел в стволе достаточно долго. Поэтому зерна артиллерийского пороха делают довольно крупными – до двух сантиметров толщиной. Дымный порох не очень подходит для этой цели. Какие бы большие зерна из него ни делать, они в первый же момент взрыва сминаются в порошок, сгорающий быстрее, чем требуется.
Бездымный порох прочен, и из него легко формовать зерна любой толщины и конфигурации. Современный порох уже давно не «порох» – не порошок, а «зерна» – уже давно не зерна, хотя и по-прежнему так называются. Порох формуется в виде чешуек, струн, пластин, лент, макарон, многоканальных трубок, шашек, вес которых составляет иногда десятки килограммов, но по традиции все эти формы называют зернами.