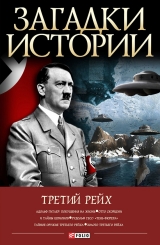
Текст книги "Третий рейх"
Автор книги: В. Булавина
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Взрыв в «Волчьем логове»
20 июля 1944 года на заседании военного совета в ставке «Вольфшанце» («Волчье логово») должен был обсуждаться вопрос о вооружении дивизий «народных гренадеров» (ополченцев). В связи с этим на заседание прибыл занимавшийся формированием этих дивизий полковник граф фон Штауффенберг. Вместе с ним явились в ставку также входившие в заговорщическую организацию начальник связи германской армии генерал Фелльгибель и обер-лейтенант Хефтер.
Когда началось заседание Военного совета, Фелльгибель и Хефтер остались в узле связи якобы для разговора с Берлином, а Штауффенберг прошел в зал заседаний. Так как его вопрос стоял не первым на повестке дня, Штауффенберг попросил разрешения выйти на несколько минут в узел связи и оставил свой портфель на полу, у ножки стола. В портфеле находилось взрывное устройство, часовой механизм которого Штауффенберг незаметно запустил перед заседанием.
Гитлер рассматривал развернутые на столе карты и слушал доклады генералов о положении на фронтах. В тот момент, когда он подошел к середине огромного стола, поближе к карте Центрального фронта, у правой стороны стола, где лежал портфель Штауффенберга, прогремел взрыв. Адъютант Гитлера Гюнше и майор Ион, стоявшие у окон, были выброшены силой взрыва наружу вместе с оконными рамами. Стенографу Бергеру оторвало обе ноги. Генералы Шмундт, Кортен и полковник Брандт получили тяжелые ожоги, от которых вскоре умерли.
Гитлер продолжал стоять за столом. Взрывной волной его брюки были разорваны в клочья. Он был в состоянии такого нервного шока, что не мог идти, и два охранника с трудом довели его до бункера, прикрывая сзади уцелевшими остатками стратегической карты.
Услышав звук взрыва, Штауффенберг, Фелльгибель и Хефтер вскочили в автомобиль и умчались на аэродром, не узнав результатов покушения, они направились в Берлин.
Когда в ставке после взрыва выяснилось, что Гитлер не пострадал, в «Волчьем логове» стали искать того, кто заложил бомбу. Поиски быстро дали результат. Шофер, отвозивший Штауффенберга и его ординарца на аэродром, заметил, что полковник выбросил в окно сверток, и доложил об этом службе безопасности. Сверток нашли, это оказался второй взрывпакет, который Штауффенбергу не удалось снабдить взрывателем. Гитлер и его подручные теперь знали имя своего главного врага.
А в это время в штабе сухопутных войск на улице Бендлер события разворачивались стремительно. Штауффенберг и Гефтен вместе с генерал-полковником Беком и другими заговорщиками пошли к Фромму и потребовали подписать план «Валькирия». Фромм, знавший уже про неудавшееся покушение, отказался, тогда его арестовали и заперли в соседней комнате. Место командующего занял один из заговорщиков, генерал-полковник Гёпнер, уволенный Гитлером из армии в 1942 году за отказ выполнить приказ, который генерал считал неправильным.
Штауффенберг не отходил от телефона, убеждая командиров частей и соединений, что фюрер мертв, и призывая выполнять приказы нового руководства – генерал-полковника Бека и генерал-фельдмаршала Вицлебена. Соответствующие депеши были посланы и в войска за рубежом. В Вене и Праге тотчас приступили к выполнению плана «Валькирия». В Париже указание из Берлина восприняли особенно серьезно: там арестовали около 1200 эсэсовцев и сотрудников других служб безопасности.
Однако это был последний успех заговорщиков, больше ничего добиться не удалось: слишком неуверенно и хаотично они действовали. Многое из того, что было запланировано, в спешке просто забылось. Не были взяты под контроль правительственные здания в Берлине, прежде всего Министерство пропаганды, имперская канцелярия, главное управление имперской безопасности. Осталась незанятой радиостанция. Планировалось, что генерал Линдеманн должен был зачитать по радио обращение восставших к немецкому народу. Но в суматохе, царившей в здании на улице Бендлер, никто не догадался передать ему условный сигнал начать передачу.
Многие воинские командиры не торопились выполнять план «Валькирия», стараясь сначала связаться со Ставкой Гитлера. Это удалось, например, командующему группой войск «B» во Франции генерал-фельдмаршалу Гансу Гюнтеру фон Клуге, который потребовал он своих подчиненных не повиноваться приказам из Берлина. Однако остановить начавшиеся аресты оказалось не просто, и задержанные эсэсовцы до глубокой ночи оставались в заключении.
Около шести вечера военный комендант Берлина Газе, получив телефонограмму Штауффенберга, вызвал к себе командира батальона охраны майора Ремера, сообщил ему о смерти фюрера и приказал держать батальон в боевой готовности. Случайно присутствовавший при разговоре партийный функционер убедил Ремера связаться с гауляйтером Берлина, министром пропаганды Геббельсом, и согласовать с ним полученный приказ. Йозефу Геббельсу удалось установить связь с Гитлером, и тот передал свой приказ: Ремер производится в полковники и ему поручается подавить мятеж любой ценой.
В восемь часов вечера батальон Ремера уже контролировал основные здания в центре Берлина. В 22:40 рота курсантов военной школы, вызванная заговорщиками для охраны штаба на улице Бендлер, была разоружена, и свежеиспеченный полковник во главе своего отряда ворвался в здание. Граф фон Штауффенберг успел позвонить в Париж и сообщить, что все кончено, – попытка государственного переворота провалилась.
Через пять минут верные Гитлеру офицеры арестовали Клауса фон Штауффенберга, его брата Бертольда, Вернера фон Гефтена, Людвига фон Бека, Эриха Гёпнера и других заговорщиков. Освобожденный из-под ареста генерал-полковник Фромм сразу начал действовать: «Господа, – сказал он, – теперь я сделаю с вами то, что вы сегодня хотели сделать со мной».
Фромм собрал заседание военного суда и тут же приговорил пять человек к смерти. Осужденным было разрешено написать перед казнью короткую записку родственникам. Фромм сделал единственное исключение для генерал-полковника Бека – ему разрешили покончить жизнь самоубийством. Он два раза выстрелил себе в висок, но ни одна пуля не оказалась смертельной. Тогда фельдфебель из отряда Ремера своим выстрелом избавил генерала от дальнейших страданий. Четверых заговорщиков – генерала Ольбрехта, лейтенанта Гефтена, Клауса фон Штауффенберга и полковника Мерца фон Квирнхайма, начальника общего отдела штаба сухопутных войск, вывели по одному во двор штаба и расстреляли около кучи песка. Перед последним залпом Штауффенберг успел крикнуть: «Да здравствует святая Германия!» Расстрелянных тут же и похоронили. Остальных арестованных передали в руки гестапо.
Сразу после взрыва поведение Гитлера было на удивление спокойным. Уже через час после покушения он встречал на вокзале Растенбурга Бенито Муссолини, главу недавно образованной фашистами на севере Италии республики Сало. Они вместе вернулись в «Волчье логово», где осмотрели все, что осталось от взорванного барака. Но когда оба диктатора сели пить чай, Гитлера будто прорвало. С пеной у рта он кричал, что уничтожит не только заговорщиков, но и всех, кто был с ними связан, включая членов семей. Он жаждал не просто казни, но мучительных пыток, его враги должны «висеть на крюках, как скот на бойне».
Желание фюрера было законом: на следующий день после подавления мятежа Гиммлер создал специальную комиссию из 400 высших чинов СС для расследования «заговора 20 июля», и по всей Германии начались аресты, пытки, казни… Под пытками люди выдавали все новых участников, круг их ширился, кровь текла рекой. Всего по делу о покушении 20 июля были арестованы более семи тысяч человек, казнены около двухсот. Среди репрессированных противников режима были и участники уцелевших групп коммунистического Сопротивления.
Но прежде, чем мстить живым, гитлеровцы решили свести счеты с мертвыми. По приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера трупы казненных во дворе штаба на улице Бендлер были выкопаны, сожжены, а их пепел развеян по ветру.
Никто из участников заговора не готовил себе убежище на случай провала восстания. Только некоторые из них пытались скрыться, да и тех выдали платные и добровольные осведомители. Так попал в руки гестапо Карл Гёрделер, уехавший из Лейпцига в маленький городок в Восточной Пруссии за два дня до взрыва в «Волчьем логове». За голову бывшего обер-бургомистра пообещали миллион рейхсмарок. 12 августа Гёрделера выдала знакомая.
Офицеры и генералы, участвовавшие в заговоре, были уверены, что суд офицерской чести приговорит их к расстрелу, и видели свой долг в том, чтобы умереть с достоинством. Они не представляли, какая участь их ждала. Президент «народного суда» Роланд Фрайзер сделал все, чтобы подсудимые во время процесса были унижены и опозорены. Казни совершались в специально оборудованном для этого помещении берлинской тюрьмы Плётцензее. Мучения подвешенных на огромных крюках жертв снимали на кинопленку, и фюрер часто наслаждался зрелищем кровавой мести.
Те, кто был знаком с нацистскими методами следствия, старались в руки гестапо не даться живыми. На следующее после взрыва утро Геннинг фон Тресков, один из самых последовательных противников Гитлера, уехал вместе с майором Куном на Восточный фронт в свою 28-ю егерскую дивизию. Оставив Иоахима Куна в части, генерал Тресков ушел в ближайший лесок и застрелился. Куну удалось представить дело так, что у властей сначала даже не возникло подозрений о связи этого самоубийства с событиями 20 июля. Трескова похоронили в его имении в Вартенберге, но через несколько дней опомнившиеся эсэсовцы выкопали и сожгли труп, а пепел развеяли.
Тогда майор Кун решил спасать свою жизнь: 27 июля он добровольно сдался в плен под Белостоком наступающим войскам Красной армии. Известный писатель, в то время офицер политуправления фронта Лев Копелев выдал Куну справку, что тот является пленным «особого значения»: благодаря Иоахиму Куну у историков оказались уникальные материалы о заговорах против Гитлера. Переход Куна на сторону врага был замечен гитлеровскими властями: майор был заочно приговорен к смерти и за участие в заговоре 20 июля, и за измену. Но и в советском плену Куну пришлось хлебнуть лиха: несмотря на сотрудничество с советской военной контрразведкой СМЕРШ он был в 1951 году осужден на 25 лет лагерей. В общей сложности он отсидел 11 лет, в том числе пять лет в Александровском централе – каторжной тюрьме под Иркутском, и был передан властям ФРГ в 1956 году.
Одиноким и больным стариком, избегавшим всяких контактов с соотечественниками, всеми забытый Кун умер в городке Бад-Боклет, неподалеку от Киссингена. Никто не считал его героем Сопротивления, в глазах немцев он был дважды предателем.
Гитлер получил в результате покушения ожог правой ноги, частичную парализацию правой руки и повреждение барабанных перепонок. С этого момента он уже не пытался даже внешне оказывать доверие своим генералам. Всех их перед посещением Ставки тщательно обыскивали.
После путча 20 июля Гитлер еще девять месяцев был у власти. За это время погибло вдвое больше людей, чем за пять военных лет до покушения. Возможно, что если бы заговор Штауффенберга и его товарищей был удачным, история Второй мировой войны была бы другой.
Даже под пытками никто из заговорщиков не раскаялся, все они действовали сознательно и убежденно. В предсмертной записке генерал-полковник Бек написал: «Долг мужчин, которые действительно любят отечество, отдать ему все свои силы. Даже если нам не удалось добиться цели, мы можем сказать, что долг выполнили».
Примерно то же сказал генерал Фридрих Ольбрехт своему приемному сыну накануне путча: «Не знаю, как потомки будут оценивать наш поступок, но знаю точно, что мы все действовали не ради своих личных интересов. В критической ситуации мы старались сделать все возможное, чтобы уберечь Германию от поражения».
Но в глазах многих немцев путчисты 20 июля даже после войны долгое время считались предателями, что и предвидел Штауффенберг.
После того как 8 сентября 1944-го состоялся «народный суд» над Гёрделером, он начал в тюрьме писать «Меморандум приговоренного к смерти», своеобразное политическое завещание лидера консервативной оппозиции. Только в конце жизни бывший лейпцигский обер-бургомистр осознал иллюзорность своих политических построений. Он впервые заговорил о «скотском убийстве миллиона евреев» и о трусости немецкого общества, не желавшего верить в происходящее. В тюремной камере накануне казни Карл Гёрделер написал слова, на которые мало кто из немцев мог тогда осмелиться: «Вероятно, Господь карает весь немецкий народ, даже невинных детей, за то, что мы позволили уничтожать евреев, не пошевелив пальцем в их защиту».
Участники антигитлеровской оппозиции не были ни идеальными героями, ни святыми. Они часто находились в плену господствующих предрассудков, не верили в демократические ценности. Но они восстали против зла в то время, когда большинство их соотечественников поддерживали преступный режим или бездействовали. Восстание провалилось, а самих заговорщиков ждала садистская казнь. Свой «Меморандум» Гёрделер закончил так: «Я прошу мир принять нашу мученическую судьбу как жертву за немецкий народ».
Отдельно стоит упомянуть о судьбе еще одного участника этого заговора, графа Шуленбурга. В январе 1946 года бывший советник германского посольства в Москве Готхольд Штарке дал собственноручные показания об известных ему политических убеждениях и деятельности бывшего посла Германии в СССР графа фон дер Шуленбурга, казненного по приговору «народного трибунала» в связи с его участием в заговоре против Гитлера.
В частности, Штарке показал: «13 или 14 августа 1944 года, точную дату я сейчас не помню, Шуленбург вызвал меня к себе и объявил, что в связи с событиями 20 июля он ежеминутно ожидает ареста… Перед арестом он желает мне сообщить, что он верен своей политике “ориентации на Восток” и пытался убедить своих товарищей по заговору в правильности своей политической линии. Более того, он объявил им о своей готовности перейти с белым флагом в руках через линию фронта и вымолить у русских условия перемирия, сделав, таким образом, последний шаг к спасению германского народа.
Затем Шуленбург обратился ко мне с просьбой в случае его казни, и если я сам останусь в живых, передать после окончания войны, которая, вероятно, завершится капитуляцией Германии, народному комиссару иностранных дел Советского Союза господину Молотову свое последнее послание. Шуленбург заявил мне тогда буквально следующее: “Сообщите господину Молотову, что я умер за дело, которому я посвятил свою жизнь в Москве, то есть за советско-германское сотрудничество… Передайте господину Молотову, что в трагический утренний час 22 июня 1941 года я был уверен в том, что надежды германского правительства обеспечить себе и германскому народу руководящую роль по отношению к европейским нациям и объединенным народам Советского Союза обречены на провал.
Факт моей смерти за дело сотрудничества советского и германского народов даст мне все же право обратиться к руководству советской внешней политики с мольбой, чтобы оно мудро и терпимо отнеслось к германскому народу, так как его широчайшие слои, и не в последнюю очередь интеллигенция, осуждали безумие войны против Советского Союза…” На этом закончился мой последний разговор с Шуленбургом. На следующий день Шуленбург был арестован и вскоре казнен».
Дело под кодовым названием «Миф»
20 ноября 1944 года после покушения Гитлер покинул свое логово и уехал в Берлин. Немцы сами взорвали бункер, сейчас от него осталась лишь стена. Избежав смерти от рук заговорщиков, Гитлеру пришлось покончить с собой и перед этим осознать, что вместе с ним погибает то, что он создал – нацистская Германия.
Тут нас подстерегают новые вопросы и загадки. Действительно ли Гитлер покончил жизнь самоубийством или ему все-таки удалось бежать? Являются ли те трупы, которые были найдены советскими подразделениями, трупами Адольфа Гитлера и Евы Браун? Как именно умер Гитлер?
В советской историографии утвердилась точка зрения, что Гитлер принял яд (цианистый калий, как и большинство покончивших с собой нацистов), на самом деле, как свидетельствуют очевидцы, он застрелился. Существует также версия, согласно которой Гитлер, взяв в рот ампулу с ядом, выстрелил в нее из пистолета. Еще накануне фюрер отдал приказ доставить из гаража канистры с бензином (для уничтожения тел). 30 апреля, после обеда, Гитлер попрощался с лицами из своего ближайшего окружения и, пожав им руки, вместе с Евой Браун удалился в свои апартаменты, откуда вскоре раздался звук выстрела. Слуга Гитлера Хайнц Линге, его адъютант Отто Гюнше, а также Геббельс, Борман и Аксман вошли в апартаменты фюрера. Мертвый Гитлер сидел на диване – на виске у него расплывалось кровавое пятно. Рядом лежала Ева Браун без видимых внешних повреждений. Гюнше и Линге завернули тело Гитлера в солдатское одеяло и вынесли в сад рейхсканцелярии; вслед за ним вынесли и тело Евы. Трупы положили недалеко от входа в бункер, облили бензином и сожгли.
Но так ли все происходило на самом деле? Недаром расследование обстоятельств «исчезновения Гитлера», проводившееся советскими спецслужбами, носит название «Миф». О последних днях Гитлера и его окружения имеется огромное количество мемуаров и исследований, но несмотря на это, однозначности в описании событий нет.
Дело «Миф» содержит шесть томов, фрагменты черепа «предположительно Гитлера», лоскут обивки дивана из бункера рейхсканцелярии и два альбома фотографий. Оно было начато оперативным управлением Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД/МВД СССР для ревизии и проверки первого (май 1945 года) расследования обстоятельств смерти Гитлера. Главную скрипку в майском расследовании играла другая советская спецслужба – Главное управление контрразведки СМЕРШ («Смерть шпионам») Наркомата обороны СССР, руководителем которой был В. С. Абакумов – один из основных конкурентов заместителя председателя СНК СССР, наркома внутренних дел СССР Л. П. Берии.
Альтернативное расследование НКВД/МВД СССР, о котором в отличие от майского (1945 г.) до сих пор известно очень мало, было одним из эпизодов в закулисной политической борьбе вокруг Сталина. И здесь тайн и загадок до сих пор ничуть не меньше, чем в истории падения Третьего рейха.
Учитывая, что вся информация о самоубийстве Гитлера во времена Сталина и довольно долго после его кончины была государственной тайной, можно также предположить, что дело «Миф» (и борьба советских спецслужб вокруг него) каким-то образом связано с историей взаимоотношений СССР и Запада в годы «холодной войны», а загадка смерти Гитлера занимала определенное место в политических расчетах Сталина. Об этом можно судить по тому, что Сталин так ни разу и не ответил прямо на вопрос союзников: «Что случилось с Гитлером?»
Но что же действительно случилось с Гитлером? Разгадать эту загадку постарался В. А. Козлов, кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного архива Российской Федерации, который подробно изучил дело «Миф». Приводим материалы этого дела.
3 мая 1945 года из Берлина в Москву по системе правительственной связи «ВЧ» поступило два сообщения на имя наркома внутренних дел СССР Берии и начальника Главного управления контрразведки СМЕРШ Абакумова. В одном из документов, подписанных заместителем начальника управления контрразведки СМЕРШ 1-го Белорусского фронта генерал-майором Сидневым, сообщалось об обнаружении и опознании трупов Геббельса и его жены.
Во втором сообщении говорилось об исчезновении Гитлера: «Арестованный Управлением СМЕРШ 1-го Белорусского фронта личный врач Гитлера – хирург обер-штурмбанфюрер Хаазе Верлер (в ряде документов дела “Миф” эта фамилия ошибочно указана как “Хазе”, что при цитировании исправлено без специальных оговорок) на допросе 03 мая 1945 г. о местопребывании Гитлера показал, что он видел Гитлера 30 апреля с. г. в Берлине в его личном блиндаже в районе гитлеровской канцелярии рейхстага при следующих обстоятельствах: Гитлер вызвал его, Хаазе, для того, чтобы спросить, будет ли действовать имеющийся у него, Гитлера, яд, и показал ему ампулу. В ампуле был цианистый калий. Хаазе доложил Гитлеру, что действие яда лучше всего испытать на животном. Гитлер приказал привести одну из своих собак и дал ей яд из ампулы. Собака через минуту сдохла. Когда Хаазе входил к Гитлеру в блиндаж, оттуда вышел начальник канцелярии – рейхсляйтер Борман. Гитлер в блиндаже находился один и был в подавленном состоянии, выглядел стариком, голова была вся седая и он весь дрожал. После этого Хаазе ушел от Гитлера и больше его не видел. Из разговоров с Борман [ом] Хаазе известно, что Гитлер вскоре после этого покончил жизнь самоубийством – отравился и труп его сожжен. Подробностей, как это было, он не знает. Перед самоубийством Гитлер раздал яд своим подчиненным. Для проверки этих данных и получения дополнительных материалов выезжаю на место в Берлин вместе с врачом Хаазе, который знает все блиндажи в расположении канцелярии. О результатах доложу дополнительно».
Елена Ржевская (в документах 1945 года – Каган), переводчик группы контрразведчиков полковника В. И. Горбушина, нашедшей и опознавшей труп Гитлера в мае 1945-го, отмечала: «03 мая на территории имперской канцелярии появилась группа генералов штаба фронта. Проходя по саду мимо бетонированного котлована, на дно которого немцы складывали убитых во время бомбардировки и обстрела рейхсканцелярии, один из генералов ткнул указательным пальцем: “Вот он!” В кителе, с усиками, убитый издали слегка смахивал на Гитлера. Его извлекли из котлована и, хотя тут же убедились: не он, – все же началось расследование. Призвали опознавателей, в один голос заявивших: “Нет, не он”. Все же этот убитый мужчина с усиками, в сером кителе и заштопанных носках лежал в актовом зале рейхсканцелярии до тех пор, пока прилетевший из Москвы бывший советник нашего посольства в Берлине, видевший неоднократно живого Гитлера, подтвердил: не он».
Именно этот труп снимали кинооператоры и даже включали в последующем в кинохронику. Донесения Сиднева были зарегистрированы 1-м отделением секретариата НКВД, отвечавшим за всю переписку наркома и его заместителей, только 7 мая 1945 года. Рукописная пометка внизу документа: «Доложено. К делу», – свидетельствует о том, что Берия получил информацию из Берлина с опозданием на 4 дня и Сталину ее не направлял. Видимо, не Берия, а начальник СМЕРШ Абакумов доложил Сталину первым о смерти Геббельса и Гитлера.
Так началось своего рода соревнование между советскими спецслужбами – кто первым найдет труп Гитлера и сообщит об этом Сталину. И, по всей вероятности, на старте Абакумов опередил своих конкурентов. Поиски осложнялись тем, что важные свидетели по делу об исчезновении Гитлера были взяты в плен на участках нескольких армий, вошедших в мае 1945-го в Берлин, и ни разу – ни в то время, ни позднее – одна и та же группа расследователей не смогла допросить всех причастных к делу лиц.
Например, Е. Ржевская с сожалением пишет, что такие важные очевидцы, как Гюнше и Раттенхубер, были взяты в плен на участках соседней армии, и люди полковника Горбушина не имели возможности их допросить.
Из донесения генерала Сиднева следует, что еще до того, как были найдены трупы, начала складываться та версия смерти Гитлера, в достоверности которой, судя по всему, до конца своих дней был убежден Сталин. Показания врача Хаазе явно подводили к тому, что Гитлер намеревался принять цианистый калий.
4 мая 1945 года доктор Кунц, помощник главного зубного врача при имперской канцелярии Хаазе, несколько оправившись от шока, вызванного участием в отравлении детей Геббельса, сообщил людям Горбушина: он слышал от Раттенхубера, что труп Гитлера собирались сжечь в саду.
«В саду имперской канцелярии, – вспоминает Е. Ржевская, – один из бойцов подполковника Клименко, Чураков, обратил внимание на воронку от бомбы влево от входа в “фюрербункер”, если стоять к нему лицом. Внимание Чуракова привлекло то, что земля в воронке была мягкой, рыхлой, лежал скатившийся сюда невыстреленный фаустпатрон и торчало что-то, похожее на край серого одеяла. Спрыгнувший на дно воронки солдат наступил на полуобгоревшие трупы мужчины и женщины, засыпанные слоем земли». Поначалу никому не пришло в голову, что это могут быть трупы Гитлера и его жены. Лишь на следующий день, 5 мая, тела извлекли наружу, составив об этом соответствующий акт. Там же обнаружили и трупы двух умерщвленных собак – овчарки и щенка. Приказание о судебно-медицинском исследовании предполагаемых трупов Гитлера и его жены, Евы Браун, как об этом сказано в акте вскрытия, было отдано 3 мая 1945 года не представителями НКВД или СМЕРШ, а членом Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенантом Телегиным.
Та же комиссия освидетельствовала и другие трупы (в частности, Геббельса, его жены и их детей), обнаруженные в бункере еще 2 мая. Именно тогда и была создана Телегиным комиссия. Обнаруженные же 5 мая еще два трупа включили в общий список для вскрытия.
Продолжение расследования осложнилось передислокацией советских войск в Берлине. 3-я ударная армия (командующий генерал-полковник В. И. Кузнецов), занимавшая рейхсканцелярию, выводилась из города. В Берлине оставались части 5-й ударной армии (командующий генерал-полковник Н. Э. Берзарин, он же первый советский комендант Берлина). Отныне за охрану рейхсканцелярии отвечали его войска. Но, как пишет Е. Ржевская (Каган), «не оставлять же другой армии трофеи, не бросать же не доведенное нами самими до конца дело. Пришлось прибегнуть к такой “операции”: на рассвете, в 04 часа утра, капитан Дерябин с шофером, пробравшись в рейхсканцелярию, похитили, завернув в простыни, трупы Гитлера и Евы Браун и в обход часовых, через забор перебрались на улицу, где их ждали два деревянных ящика и машина».
Пока СМЕРШ занимался поиском, опознанием и перетаскиванием тел с места на место (втайне от других служб), в погоню за информацией включилась военная разведка. 5 мая 1945 года начальник разведывательного отдела штаба 1-го Белорусского фронта генерал-майор Трусов отправил в Москву донесение «о судьбе Гитлера, Геббельса, Гиммлера, Геринга и других государственных и политических деятелей Германии, составленное по показаниям военнопленных генералов немецкой армии».
Сообщение получил заместитель начальника разведывательного управления Генерального штаба Советской Армии генерал-лейтенант Онянов, а начальник управления генерал-полковник Ф. Кузнецов переслал донесение Берии.
Основным источником сведений военной разведки о судьбе Гитлера был генерал Вейдлинг, бывший командующий обороной Берлина. Он сообщил: «30.04 я был вызван к генералу Кребсу между 19 и 20 часами. Я прибыл в имперскую канцелярию. Меня ввели в комнату Гитлера. Здесь я застал генерала Кребса, имперского министра Геббельса и личного секретаря Гитлера Бормана (подобная ошибка в переводе сообщения на русский язык должности Бормана говорит о том, что и руководители военной разведки очень спешили доложить начальству о смерти Гитлера. – прим. авт.). Мне заявили, что после 15 часов дня (30.04) Гитлер с женой покончили самоубийством путем принятия яда, после чего Гитлер еще застрелился».
8 мая 1945 года Кузнецов дополнил полученные от Вейдлинга сведения, направив Берии собственноручные показания группенфюрера СС и генерал-лейтенанта войск СС и полиции Ганса Раттенхубера и адъютанта Гитлера от войск СС Отто Гюнше. (В середине мая Гюнше по тому же поводу допрашивали работники еще одной спецслужбы – заместитель начальника Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР А. З. Кобулов и его подчиненные – Парпаров и Савельев.) Показания касались «последних дней пребывания их в ставке верховного командования вооруженных сил Германии и судьбы Гитлера».
Кому еще направил свое донесение Кузнецов, неизвестно. Но Берия получил только 3-й экземпляр документа. Скорее всего, информацию, полученную от Раттенхубера и Гюнше, докладывал Сталину тоже не он. (Если вообще кто-нибудь решился докладывать Сталину эти весьма неполные и маловразумительные сведения.)
Из показаний Гюнше следовало, что сам он выстрела в комнате Гитлера не слышал, о самоубийстве узнал от главного камердинера Гитлера Линге, который сказал: «Фюрер умер». Лица Гитлера при выносе трупов Гюнше не видел, зато почувствовал доносившийся из комнаты сильный запах миндаля. Раттенхубер также узнал о смерти Гитлера от Линге. В отличие от Гюнше, который написал только о том, что он лично видел или слышал, Раттенхубер изложил следствию и свою версию происшедшего в бункере: «В 16.00 30.04.1945 г. после того, как мною были проверены посты, я пришел в бетонированное убежище фюрера. Штурмбаннфюрер Линге сообщил мне, что фюрера больше уже нет в живых и что сегодня он, Линге, выполнил самый тяжелый приказ в своей жизни. Далее он рассказал, что завернул в одеяло трупы фюрера и его жены и сжег их в саду вблизи запасного выхода из бетонированного убежища. По словам Линге, в комнате остался ковер с большим пятном крови. Он заявил, что им будет дано приказание этот ковер вынести и сжечь. Скатанный ковер в это время был вынесен и сожжен. Мне было известно от доктора Штурмпфэгер о том, что последний должен был дать Гитлеру “цианкалий” (цианистый калий), поэтому меня поразило наличие этих пятен крови. Линге сообщил мне, что ему сегодня Гитлер приказал выйти из комнаты и, если через 10 минут он ничего не услышит, снова войти в комнату и выполнить его приказ. Так как в это время он положил пистолет Гитлера на стол в передней, то мне стало понятным, что он подразумевал под самым тяжелым приказанием фюрера и откуда возникло пятно крови на ковре. На основании изложенного я пришел к выводу, что по истечении десяти минут после отравления Гитлера Линге застрелил его».
Но это свидетельство Раттенхубера при всех последующих попытках расследования фактически в расчет не принималось, однако Е. Ржевская и создатели фильма «Освобождение» использовали именно эту мелодраматическую историю в своих произведениях.







