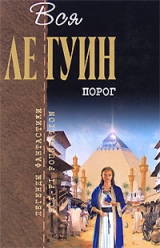
Текст книги "Порог (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Разве что, как сказал тогда Хозяин Города – а действительно ли он это сказал? – она может помочь им иначе, не тем, что, любя этих людей, приходит сюда и живет среди них, а тем, что пойдет по своей дороге дальше, за пределы Города.
Пока что никто, кроме Хозяина, вообще никогда не говорил о том, что в Городе На Горе неладно, и она поначалу мало об этом задумывалась. Позже, когда заметила сама, что в город почему-то и впрямь никто не приходит и никто из него не уходит, что овец пасут только на ближних пастбищах, что в Городе не хватает соли, пшеничной муки, что Триджьят, потеряв удобную швейную иглу, очень расстроилась и искала ее несколько дней… так вот потом, заметив это и многое другое, она поняла: то, на что раньше намекал Хозяин, правда – все дороги закрыты. Но почему? И кем? Или чем? Она раза два-три пыталась поговорить об этом с Триджьят и с Софиром, но те избегали ответов на ее вопросы – Софир с дурацким смехом, Триджьят с таким неприкрытым ужасом, что Айрин поняла: она не сможет вновь заговорить с ними на эту тему. Это было какое-то табу или столь ужасная тайна, упоминать о которой вообще было нельзя. И они разговаривали теперь только о повседневных заботах и делали вид, что все в порядке. Именно в этом и заключались та фальшь, которую она почувствовала, и все усиливающаяся неловкость. Им действительно нужна была помощь, но они не желали этого признавать.
А что, если пойти дальше, за Тембреабрези, на север и спуститься в долину?
Года два тому назад, когда по ту сторону порога тянулось бесконечно длинное воскресенье, она отправилась вместе с Софиром и старым купцом Гобимом, у которого была куча помощников и караван крошечных осликов, груженных шерстью и шерстяными изделиями, сначала в одну деревню – на расстоянии примерно дня ходьбы от Тембреабрези на север, через отрог Горы, – а потом на северо-восток, в город, который назывался Три Источника и был расположен на холмистой предгорной равнине; они два дня торговали там, а потом вернулись назад – путешествие заняло всего шесть дней. Она помнила то место, где дорога к Трем Источникам резко поворачивает к востоку, а дорога на север идет прямо, к темнеющему вдали перевалу. Сколько времени нужно, чтобы отсюда спуститься в долину? И как долго придется идти через долину к Столице? Она не имела об этом ни малейшего понятия; конечно, идти пешком придется много дней, но она, во-первых, может взять еды с собой, и, во-вторых, по дороге, конечно, будут встречаться деревни и города, и она наверняка сможет добраться по бескрайним сумеречным долинам до этой Столицы и попросить помощи для Тембреабрези. Если оттуда еще пошлют ее, эту помощь. А может, она тоже не имеет права ходить по дорогам? Нет, ей не смеют запретить это. Если Хозяин Города попросит ее пойти, она пойдет.
Он все не посылал за ней, и в Айрин росло нетерпение и беспокойство. Она не могла понять своих здешних друзей, которые вроде бы как ни в чем не бывало занимались своими делами и никогда не говорили о том, что неладно вокруг них, совсем как те раковые больные, которые уверяют окружающих, что у них все прекрасно и они совершенно здоровы, совсем как ее мать, которая вечно твердит: «Все в порядке». Она не хотела вспоминать об этом здесь, ей была отвратительна сама мысль о том, что приходится и здесь об этом думать. Но почему же они молчат? Почему ничего не делают? Чего они ждут?
Наконец Хозяин Города пригласил ее на прием. Случалось, ее приглашали на такие приемы и раньше. Деловые разговоры о торговле вовсю велись в гостинице, в общем зале, но решения, затрагивающие более серьезные проблемы, принимались во время неторопливых, долгих бесед в зале с двумя каминами, когда совещающиеся задумчиво скребли подбородки и размышляли вслух. Приходили как мужчины, так и женщины, и часто, хоть и не всегда, сам Лорд, хозяин замка; приглашались и прибывшие из других городов, если их считали людьми важными и достойными. Мать Хозяина, Дреморне, седовласая и темноглазая, как королева сидела в бархатном кресле под портретом старца с высохшей рукой. Если гости были немногочисленны, то большая их часть собиралась вокруг нее, а у другого камина тем временем шли частные беседы; когда же гостей собиралось достаточно много, в каждом конце зала формировалось по группе. На этот раз тихий кружок женщин и несколько молодых мужчин собрались возле бархатного кресла, а трое или четверо пожилых мужей торжественно выстроились рядом с Хозяином у противоположного камина. Разумеется, в этот вечер здесь не было чужих, кроме Айрин. Она не отходила от Дреморне до тех пор, пока Хозяин сам не подошел и не показал взглядом, что прибыл Лорд Горн.
Дреморне чуть приподняла свои юбки и в глубоком реверансе склонилась перед именитым гостем, после чего перед ним с реверансами прошли все остальные женщины. Лорд Горн, тощий, седой, чопорный старик, коротко поклонился своим негнущимся телом в ответ на приветствия. Даже после этого тщательно подготовленного и чрезмерно пышного церемониала, по какой-то прихоти устроенного старой хозяйкой дома, ничто не дрогнуло в холодных складках его лица. За ним тенью следовала дочь, светловолосая, одетая в шелка блеклых тонов; она поклонилась, призрачно-бледно улыбнулась, и они оба проследовали дальше. Их обязанность, подумала Айрин, только в том и заключается, чтобы принимать поклоны и кланяться в ответ. Номинальные правители. Пустые титулы. У Города один Хозяин: тот, кого так и зовут… Доу Сарк… Но здешние люди отличались старомодностью и придерживались давнишних правил и традиций, а потому считали, что правитель у них быть просто обязан.
Хозяин снова глянул на нее, проходя мимо, и она поспешила за ним следом. У второго камина группа горожан, прежде квакавших, точно лягушки в болоте, теперь торжественно расступилась, пропуская вперед важных гостей. Лорд Горн, с отсутствующим выражением лица и, по всей видимости, без всякого интереса, слушал то, что ему говорил Хозяин. Дочь Горна теперь сидела, выбрав в полном соответствии со своей сущностью самый неудобный в комнате стул – жесткий, с высокой спинкой, обитый потускневшей парчой. Она сидела прямая как штырь и совершенно бесстрастная. Рядом с ее пастельной безжизненностью и ледяной холодностью Горна лицо Хозяина казалось одновременно ярким и темным, словно горячие угли в камине.
– Хозяин Города сказал мне… – обратился Лорд Горн к Айрин и вдруг замолк, глядя на нее как бы издали, как бы с далекой башни своего замка, где такие тусклые стекла, что сквозь них вообще трудно что-либо как следует разглядеть, – Сарк сказал, что ты встретила на Южной дороге другого путешественника.
– Я видела какого-то мужчину. Но с ним не говорила.
– Почему, – сказал Лорд Горн и снова умолк, как бы собирая свои медлительные холодные слова воедино, – почему же ты с ним не поговорила?
– Он спал. Он… он не отсюда… – Ей ужасно не хватало слов, она лихорадочно уцепилась за первое попавшееся. – Это был вор.
Снова наступила долгая, мучительная пауза. Серые глаза Лорда Горна, наводившие ее на мысль об окнах в далекой башне замка, больше не смотрели на нее; но он снова заговорил:
– Как ты об этом узнала?
– Вид у него был такой, – сказала она и сама почувствовала, что голос ее звучит вызывающе, с тем же обвиняющим гневом, какой она испытала, увидев того… захватчика… и каждый раз испытывала, когда вспоминала о нем. Какое этот старик имеет право задавать ей вопросы? Ну и что ж, что он лорд, и черт с ним, и пусть катится куда подальше!
– Ты думаешь, что этот человек не был… – долгое молчание, словно у Горна постоянно иссякал запас слов, – не мог быть тем самым, тем человеком, который…
– Я не понимаю.
– Тем, кого мы ждем, – сказал Горн.
Тогда Айрин заметила, что все они стоят вокруг и смотрят на нее, что их лица, усталые, грубые лица зрелых и пожилых мужчин, напряжены и выражают мольбу – мольбу о правдивом ответе, о слове, вселяющем надежду.
Она взглянула на Хозяина, ища поддержки, подсказки. Лицо его было печально и непроницаемо. Покачал он незаметно головой или ей это показалось?
– Тот, кого вы ждете?.. – повторила она. – Я не понимаю. Чего вы ждете? Почему нужно ждать? Я могу пойти. – Она снова посмотрела на Хозяина; теперь его глаза ответили на ее взгляд, а выражение все еще непроницаемого лица потеплело: она говорила то, что он хочет. – Если никто из вас не может пройти по дорогам, пошлите меня. Я могу передать послание. Может быть, мне удастся привести помощь. Почему вы должны ждать кого-то еще? Ведь я уже здесь! Я могу пойти в Столицу…
Она перевела взгляд с Хозяина на Лорда Горна и запнулась, увидев его лицо.
– Долог путь до Столицы, – сказал он своим тягучим тихим голосом. – Куда дольше, чем ты думаешь. Но мужество твое заслуживает всяческой похвалы. Благодарю тебя, Ирена.
Она стояла смущенная, утратив весь свой пыл, и молчала; Хозяин, хмуря брови, увел ее, и только тогда до нее дошло, что беседа с Повелителем Горы окончена.
…Одна в своей комнате, рано утром, прежде чем начать собираться в обратный путь, она растворила ставни и стала смотреть на сонные сумерки, плывущие над городскими крышами и трубами каминов. Тело еще хранило тепло постели, она бы еще поспала, она бы еще пожила здесь. Неужели, когда она уйдет, проход вновь закроется? Когда она сможет снова вернуться назад и сможет ли? Сейчас ей надо было уходить по причине страшно далекой и совершенно бессмысленной: она отсутствовала всю ночь и к тому же, если не вернется домой к семи утра, то опоздает на работу… Работа, квартира, ночь, утро – ни одно из этих понятий не имело здесь смысла. Ничего не значащие слова. И все же этим вещам, какими бы бессмысленными они ни казались, приходилось подчиняться, как подчинялись загадочному закону жители Города На Горе, боявшиеся покинуть его пределы. Они не должны этого делать. И потому должна уходить она.
Как всегда, Пализо и Софир встали, чтобы позавтракать вместе на прощанье, и Софир приготовил сверток с хлебом и сыром, чтобы ей было чем подкрепиться на долгом пути. Они тревожились за нее и не могли этого скрыть. Она ясно видела, что они за нее боялись.
Перед поворотом Айрин один раз оглянулась. Окна городских домов светились слабыми золотыми огоньками на темном лесистом склоне Горы. За ее отрогом, на севере, она вдруг заметила яркую звезду, вспыхнувшую в небе и исчезнувшую, словно капля дождя или блестка слюды в песке.
Перейдя через Среднюю Речку, она поела хлеба с сыром и напилась студеной воды; немного передохнула, но решила не спать, хотя ей очень этого хотелось, – не было времени; и пошла дальше. В лесу она не чувствовала никакой угрозы, ничто не пугало ее, но отдыхать там она бы все равно не стала. Надо было идти дальше. И она продолжала идти своим легким, быстрым шагом и наконец достигла последнего подъема и развилки дорог между красноствольными елями, откуда начинался спуск по пологому склону сквозь заросли рододендрона к источнику и к проходу, – и тут, прежде чем перейти на тот берег, она снова увидела почерневшее кольцо камней вокруг кострища, пластиковый чехол, полускрытый травой, мерзкие следы стоянки… захватчика…
Она тут же метнулась назад, в заросли, и из своего укрытия стала наблюдать, что будет дальше. Самого мужчины нигде не было видно. Биение сердца начало понемногу успокаиваться, но лицо горело, а в ушах стоял звон. Она перебралась через ручей и подошла к кострищу – холодное; один за другим пошвыряла камни в воду. Подобрала рюкзак и спальный мешок в чехле, еще раз обернулась к реке и, шепча себе под нос: «Пошел вон, вон отсюда!» – потащила все это за порог, вверх по тропинке, и бросила в лесу прямо в заросли ежевики. Потом помчалась на опушку леса, откопала в канаве доску со словами «Охота запрещена», давно уже оторванную от столба и полусгнившую, которую ее глаза – или рассудок? – автоматически приметили двенадцать дней – или часов? – назад, когда она проходила этим путем. Держа в руках доску, она бегом бросилась назад, к порогу. Уже переступив через него, подумала: «А что, если б я не смогла пройти?» – но никакого страха или тревоги при этой мысли не испытала. Она была слишком рассержена, чтобы бояться. Отыскала в разоренном кострище уголек, перешла на другой берег и уселась на камень, положив доску на колени. Аккуратно, черными печатными буквами вывела на ребристой, выбеленной дождями фанерке: «ВНИМАНИЕ! ПРОХОДА НЕТ!»
Она укрепила знак на берегу, на самом видном месте, чтобы сразу бросался в глаза каждому, кто переступит порог. Столб, довольно легко вошедший в песок, покачивался, и она стала искать подходящий камень, чтобы вбить его покрепче, но тут заметила на противоположном берегу какое-то движение. Айрин замерла, глядя туда поверх сверкающей воды, и увидела того самого человека. Он спускался прямо к ней от порога. Их разделяла сейчас всего лишь полоска воды.
Он опустился на том берегу на колени, склонился к воде и стал пить. Только тут она поняла, что он ее не заметил.
Она была достаточно близко от густых зарослей рододендрона и, чуть пригнувшись, одним плавным движением исчезла за ними, скрыв в их тени и листве свою белую рубашку и бледное лицо. Когда Айрин вновь отыскала взглядом того человека, он стоял на противоположном берегу и смотрел – смотрел на знак, разумеется, на ее знак. Сердце у нее подпрыгнуло, а губы раскрылись в беззвучном смехе.
Стоя он выглядел крупным, массивным, таким же, как тогда, в спальном мешке. Когда же наконец он двинулся с места и побрел вверх по берегу реки, то походка его оказалась тяжелой. Он остановился и уставился на то место, где было кострище, где он оставил свой спальный мешок и рюкзак. Снова двинулся было, снова остановился и все смотрел туда, на знак. Наконец медленно повернулся к ней спиной и направился к проходу между лавровым кустом и сосной. Айрин, торжествуя победу, стиснула руки. Он снова остановился. Повернулся и пошел назад, вниз, прямо к воде, тяжело и неуверенно ступая, с шумом перебрался на другой берег, вытащил из земли столб со знаком, отодрал доску, разломал ее о колено, швырнул на песок обломки и огляделся.
– Сволочи! – сказал он густым басом. – Сволочи вонючие!
– Сам такой! – вырвалось у Айрин, и ноги под ней почему-то сами собой распрямились, и она встала во весь рост.
Он тут же повернулся и двинулся к ней. Она стояла на месте, потому что теперь ее ноги отказывались идти.
– Уходи! – сказала она. – Убирайся! Это частная собственность!
Теперь он смотрел на нее не мигая. Стоял – массивный, с белым, ничего не выражающим лицом – и глядел на нее. Его губы произносили какие-то слова, которых она не понимала.
Он снова двинулся к ней. Она услышала собственный голос, но понятия не имела, что именно кричит. В руке она все еще держала подобранный камень. Казалось, она убьет его, если только он ее тронет.
– Ну зачем же так? – сказал он сдавленным, хрипловатым, каким-то мальчишеским голосом. Остановился. Отвернулся. И пошел назад, неуклюже перебрался через речку, поднялся вверх по берегу к порогу.
Она стояла не двигаясь и наблюдала за ним.
Он миновал сосну и лавровый куст и пошел дальше. Странно: неужели она никогда не смотрела за порог с этой стороны? Тропа, которая вела отсюда наверх, к солнечному свету, обычно такая крутая и темная, с другого берега почему-то выглядела пологой и светлой и ничем не отличалась от других тропинок вечерней страны. Она хорошо видела, как тропа уходит вдаль, спускается вниз и по этой тропе в тени деревьев все дальше и дальше в лес уходит человек, окруженный неизменными серыми сумерками.
Глава 3
Он разломал доску, втоптал обломки в песок и стоял там в мокрой рубашке и джинсах – поскользнулся, переходя через ручей, – а в ботинках хлюпала вода.
– Сволочи, – сказал он, и это были первые слова, произнесенные им вслух в вечерней стране. – Сволочи вонючие!
Высокие кусты зашевелились и затрещали. Прятавшийся там вылез наружу и оказался темноволосым мальчишкой, который уставился на Хью.
– Уходи, – сказал мальчишка. – Убирайся! Это частная собственность.
– Хорошо. Где мои вещи? – Хью шагнул вперед. – Я за них недельную зарплату отдал. Куда ты их дел?
– Они там, наверху, в лесу. Не вздумай нести их обратно. И сам не вздумай возвращаться. Убирайся, и все!
Мальчишка сделал шаг вперед, самоуверенный, насмешливый, полный ненависти. Хью передернуло.
– Ладно, – сказал он, – только зачем же так?..
Впрочем, слова были бессмысленны, все бессмысленно. Он повернулся и побрел обратно на другой берег, оскальзываясь и с трудом удерживая равновесие на мокрых валунах. Он шел к проходу. Он вынужден отсюда уйти. Сейчас он переступит порог и уйдет навсегда, никогда сюда не вернется – теперь все испорчено. Его вещи где-то наверху, в лесу, он переступит порог, возьмет свои вещи и никогда не вернется назад.
Но ведь порог уже за спиной.
Оглянувшись, позади себя он увидел сумерки, услышал журчание воды, обегающей валуны, а впереди – тоже сумерки и тропа, уходящая вдаль между деревьями.
Он заблудился, и теперь пути назад не было.
Хью сделал еще несколько шагов, потом остановился, постоял и вернулся назад к источнику, пройдя между высоким кустом и сосной с красным стволом.
Тот незнакомец все еще стоял на противоположном берегу. Оказалось, что это женщина в джинсах и белой рубашке; под шапкой черных волос бледное лицо. Женщина не сводила с него глаз.
– Я не могу уйти, – сказал Хью. – Там нет прохода.
Между ними бежала вода, распевая громко и нежно.
Он был сильно напуган и сказал:
– Если вы знаете эти места, если вы здешняя, то объясните, как мне уйти!
Женщина вдруг сдвинулась с места, перебралась через ручей, грациозно и легко перепрыгивая с камня на камень, остановилась у плоской скалы и показала на проход:
– Там!
Он покачал головой.
– Проход там.
– Я знаю.
– Ну так идите!
– Там теперь все не так, – сказал он, повернулся, пересек поляну, прошел между кустом и сосной, но не исчез в темной тени, и тропа больше не вела круто вверх, и колючие ветки ежевики не мешали идти, и впереди не было солнца. Деревья, тесно обступившие тропу, в сумеречном свете почти сливались в сплошную стену, и ни ветерка, ни звука вокруг, только пение ручья у него за спиной. Наконец он обернулся, увидел у воды фигурку женщины, наблюдавшей за ним, и двинулся назад. Она сделала несколько шагов по траве ему навстречу.
– Тропа идет дальше, – сказала она шепотом. – Я такого никогда не видела. С этой стороны проход никогда не бывал закрыт. Пошли!
Быстрая, сердитая, она решительным шагом направилась мимо него к порогу. Он поспешил следом. Оцарапался о шершавый красноватый ствол сосны. На темной тропинке в волосы ему вцепилась ежевика. Он с трудом различал впереди женскую фигурку. Незнакомка упрямо карабкалась вверх. Над головой сухо защелкала птица. В воздухе пахнуло дымом, резиной, бензином, разогретыми сосновыми иглами. Тропа под ногами стала сухой.
– Вот ваши вещи, – сказала женщина. Его рюкзак и спальный мешок валялись на пыльной траве в зарослях ежевики.
Он смотрел на них, словно проверяя, все ли на месте. Назад взглянуть он не осмеливался: боялся, что если оглянется, то сумерки потянутся за ним следом. Женщина, вернее, девушка его лет стояла на тропе – черные волосы, черные глаза, бледное лицо.
– Что же это за место такое? – спросил он. – А?
Она ответила не сразу, и он решил, что она отвечать вообще не собирается.
– Если бы ты был отсюда, то знал бы, – сказала она своим высоким резковатым голосом.
– Мне необходимо… – он не мог вытолкнуть слова наружу. Почему он вот так стоит здесь и позволяет ей себя оскорблять? Закаменевшее лицо горело – может, он плакал? Он потер подбородок, прикрывая рукой позорно дрожащие губы.
– Тут тебе не лагерь бойскаутов, – сказала она. – Нечего приносить сюда всякое барахло и устраивать здесь пикники и… и вообще, это тебе не какой-нибудь национальный парк. Ты ведь ничего об этом месте не знаешь. Не знаешь здешних правил. Не говоришь на здешнем языке, не знаешь их… Это не твое место – ты здесь чужой, а чужим здесь опасно.
Он не чувствовал спасительного гнева, способного избавить его от позора. Он вынужден был стоять вот так, и слушать все это, и повторять, повторять единственно важное для него, почти бормоча себе под нос:
– Мне необходимо вернуться назад. Я больше не буду оставлять здесь свои вещи.
Расслышав его слова, она гневно встрепенулась, как газетный листок, сорванный со стенда порывом ветра, или лист бумаги, попавший в камин.
– Я предупреждаю тебя!
До него наконец начал доходить смысл слов, сказанных ею раньше.
– Так там… там есть… там живут люди?
После долгого молчания она ответила:
– Да. Живут.
Глаза ее вспыхнули беспокойным огнем.
– Они ждут тебя, – сказала она своим нервным, пронзительным голоском, а потом вдруг быстро прошла мимо него, но не вниз по тропе, к вечерней стране, как он ожидал, а вверх – стремительная, порывистая, крепкая, – туда, к утреннему свету. Через мгновение она скрылась в зарослях, а еще через мгновение стих и звук ее легких шагов.
Хью растерянно стоял, вдыхая теплый и пыльный лесной воздух, слегка подрагивающий от постоянного рева транспорта, доносившегося с шоссе и из поднебесья. Солнечный зайчик, пробравшись сквозь листву, плясал не уставая на чехле его спального мешка.
Куда мне теперь идти? Некуда.
Он устал, гнев, страх, тоска истерзали его. Он уселся прямо рядом с тропой, положив руку на рюкзак, словно защищая его или успокаивая. Жгучая боль утраты не проходила и не становилась слабее.
Может, и она чувствует нечто подобное, подумал он. Как если бы я отнял у нее право на это место.
Но я ничего не могу с этим поделать. Я должен туда вернуться. У меня ничего другого нет. Она не имеет права… Нет, не то чтобы не имеет права… нет, он не знал, как это можно выразить иначе.
Я вернусь обратно и больше не буду оставлять там свои вещи. Во всяком случае – на поляне у самого входа. Можно, например, подняться выше по течению ручья. Не может же она ходить повсюду. И вообще, с какой стати нам с ней снова встречаться здесь?
Разве что я опять не смогу выйти.
Эта мысль только мелькнула в его мозгу. Панический ужас, который он испытал, увидев, что проход ведет дальше в сумеречную страну, уже успел погрузиться на самое дно его души, слишком глубоко, чтобы легко пробудиться вновь. Если такое случится еще раз, я могу подождать, сказал он себе, и выйду оттуда, когда она придет, вместе с ней.
Она такая же, как и я, она приходит отсюда. Но есть люди, которые там живут. Так сказала она.
Однако и эта мысль ненадолго задержалась в его мозгу. Мне необязательно с ними встречаться. У источника никогда никого не было. А она теперь ушла. Я возвращаюсь…
Он сунул свои пожитки под пыльные колючие ветки ежевики, встал и пошел назад по тропе к порогу, к чистой воде родника и прильнул к ней, преклонив колени. Вода омыла его лицо и руки, смыла позор и страх с его души.
– Это мой дом, – сказал он земле, скалам и деревьям и, почти прижав губы к воде, прошептал: – Я – это вы. Я – это вы.
…В торговый центр он пришел к десяти и в пять минут одиннадцатого уже открывал кассу № 7. Донна глянула на него поверх своего аппарата:
– У тебя все в порядке, Бак?
Для Хью с тех пор, как он вчера ушел с работы на час раньше, уже успели пройти два дня и три ночи, и он никак не мог припомнить, почему Донне кажется, что у него что-то не в порядке.
– Конечно! – сказал он.
Она снизу доверху осмотрела Хью странным взглядом – одновременно циничным и любящим.
– И вовсе ты не болел, – сказала она. – У тебя были дела поинтереснее.
Звякнул ее кассовый аппарат – она получила деньги за упаковку кока-колы и пачку печенья с сыром от трясущегося, небритого старика. При этом Донна сказала, обращаясь одновременно к покупателю и Хью:
– Разве не прекрасно – быть молодым? Но я бы, например, ни за что не согласилась на это снова, хоть озолотите.
Особенно далеко вниз по течению он не заходил. Здесь ручей становился более узким и глубоким, и вода всегда казалась темнее. Если же от поляны у порога идти вверх по течению, то берега постепенно становились более открытыми, во многих местах виднелись светлые широкие полосы песчаных пляжей. Он дошел до того места, где ручей под сенью огромных ив резко сужался из-за выступающей красной скалы, которая изломанными ступенями поднималась над речным ложем. Здесь, возле крутого скалистого берега, вода пенилась и кипела, зато чуть ниже по течению образовалась широкая заводь, и притом довольно глубокая. Заводь со всех сторон обступили деревья, но сама водная гладь была чистой, как зеркало, и в ней отражались небеса. Здесь, среди девственной природы, царил дух отрешенности ото всего на свете и некоей самодостаточности. Казалось, что никто другой сюда никогда не придет.
Он устроил подходящий тайник для своих пожитков в развилке низенького деревца, до такой степени заросшего диким виноградом с мелкими листьями, что и сам заметил развилку, только когда нащупал ее руками. Хью собрал немного хворосту – в основном ветки от ближайшего сухого дерева, – выложил на песке очаг в укромном месте, чуть повыше выступающей из берега красной скалы, и все приготовил для костра. Потом снял рубашку и джинсы и в полном молчании, держась ровно, вошел в спокойную воду. Прямо под красным скалистым берегом ему было с головой. Там он плавал, испытывая огромное тихое счастье, до тех пор, пока не стало больше сил терпеть ледяную воду, и только тогда, совершенно окоченев и дрожа всем телом, вылез на берег и разжег свой костер.
Пламя костра в ясных вечерних сумерках было прекрасно. Он присел возле костра на корточки, не одеваясь, стараясь кожей, костями впитать его жар. Потом наконец оделся, приготовил себе чашку крепкого сладкого шоколада, купленного на распродаже, и сидел, с наслаждением прихлебывая, отдыхая душой. Когда костер догорел, он присыпал пепелище песком, обулся и направился вверх по течению – исследовать берега.
Теперь он бывал здесь каждый день. Половина его жизни проходила в вечерней стране. Здесь изменялся, становился спокойнее даже ритм его дыхания. Просыпаясь – а сон здесь был глубокий, темный, неодолимый, словно река, – он сначала некоторое время лежал, лениво слушая, как бежит вода и трепещут листья, и мечтал: я останусь здесь… я еще немного здесь побуду… Но так и не оставался. На работе в супермаркете или дома он не очень много думал о вечерней стране. Она существовала, и это все, что ему необходимо было знать, когда он проверял покупки на сумму в шестьдесят долларов или успокаивал мать после очередного тяжелого дня в конторе компании по займам, где она работала. Это место существовало, и он мог сюда вернуться – в эту тишину, туда, где жизнь обретала смысл, к ее истоку.
Проход больше ни разу не оказывался закрытым для него, и он почти забыл, что такое возможно. Видно, все тогда случилось из-за того, что она пришла оттуда, и именно поэтому смогла вывести его обратно, когда проход оказался закрыт. Иногда он думал о ней – осуждая и одновременно жалея. Если бы она не источала столько ненависти и яда, они, наверно, смогли бы поговорить. Он сам позволил выдворить себя, значит, сам и виноват. Она могла бы рассказать ему об этой стране. Она явно знала ее куда лучше, чем он, и гораздо дольше. Хоть сама и была не здешней, но знала здешних людей.
Если только здесь вообще есть какие-то люди. Об этом он очень часто размышлял во время своих молчаливых купаний в заводи под ивами. Она тогда всего-то и сказала: «Ты не знаешь их языка», а потом, когда он спросил, живут ли здесь люди, ответила «да», но не сразу и так, будто кто-то или что-то заставило ее. Она пыталась запугать его. И мысль о каких-то еще людях действительно пугала. Главная радость здесь – полное одиночество. Возможность побыть одному. Не иметь дела с другими людьми, с их нуждами, потребностями, приказаниями.
Но какие они, здешние жители? Какой у них язык? Здесь все погружено в безмолвие. Даже птицы никогда не поют. В лесу должны быть звери, но и они невидимы, беззвучны. Здесь каждый живет, стараясь не тревожить другого.
Он думал обо всем этом, сидя под ивами на берегу ручья, в тишине, возле яркого маленького костерка. Здесь можно было долго-долго думать над одной-единственной мыслью, всячески ее развивая. Он и раньше никогда не считал себя дураком и довольно хорошо учился в школе – по тем предметам, которые ему нравились, – но знал, что люди считают его глуповатым, потому что он тугодум. Мозг его отказывался работать в спешке, судорожно принимать решения. А здесь можно было спокойно обдумать любую идею, и это составляло существенную часть той внутренней свободы, которую он вкушал в вечерней стране. Одновременное существование в двух совершенно различных жизнях, по разные стороны порога, отделяющего Кенсингтонские Высоты от вечерней страны, должно было, казалось бы, сбить его с толку, лишить душевных сил, но именно силы-то он и черпал здесь, у родника. Здесь он был спокоен, плавал, спал, мечтал о путешествии автостопом, чувствовал, что по-настоящему живет. И это полное спокойствие вытесняло ощущение постоянного стресса, той чудовищной спешки, когда нет времени даже спросить себя: что ты делаешь? куда идешь? какой путь выбрать и куда приведет этот путь? Но теперь даже по ту сторону порога, если удерживать в душе ощущение лесного покоя, ему удавалось немножко подумать.
С тех пор как тогда он сказал, что его мать больна, услышал свой собственный голос, выговаривающий эти слова, он просто заставил себя обратить на ее болезнь самое серьезное внимание, а не прятать голову под крыло; заставил себя спокойно подумать, чем и насколько серьезно она больна.
Это оказалось нелегко. Это означало, что он должен воспринимать ее не как мать, а как совсем чужую женщину, любую. Просто как больного человека.
В старших классах у него было много знакомых ребят, которые постоянно пользовались наркотиками. А в десятом классе, и об этом ему вообще-то не очень приятно было вспоминать, девочка, которая обычно списывала у него упражнения по английскому и которую звали Черил, – он слышать спокойно не мог ее имени, потому что ее невероятная покорность постоянно заставляла его чувствовать себя виноватым, – однажды, примерно за неделю до конца школьных занятий, заперлась в кабинке туалета и попыталась утопиться в унитазе. Он услышал крики и увидел девчонку в холле, которая дико, истерически хохотала, а потом пронесли согнутую пополам Черил, с волос ее капала розоватая вода, и она кричала пронзительным тонким голосом, а он и другие ребята стояли вокруг, в холле и на лестнице, и смотрели. Никто потом не знал, как говорить об этом, никто из тех, кто слышал, как она кричала. Это был самый страшный случай в его жизни. С другой стороны, работая в бакалее, он видел множество странных людей, ругательски ругающих ни в чем не повинные грибы, или психов, вроде магазинного воришки, пытавшегося откупиться, или того парня, который замахнулся на Донну ножом, когда та отказалась принять от него в уплату чек без удостоверения личности; и вообще, бывает много людей, которые, наверно, преследуют какие-то свои, вполне конкретные цели, а другим кажется, что они занимаются полной чушью – например, покупают четыре дюжины аэрозоля от гусениц и огромную банку водяных каштанов в придачу. Объединяло людей, совершающих странные поступки, по его мнению, следующее: все они так или иначе выбились из колеи и буксуют на месте. Мотор все еще работает, колеса крутятся, но уже никуда не привезут. За последние семь лет его мать тринадцать раз меняла квартиру, они жили в пяти различных штатах; и чем чаще она переезжала, думал Хью, тем хуже приживалась на новом месте.








