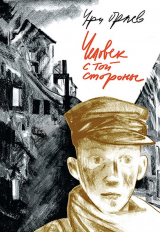
Текст книги "Человек с той стороны"
Автор книги: Ури Орлев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Дядя Владислав смог принять пана Юзека только в следующее воскресенье. Это значит, что ему пришлось оставаться на Мостовой почти две недели. Но бабушка не возражала. А в конце второй недели я с вечера пошел к ней ночевать, чтобы Антон не задавал вопросов, когда мы с мамой вдруг пойдем туда раньше, чем обычно. Мы сговорились с мамой, что она придет к бабушке прямо из костела, после того как Антон уйдет домой. Она придумала, что скажет ему, будто идет навестить свою подругу Ванду. Все это выглядело вполне логично.
И вот в тот вечер я сидел у стола в бабушкиной квартире и слушал, как дедушка разговаривает с Юзеком о евреях. Когда мы кончили есть, я убрал посуду и сел наполнять сигареты. Я уже говорил, что в этом деле я был настоящим специалистом. Бабушка пригласила пана Юзека посидеть с нами. Он рассказал, как прошел сегодняшний день у дедушки, а потом она попросила его рассказать, как он учился на врача.
– Еврею нелегко было поступить в университет, – сказал он. – Только десятая доля студентов могли быть евреями. А на деле принимали даже меньше. Из-за таких трудностей поступали только самые способные. А потом остальные студенты им завидовали и даже ненавидели их, потому что они очень хорошо учились.
И он рассказал нам, как студенты-националисты привязывали бритвы к палкам и шли «резать еврейских умников». Впрочем, сам он не страдал от этого, потому что никто не подозревал в нем еврея.
– Я бы тоже не заподозрила такого молодого и симпатичного молодого человека, как вы, – вдруг сказала бабушка, которая была специалистом в таких вопросах.
Мы выждали, пока пану Юзеку удалось закурить, а потом бабушка заговорила снова.
– Если бы евреи послушались нас и уехали в свою Палестину, всего этого бы не было.
Под словом «нас» она имела в виду польских антисемитов.
– Да, среди евреев есть такое движение, – сказал пан Юзек, – оно называется «сионизм» и действует именно в этом направлении, но, по моему мнению, из этого ничего не выйдет. Евреи будут и дальше скитаться из страны в страну, пока все эти проблемы национальности и религии не перестанут волновать людей. Нет, я уверен, что евреи не в состоянии создать нормальное государство, как, к примеру, Польша, или Голландия, или Франция. Вы только представьте себе армию из евреев.
И мы все рассмеялись.
Я все же выступил в защиту евреев.
– Но ведь были же евреи-солдаты в армии, – сказал я. – И был даже полковник-еврей, Берек Иоселевич, который вместе с Костюшко защищал Варшаву от русских.
Пан Юзек удивился, что я знаю это имя. А я его знал из-за мамы, которая недавно читала мне книгу о нем, после того как рассказала мне правду о моем отце. Может быть, она хотела облегчить мне шок от этой правды, показав, что в Польше были такие евреи, которые внесли свои вклад не только как писатели, врачи и адвокаты или как ученые и финансисты, но и как военные.
Но бабушка продолжала свое:
– А я вам говорю, что это им наказание за то, что они распяли Иисуса.
– Но это не евреи, а римляне его распяли, – сказал пан Юзек.
– Это правда? – спросил я.
– Ну смотри, – сказал пан Юзек. – Началось все с еврейской знати того времени, в их глазах он был бунтовщиком, что-то вроде коммуниста, и они потребовали от римлян его казнить. А у римлян в те времена казнь путем распятия была как в наши дни виселица. Так что распяли его все-таки римляне.
Бабушка пожала плечами.
– Тогда почему же евреев всюду преследуют? – спросила она.
– Таков удел любого меньшинства во всех странах, – сказал пан Юзек. – Всегда, когда случается беда вроде безработицы, нехватки жилья или даже эпидемии, меньшинство тут же превращается в козла отпущения.
Он говорил терпеливо, как учитель или как наш ксендз. Но какие-то его прежние слова не давали мне покоя, и я спросил:
– А как это понимать, что вопросы национальности или религии не будут больше волновать людей?
Бабушка тут же присоединилась.
– Так говорят коммунисты, – сказала она.
– Не совсем, – возразил пан Юзек.
– Но ведь они говорят: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Разве не правда? – настаивала бабушка.
– Правда, – согласился пан Юзек.
– Значит, вы коммунист? – спросила бабушка.
– Нет, – ответил он.
– Так вы верите в Бога?
Он немного подумал и сказал, что верит. Я вздохнул с облегчением. В конечном счете ведь Бог евреев – это и наш Бог. Но он продолжал все осложнять:
– Я верю, но не в того Бога, что в костеле или синагоге, а в абстрактного.
Он посмотрел на меня, как будто хотел убедиться, понял ли я, о чем он говорит. Я не понял, но не переспросил.
– Философское божество, – сказал он, как будто оправдываясь, – это что-то такое, от чего мы все составляем малую часть.
Я снова не понял и не думаю, что бабушка поняла, хоть она и покачала головой. Потом она спросила:
– А такой Бог может услышать, когда Ему молятся?
Он опять немного подумал и сказал:
– Я не уверен. Но точно знать нельзя. Я вообще не думаю, что Бог может заниматься каждой мелочью. По крайней мере не тот, в которого верю я. И тем не менее кто знает…
Потом они заговорили о дяде Владиславе, к которому мы собирались его назавтра перевести, и бабушка сказала что-то о «домах, которые вернули нам немцы», после того как депортировали евреев из части гетто.
Пан Юзек сказал:
– Это неправильно – говорить «вернули». Большая часть этих домов всегда принадлежала евреям, пани Реймонт.
– Да, – сказала бабушка, – но откуда евреи взяли деньги, чтобы купить эти дома?
Она имела в виду то, что всегда говорят антисемиты, – что евреи «пьют нашу кровь».
Пан Юзек сказал:
– Если бы король Казимир Великий не впустил евреев в Польшу, она никогда бы так не расцвела в экономике и промышленности, как это произошло при них, пани Реймонт.
Бабушка возразила:
– Он впустил их только потому, что для христиан заниматься торговлей ниже их достоинства.
Странно, что при этом она не вспомнила о самой себе. Ведь она как раз занималась торговлей. Но пан Юзек сказал только:
– Он впустил их заниматься торговлей, потому что поляки не умели тогда ни читать, ни писать, пани Реймонт. Но с тех пор все изменилось. Мариан рассказывал мне, что вы сами очень преуспеваете в этом деле.
– Но что ни говори, евреи всегда были готовы все продать и работать задешево и этим отнимали у нас заработок, – не сдавалась бабушка.
– Если бы не евреи, которые подняли здесь экономику, пани Реймонт, то у вас вообще не было бы заработка, как его и поныне нет во многих отсталых странах. Вы ведь наверняка об этом знаете.
И тут бабушка сказала, что она хочет спать. А я подумал, что хорошо, что мы завтра забираем его отсюда. Но может, он потому и позволил себе говорить таким образом и к тому же добавлять каждый раз это «пани Реймонт», что собирался назавтра уйти? Тогда это не очень осторожно с его стороны – что мы будем делать, если ему придется снова вернуться сюда на какой-нибудь переходный период, а бабушка не согласится принять его из-за этого спора?
Пан Юзек спал на дедушкиной половине комнаты, на матраце у ног дедушкиной кровати. Я, когда ночевал у них, спал с бабушкой в их большой двуспальной кровати. Я лежал там в ту ночь и думал о том, что сказал пан Юзек по поводу молитвы, и я помню, что жалел его. И если мой отец думал так же, как он, я жалел и отца. Ведь если Бог не может услышать твою молитву, как же ты тогда одинок…
Я был уверен, что никогда не откажусь от молитвы и от веры и никогда не перестану ходить в костел. Пусть пролетарии соединяются себе сколько им угодно – я всегда останусь поляком и всегда буду уважать наш польский флаг. И никакой другой. И уж точно не красный. Флаг у меня всегда связывался с дядей Ромеком, потому что он держал этот флаг над собой в том самоубийственном бою нашей конницы с немецкими танками. Когда я рассказал эту историю пану Юзеку, он сказал, что, по его мнению, не стоит приносить жизнь в жертву чувству чести.
За завтраком, вопреки моим опасениям, бабушка и пан Юзек были как пара голубков. Он очень польстил бабушке, сказав, что хоть она женщина необразованная, но то, что у нее в голове, стоит всех университетов – много жизненной мудрости, много интуиции и понимания людей и много здравого смысла. А потом добавил:
– И кроме того, вы красивая женщина.
Бабушка слушала с гордостью.
Я вспомнил, что она говорила о нем вчера, и подумал, что они обменялись комплиментами. Сам я никогда не думал о бабушке как о красивой женщине. Красивой в моих глазах была мама, бабушка же для меня была старуха, бабка. Но когда я подсчитываю сегодня, то с удивлением понимаю, что бабушке было тогда лет сорок пять. Ну, не больше пятидесяти. У нее, правда, не было свидетельства о рождении, но в те времена первый ребенок обычно рождался, когда женщине еще не было двадцати. Бабушка только одевалась как деревенская старуха.
Что это – женщина сорока пяти – пятидесяти лет? Многие женщины в таком возрасте кажутся мне сейчас красивыми. Включая мою жену. Правда, пан Юзек был намного моложе, чем я сегодня, – может быть, лет двадцати пяти. Но возможно, бабушка действительно казалась ему красивой, хотя тогда я думал, что он просто хочет доставить ей удовольствие и не более того.
И еще я думал, что после знакомства с паном Юзеком бабушка изменит свое мнение о евреях. Нет, она не изменила. Но после того как мы забрали его оттуда, она не стала чистить комнату лизолом.

Глава 9. Ссора

Утром в воскресенье пришла мама, и мы вышли втроем с паном Юзеком. На берегу Вислы было много гуляющих. И хотя прятаться под зонтиком уже не было необходимости, мама, как и в прошлый раз, взяла пана Юзека под руку для маскировки, а я взял маму под руку с другой стороны. Мы выглядели совсем как женщина с младшим братом и сыном, которые вышли на прогулку в весенний день. И все бы прошло как нельзя лучше, если бы мы не встретили Антона.
Весна была повсюду. Я сорвал зеленый листок и спрятал в карман. Правда, мы в старших классах уже не играли в «вашу зелень», но я всегда был готов сыграть с ребятами помладше. Не знаю, то ли пан Юзек увидел, как я срываю зеленый листок, то ли просто вспомнил весенние дни собственного детства, но он вдруг спросил маму:
– Ваша зелень?!
И она, ясное дело, проиграла. У нее в руках не было ничего зеленого, кроме сумочки с одной стороны и рукава его плаща с другой. Это ее развеселило. Она начала в шутку спорить с ним, что в счет идет также предмет, покрашенный в зеленый цвет, потому что хотела объявить «зеленью» эту свою сумочку, но пан Юзек сказал, что засчитывается только что-то живое, из растений, а не мертвый предмет. Я не стал вмешиваться, хотя у нас засчитывалось все зеленое, даже крашеная вещь.
Мама сдалась.
– А раз так, – сказал пан Юзек, – то вы сейчас дадите мне в залог одну вашу туфлю и получите ее обратно только после того, как мы немного посидим на скамейке.
Мама, конечно, согласилась и сняла туфлю.
Когда мы были детьми, от проигравшего требовали сделать какие-нибудь странные или даже стыдные вещи – например, спеть или подпрыгнуть посреди урока, а то и поцеловать незнакомую девочку. А Вацек и Янек посылали меня, когда я проигрывал, украсть конфету в лавке около школы. Там было очень трудно украсть, потому что хозяева следили за детьми в оба глаза и не пускали в лавку больше трех школьников сразу.

Мы сидели на скамейке и смотрели на Вислу и на плоты на ней, и пан Юзек говорил о конце войны. А потом он заговорил о конце всех войн.
– Однажды прибудут на Землю враги с другой звезды, – сказал он, – например, с Марса, и тогда вдруг все люди почувствуют себя детьми одной планеты и Земля превратится в их общую родину.
– После Первой мировой войны мы были так уверены, что это последняя война, – сказала мама. – Кто бы мог подумать…
Он называл маму «пани Анеля», а не «пани Скорупа».
– Только существа с Марса могут нас объединить? Вы говорите серьезно?
– Нет, – сказал пан Юзек, – это кончится еще до того. Должно кончиться. И тогда на уроках истории будут рассказывать о нашем времени как о чем-то странном, чего просто невозможно понять. Одно только бессмысленное кровопролитие и страдания…
– Помоги нам Бог, – вздохнула мама.
И вдруг он стал читать на память стихи – стихи о весне и мире. И я увидел, что у мамы в глазах стоят слезы. Я подумал, что она, наверно, вспоминает моего отца. Потому что Антон стихов наизусть не знал.
Сегодня я думаю, что значительная часть ненависти Антона к коммунистам и евреям и вообще ко всему, что связано с книгами, шла от ревности к моему отцу. Правда, отец давно уже умер, но Антон, как видно, чувствовал, что в мамином сердце он все еще жив. А он очень ее любил. И я, который так упрямо не хотел, чтобы он меня усыновил, только подливал масла в огонь.
Мы поднялись со скамейки. Мама снова взяла пана Юзека под руку, а я пошел рядом с ней с другой стороны – и тут мы встретили Антона. Что он здесь делал? Почему не пошел домой, как мы рассчитывали? Понятия не имею. Но он увидел нас и остановился как вкопанный. Я видел, как его лицо бледнеет и становится страшным. Я видел, как сжимаются его огромные кулаки. Мама тоже по-настоящему испугалась. Только пан Юзек не понял, что происходит. Я шепнул ему. Мама бросила нас, подбежала к Антону и быстро сказала ему что-то на ухо. Антон смерил пана Юзека взглядом и ничего не сказал. Мама взяла было его под руку, но он оттолкнул ее. Потом, однако, она все– таки взяла его под руку, и вот так – мы с паном Юзеком впереди, мама с Антоном позади – мы пошли на Желязну к дяде Владиславу.
Мы с паном Юзеком вошли во двор, пересекли его и поднялись по деревянным ступеням в квартиру дяди, не опасаясь привратника и его жены, потому что они были компаньонами дяди в деле укрывания евреев, а также в других делах вроде махинаций с иностранной валютой. Я завел пана Юзека через кухонную дверь, и тетя Ирена отвела его прямо в маленькую комнатку, где ему предстояло жить, а меня отправила домой.
Но я боялся возвращаться. Я дошел до Театральной площади, но бабушки там не было. Я очень испугался и поспешил к ним на Мостовую. Но оказалось, что я беспокоился напрасно. Под влиянием пана Юзека бабушка перешла на новый распорядок дня и теперь решила не идти на площадь после полудня. Она заварила мне чай, и мы сидели и разговаривали. Конечно, зашла речь и об Антоне. Я рассказал ей, что он нас увидел. Она ничего на это не сказала. Только несколько раз покачала головой, как будто заранее знала, что теперь произойдет.
– Что он сделает, бабушка?
Она не хотела гадать.
– А что будет с мамой?
Бабушка не знала, что ответить. А может быть, знала, но не хотела говорить.
В конце концов я пошел домой. Пошел с тяжелым сердцем. Насколько я помню, впервые с тех пор, как мы начали жить с Антоном, я боялся, что он будет бить маму. Я думаю, это то, что бабушка собиралась сказать и не сказала. О себе я на самом деле не беспокоился. Все равно все произошло по моей вине. Если он ударит маму, думал я, я просто убью его. Возьму нож и пырну его ночью.
Уже на лестнице я услышал крики, а ведь они вернулись домой не меньше чем за два часа до меня.
– У всех женщин голова работает одинаково! – кричал он.
А мама кричала:
– Тебя съедает ревность, вот и все!
А Антон в ответ:
– Представь себе, на свете есть вещи поважнее этого!
– Что же именно?
– Доверие, уважаемая пани, то, что называется доверием!
Я уже подошел к двери и тут услышал, как мама тихо говорит ему:
– Я знаю тебя не со вчерашнего дня и знаю, что ты понимаешь, что Мариан должен был искупить свою вину.
Она рассказала ему!
Они не заметили, как я вошел. Антон держал маму за руки и сильно тряс ее. Я не знал, значит ли это, что он ее бьет. Не знал, достаточно ли этого, чтобы я его убил, или он должен действительно поднять на нее руку. И я не понимал, бил ли он маму до моего прихода. У нее на лице не было никаких признаков. Чтобы соседи не слышали их ссоры, они закрыли все окна в нашей квартире, но, похоже, это не очень помогло. Антон был бледный как стена, а мама красная, с растрепанными волосами.
– Немедленно оставь ее! – закричал я.
Тут они увидели меня. И мама сказала:
– Не вмешивайся. Это не твое дело.
Подумать только – она еще защищала его!
Я никогда не видел маму в таком состоянии. Антон отпустил ее, схватил меня и отвесил мне ту еще затрещину. У меня искры посыпались из глаз.
Мама закричала:
– Кто говорит о доверии?! Как ты посмел поднять на него руку?!
Антон огрызнулся:
– Он уже мужчина, и отныне я буду его воспитывать, а не ты!
И повернувшись ко мне, сказал:
– Ты не будешь ставить под угрозу всю семью, понял? И если ты еще раз заведешься с каким-нибудь евреем, уж я тебе покажу!
– Ты мне не отец! – крикнул я.
Антон бросил на меня мрачный взгляд и процедил:
– Твое счастье, что твоего отца нет здесь…
И вышел из комнаты.
Езус Мария, она и это рассказала ему! То, что он сказал сейчас, он сказал не просто так. Я посмотрел на маму. И она кивнула.
– Прости, Мариан, я рассказала ему, что ты знаешь о своем отце. Я должна была. Иначе…
Что иначе?! Этого она мне так никогда и не сказала, хотя я продолжал допытываться многие годы после этого.
Но тогда это меня просто убило. Его пощечина – и предательство мамы.
– Я ухожу из дома, – сказал я.
– Куда? Куда ты пойдешь?
– Пойду жить к бабушке и дедушке. И не вздумайте ступить на порог их дома, пока он не извинится.

Я пошел в свою комнату и сложил несколько самых нужных вещей в свой старый школьный ранец. Мама пошла следом за мной и стала меня уговаривать. Она сказала, что Антон очень рассердился и, по существу, справедливо. Мы должны были с самого начала все рассказать ему.
– Он не позволил бы нам помочь пану Юзеку, – сказал я. – Он сказал бы, что это слишком опасно.
Мама не ответила. Она знала, что я прав.
– Не уходи, Мариан, не делай глупостей. Ты же знаешь, что Антон не извинится. Тем более немедленно.
– Это не только из-за пощечины, – сказал я.
– Я знаю. Но у меня не было выхода.
Сейчас, когда он знал и когда мы оба знали, я не мог вынести его присутствия. Я вышел, хлопнув дверью.
По правде сказать, мне хотелось плакать.

Глава 10. Восстание

Это началось в понедельник, ровно за неделю до Пасхи. Я хорошо помню этот день. И не потому, что накануне перешел жить к бабушке и дедушке, а из-за тех событий, которые начались в то утро в гетто.
Когда бабушка разбудила меня, я решил, что пора вставать в школу. Но бабушка сказала, что есть еще немного времени и я могу вернуться в кровать, она только просит меня выйти на минуту на улицу и послушать, откуда доносятся выстрелы. Она уже не очень хорошо слышала на одно ухо, и пан Юзек сказал, что по этой причине ей трудно определить источник шума. Он сказал, что это все равно как смотреть одним глазом.
Я открыл дверь и вышел из дома. Выстрелы раздавались из гетто. Мы уже давно не слышали оттуда стрельбы. Иногда, правда, постреливали, но то были одиночные выстрелы – то тут, то там. А на этот раз стрельба звучала вполне серьезно.
Бабушка успокоилась и вернулась в кровать. А я стоял и слушал. Стреляли из пулеметов. Я подумал о пане Юзеке. Какое счастье, что он уже не там. Может быть, он окажется одним из немногих евреев, которые выживут в этой войне.
Я тоже лег в постель. Лежал и вспоминал то, что сказал Антон о моем отце. Что было бы со мной и с моим отцом, если бы он был жив? Сумел бы кто-нибудь опознать в нем еврея? Донес бы на него кто-нибудь, кто знал об этом?
Я не мог уснуть и встал. Все равно отсюда мне приходилось выходить в школу раньше, чем из дома. Тем временем стрельба в гетто усилилась. А потом послышались и взрывы. То ли гранаты, то ли что-нибудь в этом роде, я тогда не разбирался в этих вещах. И тут я услышал резкие гудки машин скорой помощи. Не одной машины, а многих. Я не мог себе представить, что немцы посылают эти машины, чтобы вывезти из гетто раненых евреев. Может быть, это что-то другое? Может быть, эти выстрелы были все же связаны с действиями нашего подполья, и мне только показалось, что они доносятся из гетто? Я так торопился, что начал надевать правый ботинок на левую ногу. Бабушка спросила:
– Что такое, Мариан? Куда ты так спешишь?
Мне не пришлось объяснять, потому что она сама сразу же догадалась и категорически запретила мне приближаться к гетто. Она даже рвалась проводить меня, но я обещал ей поехать на трамвае. Она дала мне деньги на билет. Меня не беспокоило, что я ее обманываю. Она и сама то и дело так поступала.
Помню, что я пошел через улицу Фрета на Свентоярскую, вдоль стены гетто, и наткнулся на полицейского, который прогнал меня в сад Красиньских. Этот полицейский знал меня по одному из воскресных вечеров около трактира пана Корека. Но он все равно стоял на своем. Он сказал, что дальше идти опасно, и не позволил мне подойти поближе – возможно, именно потому, что знал меня. Однако из сада Красиньских тоже все было видно. У входа в гетто стояли пулеметы, и несколько немецких солдат непрерывно били очередями по окнам и воротам домов вдоль Валовой, уходившей в глубину гетто. В саду было еще несколько человек, и я спросил их, что происходит. Постовых, которые стояли вдоль стен через каждые двадцать-тридцать метров, я видел сам.
Один старик сказал мне:
– Кончают с евреями.
А стоявший рядом парень заметил:
– Наконец-то.
И засмеялся.
До того как мама поймала меня с деньгами и до знакомства с паном Юзеком меня бы все это тоже не взволновало.
– Как вы думаете, вернут нам их дома? – спросил кто-то.
– Почему бы нет, – откликнулся кто-то другой. – Вернули же осенью.
– Почему «вернут»? – сказала какая-то женщина. – Ведь это еврейские дома.
И я подумал, что это смелый человек, потому что все сразу же посмотрели на нее с подозрением, и кто-то сказал со смешком:
– Вот еще одна еврейка нашлась.
Мы еще не знали тогда, что от всех этих домов гетто ничего не останется. Только развалины.
Между тем в гетто происходило что-то немыслимое. Противоречившее законам природы. И тем не менее все указывало на то, что там, внутри, идет настоящая война. В сторону гетто то и дело проходили грузовики с подкреплениями, и машины скорой помощи то и дело въезжали и выезжали из ворот. И кто же преподнес немцам все это? Евреи! Езус Мария, думал я, нужно быстрее бежать к пану Юзеку и рассказать ему об этом.
Никакая сила в мире не могла бы заставить меня в то утро сесть в трамвай. Я шел пешком. Вдоль всей улицы Лешно у стен гетто стояли польские и украинские постовые с ружьями, и штыки у ружей были примкнуты. Несколько украинцев заигрывали с девушками, которые вышли пораньше купить свежие булочки. Звуки стрельбы и взрывов и гудки машин скорой помощи доносились и сюда, и одна девушка спросила постового, зачем немцы вывозят раненых евреев из гетто.
– Что они, сдурели или что?
Постовой подозвал ее поближе, и я тоже подошел, чтобы услышать. Он сказал ей шепотом:
– Они вывозят своих. Раненых и убитых немцев. – Потом посмотрел на нее и спросил: – Ты, конечно, мне не веришь, да?
Я поверил. Но она решила, что он шутит.
– Вы не поверите, – сказал он все так же шепотом, – вы не поверите, но на этот раз евреи воюют.
Уже в тот день были такие, которые назвали это «третьим фронтом».
– Ваша зелень!
Вот уж от чего я был сейчас совершенно далек! И будь это кто-нибудь другой, я бы вообще не обратил на него внимания, а то, может, и стукнул бы по макушке. Но это был сын соседки, маленький Влодек, поэтому я сделал вид, будто роюсь в карманах, а потом признал свое поражение. Он был очень доволен, потому что каждый раз, когда я проигрывал, я должен был дать ему конфету. Я пообещал не забыть, и он весело побежал дальше.
В школе я рассказал о том, что видел по дороге. Другие видели то же самое, и до полудня все говорили только о евреях, которые сражаются с немцами, и о скорой помощи, которая вывозит из гетто раненых и мертвых немецких солдат.
Давно уже я не шел на работу к пану Кореку с такой охотой. Я надеялся услышать там очередные новости. И действительно, в трактире тоже говорили только о восстании евреев. То и дело приходил какой-нибудь очередной очевидец и рассказывал что-то новое. Порой начинало казаться, что из желания поразить слушателей люди придумывают все эти невероятности. Но может быть, то было не столько желание поразить, сколько глубокая потребность убедиться, что это на самом деле возможно, что это на самом деле происходит. Потому что ведь если евреи могут восстать против немцев, то мы тем более…
Люди рассказывали, что в гетто ввели танк. Кто-то понимающий сказал, что это французский танк. Еще один вошедший сказал, что вместе с танком ввели два броневика. Третий сообщил, что ввели три танка. Трудно было понять, где правда. А еще кто-то видел, как в гетто втягивают пушки. И самолет-разведчик кружит над улицами. Это мы видели сами. Каждый раз, когда он делал круг, я выбегал на улицу посмотреть, пока пан Корек не сделал мне замечание, что я не успеваю убирать посуду. И я все время думал, что нужно побежать к пану Юзеку и рассказать ему обо всем.
Но даже в этот день многие говорили о евреях со злобой. Один сказал, что русские уже давно посылали им оружие самолетами. Потому что большевики хотят захватить гетто, чтобы потом направить оружие против поляков. Кто-то удивился:
– Против нас? Но ведь и они воюют с немцами.
И тот сразу же набросился на него:
– Вот, еще один большевичок выискался!
А люди, которые сидели вокруг, не знали, как им реагировать. Вдруг это какой-нибудь фольксдойч или просто провокатор. Его никогда раньше в трактире не видели. Поэтому его не стали перебивать. А он продолжал:
– Слышали, что случилось на Новоярской? Там немцы всех наших казнили, потому что нашли жидов в доме. А на улице Фрета? Точно то же самое!
Это уже была чистая неправда. Я так и сказал:
– Неправда. Их арестовали на три дня, и большинство уже вернулись.
А этот человек меня перебил:
– Большинство? Даже и половина не вернулась! И знаете, почему их всех арестовали? Потому что жиды сами доносят на поляков, которые их скрывают. Мы рискуем своей жизнью, жизнью наших детей, чтобы спасти этих гнид, и вот их благодарность! Запомните, что я говорю. Потому что я знаю. Я этих гнид хорошо знаю!
Никто не отозвался, а потом пан Корек велел мне немедленно идти в кухню – наверно, боялся, что я еще раз открою рот. Но вскоре тот человек ушел – наверно, пошел капать свой яд в каком-нибудь другом месте, – а в трактир пришли знакомые люди, и общий разговор возобновился. Кто-то рассказал, что евреи подожгли немецкие танки бутылками с «коктейлем Молотова». И не только танки – они подожгли и немецких солдат тоже. Потом пришел еще один и подтвердил этот рассказ. Он сказал, что видел собственными глазами – в бинокль – немецких солдат, которые бежали по улице охваченные пламенем и жутко орали.
– Что уж они там могут орать?! Наверно, «майн Готт» или «мама»!
Мне было странно слышать этот рассказ, потому что я никогда не думал, что немцы тоже могут кричать «мама». И что они тоже верят в Бога. Я-то думал, что они будут кричать «Хайль Гитлер!» или что-нибудь такое.
И тут пан Корек сказал, как будто читая мои мысли:
– Самое странное, что они тоже молятся. Этого я не могу понять. И не могу вынести. Хорошо хоть, что они делают это по-немецки.
И он глянул вокруг, чтобы посмотреть, кто его слушает. К счастью, пана Щупака там не было.
Перед самым моим уходом пришли еще двое и рассказали, что на Мурановской площади евреи подняли два флага – один бело-голубой, это, очевидно, их флаг, а другой – наш, польский.
Я почувствовал, что меня бьет озноб. И все люди вокруг долго молчали. А потом пан Корек сказал:
– Хорошо. Первый польский флаг за четыре года. Ничего, придет день, когда нам еще доведется увидеть свои флаги, потому что мы сами их поднимем. И все же честь и хвала евреям. – Он снова обвел всех присутствующих испытующим взглядом и добавил: – Евреи, конечно, все погибнут, но с честью. Так в честь евреев, которые подняли флаги на Мурановской, поднимем и мы – за счет заведения!
И я бегом раздал всем стаканы с бимбером. И мы все подняли стаканы и выпили. Нет, я не пил. Пан Корек обещал маме, что я не прикоснусь к водке. Но я поднял со всеми.
Я обещал бабушке вернуться, чтобы она не волновалась. Но я хотел по дороге заскочить еще к дяде, чтобы рассказать пану Юзеку о восстании. Поэтому я сказал пану Кореку, что сегодня должен вернуться домой пораньше. И он отпустил меня, хотя посетителей в этот день было больше, чем обычно.

Дядя открыл мне дверь и завел меня прямо в кухню. Он всегда заводил меня туда, когда хотел поговорить со мной наедине. Дядя сказал, что был у нас дома, и спросил, что случилось с мамой и Антоном. Я удивился. Не в его обычае было приходить к нам. Он, видимо, почувствовал мое удивление, потому что тут же объяснил:
– Ваш еврей хочет вернуться в гетто и готов уплатить полную цену тому, кто его туда переведет. Я подумал, что Антон…
Он не должен был знать о ходках Антона с контрабандой. Опять мама рассказала?
До этого дня я никогда не слышал о еврее, который по своей воле хотел бы покинуть надежное укрытие и вернуться в гетто, да еще в такое время.
– Он прямо сейчас хочет вернуться?
Я не мог поверить.
– Ты что, не знаешь, что еврейские парни возвращаются в гетто, чтобы сражаться с немцами? Наш привратник рассказал мне о еще одном таком. Но я не об этом хотел с тобой поговорить, а о твоей матери. Она не пошла на работу, сидит дома и плачет, а Антона нет. Он был сегодня в трактире?
– Нет, его не было, – сказал я.
Я вдруг начал беспокоиться за маму. Я уже все простил ей. И я не знал, радоваться ли тому, что Антон исчез. Я решил, что нужно вернуться домой.
– Они поссорились, – сказал я. – Они поссорились из-за пана Юзека, потому что Антон встретил нас вчера, когда мы шли сюда. – И немного подумав, добавил: – Мама с паном Юзеком шли под руку. Для маскировки, понимаете.
Дядя засмеялся.
– А почему ты перешел спать к бабушке?
Я рассказал ему о затрещине Антона.
– За что он тебя? – спросил он.
– Чтобы не вмешивался, – сказал я.
– Я говорил этой дуре, что нужно все рассказать Антону. Бабушка тоже сказала, что добром это не кончится. – Он смерил меня взглядом и добавил: – Во что ты втравил свою мать, эх ты…
Я поздоровался с тетей Иреной и пошел заглянуть в убежище пана Юзека. Он ходил в носках по своей маленькой комнате и курил одну сигарету за другой. Дядя уже рассказал ему главные новости, и теперь он обрадовался моему приходу, надеясь узнать, что я видел сам и о чем говорили в трактире. Он сказал, что уже с утра стоял у окна и слышал звуки выстрелов и сирены скорой помощи.
Я рассказал ему все. Даже то, что не хотел.
Он начал говорить о восставших. Честно говоря, у меня не было времени его слушать – мне нужно было бежать к бабушке, взять свои вещи и бегом вернуться домой, потому что я беспокоился за маму. Но он все продолжал говорить о чести, которую спасают восставшие, о чести еврейского народа в глазах истории.








