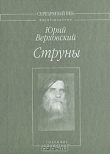Текст книги "Собрание сочинений в пяти томах Том 4"
Автор книги: Уильям О.Генри
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 46 страниц)
Комфорт {9}
(Перевод В. Азова)
По случаю торжеств кучка раф-райдеров сделала визит Нью-Йорку. Эти лояльные отставные вояки чрезвычайно украсили своим присутствием торжества. Газетные репортеры выкопали из своих чемоданов старые широкополые шляпы и кожаные пояса и смешались с толпой визитеров. Бравые сыны Запада без особого восторга приняли к сведению небоскребы (не выше третьего этажа), позевали на Бродвее, повалялись, свернувшись, в широких креслах в холлах гостиниц и в общем являли вид скучный и унылый, напоминая почтенного полковника, отлученного на время маневров от услуг своего камердинера.
От этой делегации ротозеев отвалился как-то один из членов ее, некто «Репейник» Най из Пайн-Фетера, Аризона.
Ежедневный циклон, проносящийся по Шестой авеню, оторвал его от общества его верных сотоварищей. Пыль, поднятая тысячью шуршащих юбок, ослепила его; мощный грохот вагонов надземной железной дороги оглушил его; ослепительный блеск двадцати тысяч сияющих глаз смутил его воображение.
Шторм поднялся так внезапно и был так страшен, что первым импульсом «Репейника» было броситься на землю и ухватиться за какой-нибудь корень, но вскоре он сообразил, что это была не стихийная, а человеческая буря, и он спасся от нее в подъезд какого-то дома.
Репортеры писали, что ничто, кроме широкополых шляп, не изобличало западного происхождения этих северных гаучо. Да усовершенствует небо репортерские глаза! Костюм из черного диагоналя, измятый в невероятных местах; ярко-голубой самовяз, завязанный на фабрике; низкий отложной воротничок времен Сеймура и Блэра, лоснящийся, как белые эмалевые буквы на окнах день-и-ночь-кроме-воскресных-дней-открытых-ресторанов; согнутые от вечного сидения в седле колени; своеобразный сгиб большого и других пальцев правой руки от привычного крепкого сжимания лассо; глубоко всосавшийся загар, какого не в состоянии вызвать самое горячее солнце вне Запада; редко мигающие голубые глаза, автоматически разбивающие движущуюся толпу на четверки, как будто это табун, выпускаемый из загона; выражение изолированности и величия, достойное императора или человека, чей кругозор не распространяется дальше, чем на однодневный переезд, – все эти отпечатки Запада лежали на «Репейнике» Нае. О, да – он носил широкополую шляпу, благосклонный читатель, – совершенно такую же, какую надевают кондуктора из почтовой конторы на Мэдисон-сквере, когда они отправляются в Бронкс по воскресеньям после обеда.
Вдруг «Репейник» Най бросился в самую середину потока, ухватил какого-то человека, вытащил его из главного фарватера, по которому текло столичное стадо, и дал ему такого тумака по затылку, что тот отшатнулся к стене.
Жертва подняла свою упавшую с головы шляпу с сердитым выражением лица ньюйоркца, потерпевшего оскорбление и намеревающегося написать по этому поводу письмо в редакцию. Но, взглянув на обидчика, человек убедился, что тумак был только выражением любви и дружеского расположения, сообразно манере Запада, который приветствует друга оскорблениями, гвалтом и кулаками, а врага встречает церемонно и выдержанно, как того требует правильный прицел.
– Святая яичница! – воскликнул «Репейник», крепко ухватив плененную им скотину за переднюю ногу. – Неужто это длиннорогий Мерритт?
Другой был… вы ежедневно можете встретить на Бродвее этот образчик: деловой человек: шляпа – последнее слово моды; хорошие – парикмахер, дела, пищеварение и портной.
– «Репейник» Най! – воскликнул он, ухватив покаравшую его руку. – Сердечный друг! Как я рад видеть тебя! Какими чудесами? Ах, да, конечно, торжества! Помню, ты записался в раф-райдеры. Чудесно! Идем, позавтракаем вместе. Никаких! Без отказа!
«Репейник» с грустью, но решительно прижал его к стене рукой размера, очертаний и цвета хорошего седла.
– Длиннорогий, – меланхолически сказал он голосом, расстроившим моментально уличное движение, – что они сделали с тобою? Ты ведешь себя совершенно как горожанин. Они превратили тебя в строку из «Всего Нью-Йорка». «Идем позавтракаем вместе!» В наши дни ты не позволил бы себе говорить о жратве в таких оскорбительных выражениях.
– Я уже семь лет живу в Нью-Йорке, – сказал Мерритт. – Прошло восемь лет с тех пор, как мы с тобой клеймили коров у старичины Гарсия. Зайдем, во всяком случае, в кафе. Приятно все-таки опять услышать «жратва».
Они пробрались сквозь толпу к отелю и, как бы повинуясь какому-то естественному закону, направились прямо к стойке бара.
– Говори, – пригласил «Репейник».
– Коньяку, – сказал Мерритт.
– О боги! – воскликнул «Репейник». – И это тот самый человек, с которым мы вместе видывали зеленого змия в кабачках на Западе! Коньяку? Ах, чтоб тебе! Натурального виски! Ты платишь.
Мерритт улыбнулся и заплатил.
Они позавтракали в маленьком продолжении столовой, сообщавшемся с кафе. Мерритт искусно уклонился от выбора своего друга, который уперся на яичнице с ветчиной, – в сторону пюре из сельдерея, котлетки из форели, пирога с куропаткой и соответствующего салата.
– В тот день, – с огорчением и громоподобным гласом заявил «Репейник», – когда я не буду в состоянии выпить больше одной рюмки перед закуской с приятелем, которого я встретил после восьми лет разлуки в тридцатицентовом городе, за столом два на четыре фута, в час дня в третий день недели, – пусть девять мустангов перебрыкнут меня сорок раз через шестьсот сорок квадратных акров пастбища. Зарубил себе на носу эту статистику?
– Правильно, старина, – засмеялся Мерритт. – Официант, принесите мне рюмку абсента фраппе. А тебе что, «Репейник»?
– Натурального, – траурным голосом ответил Най. – Эх, Длиннорогий! Ты пил его когда-то прямо из горлышка! Прямо из бутылки, в седле, на всем скаку – да настоящее виски, аризонское, не эту бурду… Э, да что! Это ты платишь!
Мерритт подсунул талон за напитки под свой бокал.
– Правильно. Ты, вероятно, полагаешь, что город испортил меня. Я такой же хороший ковбой, как и ты, «Репейник», но мне как-то не приходит даже и в голову вернуться к прежней жизни. В Нью-Йорке имеешь комфорт… комфорт! Я хорошо зарабатываю и хорошо проживаю деньги. Довольно с меня мокрых одеял, и гонки за скотом в снежную бурю, и сала с холодным кофе, и встряски раз в полгода. Я полагаю, что буду околачиваться здесь и впредь. Махнем вечером в театр, «Репейник», а потом пообедаем у…
– Я скажу тебе, кто ты такой, Мерритт, – ответил «Репейник», положив один локоть в его салат, а другой в его масло. – Ты сгущенная, бесплодная, безусловная, короткорукая, козоухая мисс Салли Уокер. Господь сотворил тебя перепендикулярным и приспособленным для езды раскорякой и для употребления крепких слов в оригинале. Ты же осквернил творенье Его рук, перекинув себя в Нью-Йорк, надев маленькие ботиночки, завязанные шнурками, и гримасничая. Я видал, как ты арканил и связывал быка в сорок две с половиной секунды. Если бы ты теперь увидел быка, ты побежал бы сделать заявление об этом в полицию. А эти шарлатанские напитки, которые ты прививаешь своему организму, эти настойки из бурьяна с желудями пополам с киндер-бальзамом – неужели они согласуются с человеческой природой? Ненавижу тебя таким!
– Видишь ли, «Репейник», – ответил Мерритт с оттенком извинения в голосе. – До некоторой степени ты прав. Подчас я и сам чувствую, точно я был вскормлен бутылкой. Но говорю тебе, Нью-Йорк предоставляет человеку комфорт. Есть в нем что-то такое! Зрелища и толпа – и как это все меняется ежедневно – и самое дыхание всего этого. Город словно забрасывает аркан длиною в милю вокруг твоей шеи и оборачивает другой конец его где-то около Тридцать четвертой улицы. [17][17]
34-я улица – центр, в котором расположены главные увеселительные места.
[Закрыть]Я сам не знаю, что это такое…
– Бог знает, – печально ответил «Репейник». – И я тоже знаю: Восток проглотил тебя. Ты был дичью, а теперь ты телятина. Ты напоминаешь мне цветочный горшок в окне. Даже в горле у меня от тебя пересохло!
– Рюмку зеленого шартреза, – приказал Мерритт официанту.
– Натурального виски, – вздохнул «Репейник». – Ты платишь, ренегат.
– Виноват, но заслуживаю снисхождения, – сказал Мерритт, – ты не можешь этого понять, «Репейник». Здесь такой комфорт, в Нью-Йорке, что…
– Одолжи мне, пожалуйста, твою нюхательную соль, ты, мисс Салли! – воскликнул «Репейник». – Если б я не видел своими глазами, как ты однажды отшил трех вооруженных бахвалов из Мазатцай-Сити с незаряженным револьвером в руках…
Голос «Репейника» заглох в глубоком огорчении.
– Сигар! – сурово крикнул он официанту, чтобы скрыть свое волнение.
– Пачку турецких папирос, – сказал Мерритт.
– Ты платишь, – сказал «Репейник», с трудом скрывая свое презрение.
В семь часов они пообедали в рекламирующемся в газетах ресторане. Там собралось блестящее общество. Сливки. Оркестр играл увлекательно. Не успеет официант передать дирижеру денежный привет от какого-нибудь гостя, как вся капелла моментально загудит.
За обедом Мерритт старался уговорить приятеля. «Репейник» был старым его другом, и он любил его. Он уговорил его попробовать коктейль.
– Так и быть, ради старой дружбы выпью стакан этого отхаркивающего, – сказал «Репейник», – но предпочел бы натурального виски. Ты платишь.
– Ладно, – ответил Мерритт. – А теперь посмотри карточку кушаний. За что ты зацепишься?
– Что за чертовщина! – воскликнул «Репейник», выпучив глаза. – Неужели в этом фургоне-кухне имеются все эти харчи? Да тут их до черта! Это что? Пюре из ля… ля… из лягушек, что ли? Я пас! Господи помилуй! Да тут хватит снеди на двадцать объездов. Валяй, я посмотрю.
Блюда были заказаны, и Мерритт обратился к винной карточке.
– Мэдок здесь недурен, – предложил он.
– Ты – доктор, тебе лучше знать, – заметил «Репейник», – а я уж лучше натурального виски. Ты платишь.
«Репейник» осмотрелся кругом. Официант приносил блюда и убирал порожние тарелки. Он наблюдал. Он видел веселую нью-йоркскую толпу.
– Как там были дела со скотом, когда ты уехал из Гилы? – спросил Мерритт.
– Хороши, – ответил «Репейник». – Видишь госпожу в красном шелку с крапинками – там, за столиком? Н-ничего! Я бы позволил ей разогревать свои бобы у моего походного костра. Да, со скотом дела ничего. Она красива, как тот белый мустанг, которого я видел однажды на Черной реке.
Когда подали кофе, «Репейник» протянул одну ногу на ближайший стул.
– Ты говоришь, Длиннорогий, город комфортабельный? – раздумчиво сказал «Репейник». – Да, комфортабельный город. Это не то, что в степи при северном ветре. Как ты назвал эту механику, Длиннорогий? Соус кумберленд? Ничего! Съедобно! И даже очень! Этот белый мустанг удивительно поворачивает голову и встряхивает гривой, погляди-ка! Я думаю, если бы мне удалось продать мое ранчо за приличную сумму, я бы…
– Гьярсонг! – неожиданно рявкнул он так, что парализовал все ножи и вилки в ресторане.
Официант подплыл к столу.
– Еще два этих – как их там – коктейля! – приказал «Репейник».
Мерритт посмотрел на него и многозначительно улыбнулся.
– Это я плачу, – сказал «Репейник», выпуская клуб дыма к потолку.
Неизвестная величина {10}
(Перевод В. Азова)
Немного раньше начала настоящего столетия некий Септимус Кайнсолвинг, старый ньюйоркец, сделал великое открытие. Он первый открыл, что хлеб печется из муки, а не из видов на урожай. Угадав, что урожай будет неудовлетворительный, и зная, что биржа не имеет ощутительного влияния на произрастание злаков, мистер Кайнсолвинг удачным маневром захватил хлебный рынок.
В результате получилось, что когда вы или моя хозяйка (до гражданской войны ей не приходилось ударить пальцем о палец: об этом заботились южане) покупали пятицентовый каравай хлеба, вы прибавляли два цента дополнительно в пользу мистера Кайнсолвинга в виде благодарности за его прозорливость.
Вторым последствием было то, что мистер Кайнсолвинг вышел из этой игры с 2 миллионами долларов припеку.
Дан, сын мистера Кайнсолвинга, был в колледже, когда проделывался этот математический опыт с хлебом. На вакации Дан вернулся домой и нашел своего старика в красном шлафроке за чтением «Крошки Доррит» на веранде своего почтенного особняка из красного кирпича в Вашингтон-сквере.
Он удалился на покой с таким запасом добавочных двухцентовых монет, отторгнутых им от покупателей хлеба, что если бы вытянуть эти монеты в одну линию, она обмотала бы земной шар пятнадцать раз и сошлась бы концами над государственным долгом Парагвая.
Дан поздоровался с отцом и отправился в Гринвич Вилидж повидаться со своим товарищем по школе Кенвицем. Дан всегда восхищался Кенвицем. Кенвиц был бледен, курчав, интенсивен, серьезен, математичен, научен, альтруистичен, социалистичен и природно враждебен олигархии. Кенвиц отказался от университета и учился часовому делу в ювелирной мастерской своего отца. Дан был улыбающийся, веселый, добродушный юноша, одинаково терпимый к королям и тряпичникам. Они радостно встретились, как и подобает антиподам. Затем Дан вернулся в университет, а Кенвиц к своим пружинам и к своей библиотеке – в комнатке позади отцовского магазина.
Через четыре года Дан вернулся на Вашингтон-сквер, снабженный дипломом бакалавра словесных наук и отполированный двумя годами пребывания в Европе. Бросив сыновний взгляд на пышный мавзолей Септимуса Кайнсолвинга на Гринвудском кладбище и предприняв скучную экскурсию в область отпечатанных на машинке документов в обществе своего поверенного, он почувствовал себя одиноким и безнадежным миллионером и поспешил к своему другу в старый ювелирный магазин на Шестой авеню.
Кенвиц отвинтил лупу от глаза, вытащил из мрачной задней комнаты своего родителя и променял внутренность часов на внешность Нью-Йорка. Они уселись с Даном на скамейке в Вашингтон-сквере. Дан мало переменился. Он был статен и важен важностью, которая легко распускалась в улыбку. Кенвиц был больше прежнего серьезен, напорист, научен, философичен и социалистичен.
– Теперь мне все известно, – сказал наконец Дан. – С помощью юридических светил я вошел во владение кассой бедного папаши и прочим барахлом. В общем, до двух миллионов долларов, Кен. И мне говорили, что он сколотил все это из грошей, которые он выжал у бедняков, покупающих хлеб в лавочке за углом. Ты изучил политическую экономию, Кен, и знаешь все, что касается монополий, трудящихся масс, спрутов и прав рабочего народа. Я раньше никогда не интересовался этими вопросами. Футбол и стремление быть справедливым к людям представляли собою почти весь мой университетский курикулум.
Но с тех пор, как я вернулся домой и узнал, каким путем мой папенька нажил свои деньги, я стал задумываться. Мне страшно хотелось бы вернуть этим индивидам то, что они переплатили лишнего на хлебе. Я знаю, что это окорнало бы ленту моих доходов на порядочное количество ярдов, но я хотел бы рассчитаться с ними. Есть какой-нибудь способ сделать это?
Большие черные глаза Кенвица загорелись. Его тонкие интеллигентные черты приняли почти сардоническое выражение. Он схватил Дана за руку пожатием друга и судьи.
– Это невозможно, – ответил он энергично. – Одна из жесточайших казней для вас, людей, владеющих неправедно добытым богатством, заключается в том, что, когда вы начинаете каяться, вы убеждаетесь, что потеряли силу исправить или оплатить причиненное зло. Я преклоняюсь, Дан, перед твоими благими намерениями, но ты ничего не можешь поделать. Люди были ограблены и потеряли свои кровные гроши. Слишком поздно теперь, чтобы загладить преступление. Ты не можешь выплатить им эти деньги обратно.
– Конечно, – сказал Дан, зажигая трубку. – Мы не можем разыскать каждого из этих дурней и вручить ему надлежащую сдачу. Их такая масса – покупающих хлеб каждый день. Странный вкус у них… Я никогда особенно не интересовался хлебом, разве только в поджаренных гренках с рокфором. Но кое-кого из них мы могли бы найти и высыпать сколько-нибудь из отцовских денег обратно – туда, откуда они были взяты. Это было бы мне облегчение. Противно, должно быть, действительно человеку, когда с него снимают шкуру из-за такой дряни, как хлеб. Наверное, никто не стал бы протестовать, если бы поднялась цена на омаров и на салат из крабов. Валяй, Кен, подумай. Я хочу вернуть назад из этих денег все, что удастся.
– Есть много благотворительных учреждений, – механически заметил Кенвиц.
– Слишком просто, – возразил Дан, затянувшись трубкой. – Можно подарить городу сад или пожертвовать госпиталю грядку спаржи, но я не хочу, чтобы Пауль заработал на том, что мы ободрали Питера. Я хочу покрыть именно хлебный перебор.
Тонкие пальцы Кенвица быстро задвигались.
– А ты знаешь, сколько денег потребовалось бы, чтобы вернуть потребителям то, что они переплатили за хлеб со времени этого биржевого маневра? – спросил он.
– Не знаю, – твердо ответил Дан. – Мой поверенный говорит, что у меня два миллиона.
– Если бы у тебя было сто миллионов, – пылко воскликнул Кенвиц, – ты не был бы в состоянии уплатить тысячной доли того, что было исторгнуто. Нет возможности постигнуть размеры зла, вызванного преступно примененным богатством. Каждый грош, вытянутый из тощего кошелька бедняка, реагировал в тысячу раз ему во вред. Ты этого не понимаешь. Ты представить себе не можешь, насколько бесполезны твои стремления к расплате. Даже одного-единственного потерпевшего мы не в состоянии удовлетворить.
– Брось, философ! – заметил Дан. – Нет такого горя у цента, которого нельзя было бы залечить долларом.
– Ни одного, – повторил Кенвиц. – Я познакомлю тебя с одним, и ты увидишь. Томас Бойн имел небольшую пекарню там, на Верик-стрит. Его клиентура состояла из беднейшего люда. Когда поднялась цена на муку, ему пришлось поднять цены на хлеб. Его покупатели были слишком бедны, чтобы платить повышенную цену. Дела его пошатнулись, и он потерял свой капитал – тысячу долларов – все, что у него было.
Дан Кайнсолвинг мощно ударил кулаком по скамье.
– Принимаю этот случай! – воскликнул он. – Веди меня к Бойну. Я верну ему его тысячу долларов и куплю ему новую пекарню в придачу.
– Напиши чек, – сказал, не двигаясь с места, Кенвиц, – и затем продолжай выписывать чеки в возмещение за все последствия. Следующий чек напиши на пятьдесят тысяч долларов. После банкротства Бойн сошел с ума и поджег дом, из которого его хотели выселить. Убытков было на эту сумму. Бойн умер в доме умалишенных.
– Держись случая с Бойном, – сказал Дан. – Страховые общества не значатся в моем благотворительном списке.
– Пиши затем чек на сто тысяч, – продолжал Кенвиц. – Сын Бойна пошел по дурной дороге, когда закрылась пекарня, и был обвинен в убийстве. На прошлой неделе он был оправдан после трехлетнего юридического боя, и теперь штат возлагает расходы по этому делу на плательщиков налогов.
– Вернись к пекарне! – с нетерпением воскликнул Дан. – Правительству не приходится стоять в хлебной очереди.
– Есть еще одна графа, относящаяся к этому случаю… Пойдем, я покажу тебе, – сказал Кенвиц, вставая.
Часовщик-социалист ликовал. Он был миллионероедом по природе и пессимистом по ремеслу. Одним духом Кенвиц мог уверить вас, что деньги чистое зло и разврат и что ваши новехонькие часы нуждаются в чистке и новой пружине.
Он повел Кайнсолвинга к югу от сквера, на грязную, кишащую нищетой Верик-стрит. По узкой лестнице грязного кирпичного дома следовал за ним кающийся потомок спрута. Кенвиц постучался в дверь, и ясный голос пригласил их войти.
В почти голой комнате сидела за швейной машиной молодая женщина. Она кивнула Кенвицу как старому знакомому. Слабый луч солнца, пробивавшийся сквозь тусклое окно, окрасил ее густые волосы в цвет древнего тосканского щита. Она бросила Кенвицу открытую улыбку и слегка смущенный вопрошающий взгляд.
Кайнсолвинг в молчании бьющегося сердца смотрел на ее чистую трогательную красоту. Они очутились перед последней графой счета, относящегося к случаю с Бойном.
– Сколько на этой неделе, мисс Мэри? – спросил часовщик.
Гора грубых серых рубах лежала на полу.
– Почти тридцать дюжин, – приветливо ответила молодая женщина. – Я заработала около четырех долларов. Мои дела поправляются, мистер Кенвиц. Прямо не знаю, что делать с такой кучей денег.
Глаза ее открыто и мягко посмотрели на Дана. Маленькое розовое пятнышко выступило на ее бледной щеке.
Кенвиц улыбался, как сатанинский ворон.
– Мисс Бойн, – сказал он, – позвольте представить вам мистера Кайнсолвинга, сына того человека, который поднял цены на хлеб пять лет назад. Он хотел бы помочь тем, кто был обездолен этим поступком.
Улыбка исчезла с лица девушки. Она встала и указала на дверь. На этот раз она смотрела прямо в глаза Кайнсолвингу но то не был взгляд, обещающий радость.
Мужчины вышли на Верик-стрит. Кенвиц, дав волю пессимизму, возмущению и ненависти, которые он питал к спруту атаковал денежную сторону своего друга язвительным потоком речей. Дан, по-видимому, прислушивался к его словам. Вдруг он обернулся, горячо пожал руку Кенвица и сказал:
– Я очень тебе благодарен, старина, тысячу раз благодарю.
– Мейн готт! Ты с ума сошел! – воскликнул часовщик и впервые за много лет уронил свои очки.
Через два месяца после этого Кенвиц вошел в большую пекарню на Нижнем Бродвее; он принес хозяину золотые очки, которые были у него в починке.
Какая-то дама давала заказ приказчику.
– Эти булки по девять центов, – сказал приказчик.
– Я всегда покупаю их по восьми в верхней части города, – ответила дама. – Не заворачивайте, я проеду туда по пути домой.
Голос показался часовщику знакомым. Он прислушался.
– Мистер Кенвиц! – радостно воскликнула дама. – Как вы поживаете?
Кенвиц сосредоточил все свое социалистическое и экономическое внимание на ее удивительном боа и на дожидавшейся ее снаружи коляске.
– Как, мисс Бойн! – начал он.
– Миссис Кайнсолвинг, – поправила она. – Дан и я обвенчались месяц назад.