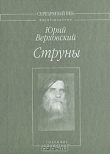Текст книги "Собрание сочинений в пяти томах Том 4"
Автор книги: Уильям О.Генри
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 46 страниц)
Леди наверху {66}
(Перевод Л. Каневского)
Говорят, Нью-Йорк был тогда пустынным, и это, несомненно, объясняет, почему так далеко разносились эти звуки в тишине по летнему пространству. Дул легкий бриз с юга на юго-восток, была полночь, а тема – женская сплетня, переданная по беспроволочной мифологии. На высоте трехсот шестидесяти пяти футов над неостывшим асфальтом крадущееся на цыпочках божество – символ Манхэттена указывало своей дрожащей стрелой прямо в направлении ее восторженной сестры на Острове Свободы. Огни Большого сада погасли; все скамьи на площади были заняты спящими людьми, которые лежали в таких странных позах, что по сравнению с ними худосочные фигуры на иллюстрациях Доре к дантовскому «Аду» смахивали на портновские манекены. Статуя Дианы, установленная на башне над садом: ее постоянство демонстрирует установленный на ней флюгер, невинность – приобретенным золотистым налетом, верность стилю – уникальным, развевающимся платком, чистосердечие и безыскусственность – ее привычкой низко кланяться, метрополизм – ее позой, словно она мчится, чтобы сесть на гарлемский поезд, указывая своей стрелой куда-то через гавань. Если бы стрела была направлена строго горизонтально, то она возвышалась бы на пятьдесят футов над головой этой героини-матроны, главная обязанность которой всей своей литой железной фигурой радушно встречать угнетенных всей земли.
Она устремила свой напряженный взгляд на океан, разрезанный на бороздки винтами, послушными рулями и остающиеся за кормой пароходов. Переводчики тоже удружили ей. Прежнее ее название – «Свобода, освещающая мир», как ее окрестили создатели, не имело бы большего значения, если не считать ее размеров, чем какой-то электрик, или магнат «Стэндарт ойла». Но вот «Свобода, просвещающая мир» – совсем другое дело. Так ее окрестили наши гражданские хранители языка, англицизировав его, после чего она приобрела совершенно иные, более высокие качества. Теперь несчастная Свобода, вместо того чтобы пользоваться синекурой простого светильника, превращается в школьную учительницу из Чаутакуа, с океаном под ней, а не обычным, классическим тихим озером. Своим факелом без огня и пустой головой она должна разгонять тени мира и учить всех азбуке: А-Б-В.
– Эй там, миссис Свобода! – крикнул чей-то ясный, беззаботный голос, похожий на сопрано, в застывшем полуночном воздухе.
– Это вы, мисс Диана? Извините, что не могу повернуть головы. Я не такая подвижная и вихревая, как некоторые. И к тому же я ужасно охрипла, так что почти не могу говорить. Из-за скорлупы арахиса, которую набросала на лестнице, прямо в моем горле, последняя компания туристов из Мариетты, штат Огайо. А ведь был такой приятный вечерок, мисс.
– Если вы не против, я кое-что у вас спрошу, – раздался звонкий, как колокольчик, голос золотой статуи. – Мне хотелось бы узнать, откуда у вас этот акцент городской ратуши. Я не знала, что Свобода должна быть непременно ирландской.
– Если бы вы учили историю искусства вместе с ее заграничными усложнениями, то не стали бы задавать такого вопроса, – ответила офшорная статуя. – Если бы вы не были такой пустоголовой и она у вас так не кружилась, то вы знали бы, что я была сделана каким-то итальяшкой и подарена американскому народу от имени французского правительства для того, чтобы приветствовать ирландских иммигрантов, прибывающих в голландский город Нью-Йорк. Вот этим я и занималась с тех пор, как меня здесь установили. Вы должны знать, мисс Диана, что у статуй все так, как и у людей: их создатели не ставят своей целью каким-то образом повлиять с их помощью на язык, нет, главное для них – те ассоциации, которые мы вызываем, поверьте мне.
– Вы абсолютно правы, – согласилась Диана. – Я и сама по себе это заметила. Если бы какие-нибудь старики с Олимпа оказались возле меня и принесли с собой свой жаркий греческий климат, то я сразу по их разговору отличила бы их от акцента водителя с Кони-Айленда.
– Как я рада, что вы решили быть более общительной, мисс Диана, – сказала миссис Свобода. – Я веду такую скучную здесь жизнь. Ну а что там, в городе, что-нибудь происходит, мисс Диана, дорогая?
– О-ла-ла! Нет, – ответила Диана. – Вы слышите мои восклицания, тетушка Свобода? Это их «Париж ночью» подо мной, на крыше сада. Оттуда доносятся. Вы можете услыхать эти «о-ла-ла!» в кафе Маккана, вместе с «гарсонами». Толпа богемы перестала там кричать «гарсон» после того как главный официант О'Рафферти отлупил троих за то, что они его так называли. Кажется, по вечерам все в городе слоняются без дела. Никто не сидит дома. Сегодня вечером видела на крыше сада одного торговца из нижней части города со стенографисткой. Шоу было таким скучным, что он уснул. Официант, надеясь получить от него дайм на чаевые, разбудил его. Тот вертит головой и видит перед собой свою маленькую стенографистку. «Гм! – произносит он. – Не запишем ли письмо, мисс де Сен-Монморанси?» – «Конечно, минуточку…» И, представляете, это самое интересное, что произошло на крыше. Видите, как же это все скучно. Ла-ла-ла!
– Но все же, мисс Диана, жизнь у вас там гораздо привлекательней. У вас была выставка кошек, потом выставка лошадей, затем проходили военные праздники, когда рядовые старались выглядеть как генералы, а генералы как дежурные администраторы. К тому же у вас было спортивное шоу, на котором девушка с размерами фигуры 36–19–45 готовила завтрак в вигваме из бересты на берегах Большого Венецианского канала под руководством одного из Вандербильтов, Бернарда Макфаддена и двух их преподобий – Дауи и Дасса. Потом у вас был французский бал, на котором эти оригиналы Коэны исполняли танец шотландских горцев с членами Общества Роберта Эммет-Зангербунда. У вас состоялся большой бал О'Райена, самое красивое в мире зрелище, когда французские студенты соревнуются с исполнителями тирольских песен в танце кекуок.
– Все-таки как утомительно, – вздохнула статуя на острове, – пропагандировать науку Свободы в Нью-Йоркской бухте. Иногда, когда я смотрю вниз, на остров Эллис, и вижу на нем кучу иммигрантов, – мне ведь нужно их просвещать, – так хочется перекрыть газ, чтобы коронер не тянул с ними, поскорее выписывал им документы о натурализации.
– Действительно, какой позор, устраивать вам такую несносную жизнь, – послышалось сочувственное сожаление Дианы, этой богини стипльчеза. – Вероятно, вам так одиноко стоять одной, а вокруг столько воды. Я даже не могу себе представить, как это у вас не развиваются волосы. К тому же ваш наряд матушки Хаббарт уже лет десять, как вышел из моды. Думаю, что нужно привлечь к ответственности скульпторов за то, что они одели леди в железные и мраморные одежды. Вот в чем проявилась мудрость мистера Сен-Голенса. И хотя я всегда иду чуть впереди моды, она все равно быстро нагоняет меня. Простите меня, минуточку, – налетел порыв ветра с севера, вероятно, погода в Изопусе испортилась. Ну, все в порядке! Думаю, что на Западе, вон та золотая полоска на небе успокоит ветра, дующие в моем направлении. Так о чем вы говорили, миссис Свобода?
– Как мы славно с вами поболтали, мисс Диана, но, к сожалению, я вижу приближающийся из Европы лайнер, он подходит к узкой части бухты, и мне нужно заняться своими прямыми служебными обязанностями. Такая моя работа: протягивая вперед факел Свободы, приветствовать всех тех, кто страдает от качки и ударов лоцманов, которые ведут суда к причалу. В самом деле это – великая страна: сюда можно приехать всего за восемь долларов пятьдесят центов, а врач из иммиграционной службы может отправить вас назад бесплатно, если увидит, что у вас покраснели глаза из-за того, что вы так сильно плакали по ней.
Флюгер золотистой статуи поворачивался от меняющего направление бриза, а ее золотая стрела угрожала каким-то точкам на горизонте.
– Ну, пока, тетушка Свобода! – сладким голосом попрощалась Диана со своей башни. – Как-нибудь вечерком, когда не будет сильного ветра, я позову вас снова. Послушайте, мне кажется, вы не слишком жалуетесь на свою работу. Я наблюдаю за островом Манхэттен с тех пор, как здесь стою. На нем какие-то болезненные сторонники свободы. Их выгружают у вашего подножия, но они там долго не остаются.
Я постоянно вижу, как эти ребята подписывают чеки, как они бросают в урну нужный бюллетень, как поощряют искусство и каждое утро принимают ванну. И все они оказались здесь благодаря докеру, родившемуся здесь, в Соединенных Штатах, который никогда в жизни не зарабатывал больше сорока долларов в месяц.
Так что не отказывайтесь от своей работы, тетушка Свобода! Вы так всем нужны, всем нужны…
Новый Конэй {67}
(Перевод Зин. Львовского)
– В будущее воскресенье, – сказал Денни Канаган, – я пойду осматривать новый Остров Конэй, который вырос, как птица Феникс, из пепла. Я поеду туда с Норой Флин, и мы будем жертвою всех его мануфактурных обманов, начиная с краснофланелевого извержения Везувия до розовых шелковых лент на курячьем самоубийстве в инкубаторах.
Был ли я там раньше? Был! Я был там в прошлый вторник. Видел ли я достопримечательности? Нет, не видел!
В прошлый понедельник я вошел в Союз Кладчиков Кирпича, и, согласно правилам, мне в тот же день было приказано бросить работу, чтобы выразить сочувствие бастующим укладчицам консервированной лососины в Такоме, Вашингтон.
Ум и чувства у меня были расстроены вследствие потери работы. Вдобавок было тяжело на душе от ссоры с Норой Флин, неделю назад, из-за резких слов, сказанных на полугодичном балу молочников и поливальщиков улиц. Слова же эти были вызваны ревностью, ужасной жарой и этим дьяволом Энди Коглином. Итак, говорю я, я поеду на Конэй во вторник, и если американские горы, смена впечатлений и кукуруза не развлекут меня и не вылечат, тогда уж не знаю, что и делать.
Вы, верно, слышали, что Конэй перестроен и в моральном отношении? Старый Бауэри, где вас силой заставляли сниматься на жестяной пластинке, где вам давали по шее, не прочитав даже линии на вашей руке, теперь называется Биржей. Киоски с венскими сосисками обязаны теперь по закону иметь телеграфное бюро, а орехи в меду каждые четыре года осматриваются отставным мореходным инспектором. Голова негра, в которую прежде бросали шары, теперь признана нелегальной и по приказанию полицейского комиссара заменена головой шофера. Я слышал, что прежние безнравственные увеселения запрещены. Люди, любившие приезжать из Нью-Йорка, чтобы посидеть на песке и поплескаться в волнах прибоя, теперь покидают свои дома для того, чтобы пролезать через вертящиеся рогатки и смотреть на подражание городским пожарам и наводнениям, нарисованным на холсте. Говорят, что изгнаны все достойные порицания и развращающие учреждения, позорившие старый Конэй, как-то: чистый воздух и незастроенный пляж. Процесс чистки заключается будто бы в том, что повышена цена с 10 до 25 центов и что для продажи билетов приглашена блондинка по имени Модди вместо Микки, плутовки из Бауэри. Вот что говорят; я сам точно ничего не знаю.
Итак, я отправился в Конэй во вторник. Я слез с воздушной железной дороги и направился к блестящему зрелищу. Было очень красиво. Вавилонские башни и висячие сады на крышах горели тысячами электрических огней, а улицы были полны народа. Правду говорят, что Конэй равняет людей всех положений. Я видел миллионеров, лузгающих кукурузу и толкущихся среди народа. Я видел приказчиков из магазина готового платья, получающих восемь долларов в месяц, в красных автомобилях, ссорящихся теперь из-за того, кто нажмет гудок, когда доедут до поворота.
Я ошибся, подумал я, мне нужен не Конэй. Когда человеку грустно, ему требуются не сцены веселья. Для него было бы гораздо лучше предаться размышлениям на кладбище или присутствовать на богослужении в Райском Саду на крыше. Когда человек потерял свою возлюбленную, для него не будет утешением заказать себе горячую кукурузу или видеть, как убегает лакей, подавший ему склянку с сахарной пудрой вместо соли, или слушать предсказания Зозоокум, цыганки-хиромантки, о том, что у него будет трое детей и что ему надо ожидать еще одной серьезной напасти: плата за предсказание двадцать пять центов.
Я ушел далеко, вниз на берег, к развалинам старого павильона, близ утла нового частного парка Дримленд. Год тому назад этот павильон еще стоял прямо, и слуга за мелкую монету швырял вам на стол недельную порцию клейкой рыбешки с сухарями и дружески называл вас «олухом»; тогда порок торжествовал, и вы возвращались в Нью-Йорк, имея достаточно денег в кармане, чтобы сесть в трамвай на мосту. Теперь, говорят, на берегу подают кроликов по-голландски, а сдачу вы получаете в кинематографе.
Я присел у стены старого павильона, глядел на прибой, разбегавшийся по берегу, и думал о том времени, когда прошлым летом я сидел на том же месте с Норой Флин. Это было до реформы на острове, и мы были счастливы. Мы снимались на жестяных пластинках, ели рыбу в притонах разврата, а египетская волшебница, пока я ждал у двери, по руке предсказала Норе, что для нее было бы счастьем выйти замуж за рыжеволосого малого с кривыми ногами. Я был вне себя от радости, услышав этот намек. Здесь, год тому назад, Нора Флин положила обе свои руки в мою руку, и мы говорили о квартире, о том, что она умеет стряпать, и о разных других любовных делах, связанных с такого рода событиями. Это был тот Конэй, который мы любили и на котором лежала рука Сатаны, Конэй дружественный и веселый и всякому по средствам, Конэй без забора вокруг океана, без излишнего количества электрических огней, которые освещают теперь рукав всякого пиджака из черной саржи, обвившийся вокруг белой блузки.
Я сидел спиной к парку, где у них были и луна, и грезы, и колокольни – все вместе! и тосковал по старому Конэй. На берегу было мало народа. Большинство бросало центы в автоматы, чтобы увидеть в кинематографе «Прерванное ухаживание»; другие дышали морским воздухом в каналах Венеции, а кое-кто вдыхал дым морского сражения между настоящими военными кораблями в бассейне, наполненном водой. Несколько человек на песчаном берегу любовались водой и лунным светом. И на сердце у мена было тяжело от новой морали на старом острове, а оркестры позади меня играли, и океан впереди меня ударял в турецкий барабан.
Я встал и прошелся вдоль старого павильона и вдруг вижу, что с другой стороны, наполовину в тени, на поваленных бревнах сидит тоненькая девушка и, – честное слово! – плачет в одиночестве.
– Вас что-то огорчает, мисс? – говорю я. – Чем я могу помочь вам?
– Это не ваше дело, Денни Карнаган, – говорит она, выпрямляясь.
И это был не чей иной голос, как голос Норы Флин.
– Не мое, так как вам будет угодно! – говорю я. – Хороший сегодня вечер, мисс Флин. Видели вы все зрелища на новом Конэй? Предполагаю, что вы для этого приехали сюда.
– Я все видела, – ответила она, – мама и дядя Тим ждут меня там. Я провела очень приятный вечер и видела все, что нужно.
– Вы совершенно правы, – сказал я Норе, – и я не знаю, когда мне было так весело, как сегодня. После посещения самых забавных и весьма приличных аттракционов я пошел на берег подышать свежим воздухом. А видели вы Дур-бар, мисс Флин?
– Да, – ответила она, подумав, – но я думаю, небезопасно спускаться по откосам вниз в воду.
– А как вам понравилось стрелять по движущейся цели?
– Я боюсь ружей, – сказала Нора. – У меня от них шумит в ушах. Но дядя Тим стрелял и выиграл сигары. Мы сегодня очень веселились, мистер Карнаган!
– Я рад, что вам было весело, – сказал я. – Думаю, что вам доставили громадное удовольствие все здешние зрелища. А как вам понравились инкубаторы и вся эта чертовщина и ресторанчики?
– Я не была голодна, – сказала смущенно Нора. – Но мама ела везде. Мне очень нравятся все эти интересные вещи на новом Конэй, и я давно не проводила такого счастливого дня, как сегодня.
– Видели вы Венецию? – спросил я.
– Да, – ответила она, – какая красавица! Она была одета во все красное, и…
Я более не слушал Нору Флин, а подошел к ней и схватил ее в объятья.
– Какая вы выдумщица, Нора Флин, – сказал я. – Вы видели на новом Острове Конэй не больше моего. Сознайтесь теперь, вы приехали, чтобы посидеть около старого павильона у волн, где вы сидели прошлым летом и сделали Денни Карнагана счастливым человеком? Отвечайте, но говорите правду.
Нора уткнулась носом в мою жилетку.
– Он мне противен, Денни! – сказала она, чуть не плача. – Мама и дядя Тим пошли осматривать выставки, а я пришла сюда думать о вас. Я не могла переносить огни и толпу. Вы простили меня, Денни, за ссору, которую я начала?
– Это была моя вина, – сказал я. – Я пришел сюда по той же причине. Посмотрите на огни, Нора, – сказал я, поворачиваясь спиной к морю. – Разве они не красивы?
– Очень красивы, – сказала Нора, и глаза ее загорелись. – А слышите вы, как играют оркестры? О, Денни, мне хотелось бы все это посмотреть!
– Старый Конэй умер, дорогая, – сказал я ей. – Все на свете идет вперед. Когда человек счастлив, ему нужны не грустные зрелища. Этот новый Конэй лучше старого, но мы не могли оценить его, пока у нас не было подходящего настроения. В будущее воскресенье, Нора, дорогая, мы осмотрим новый Остров Конэй от начала до конца.
Закон и порядок {68}
(Перевод Зин. Львовского)
Недавно я очутился в Техасе и осмотрел все старые места.
На овечьем ранчо, где я жил несколько лет тому назад, я остановился на неделю. И, как все посетители, я с головой ушел в текущую работу, которая оказалась купаньем овец.
Этот процесс настолько отличается от обыкновенного крещения человека, что нуждается в пояснении. Громадный железный котел с разведенным под ним огнем – половина всего адского огня – частью наполняется водой, которая скоро начинает неистово кипеть. Затем туда бросают известь, концентрированный щелок и серу; все это должно тушиться и выкипать до тех пор, пока это чертово варево не станет таким крепким, что могло бы обжечь руку ведьме.
Это конденсированное варево затем смешивается в длинном, глубоком чане с несколькими кубическими галлонами горячей воды; овец ловят за задние ноги и бросают в эту смесь. После основательного погружения при помощи вилкообразного шеста в руках специально для этого приставленного джентльмена овцам разрешается выкарабкаться по наклонным доскам в корраль и высохнуть там или околеть, в зависимости от того, что им подскажет состояние их организма. Если вам приходилось когда-нибудь ловить здорового двухгодовалого барана за задние ноги и чувствовать те 750 вольт пинков, которые он может пропустить через вашу руку, прежде чем вам удастся швырнуть его в чан, вы, конечно, семнадцать раз пожелаете, чтобы он лучше околел, чем высох.
Все это сказано для того только, чтобы объяснить, почему Бед Оклей и я после купанья овец радостно растянулись на берегу charco, [88][88]
Река ( исп.).
[Закрыть]радуясь благоприобретенному аппетиту и чудесному соприкосновению с землей после утомительной мускульной работы. Стадо было небольшое, и мы закончили купанье в три часа пополудни. Бед вытащил из morral'я [89][89]
Подседельная сумка ( исп.).
[Закрыть]на луке своего седла кофе и кофейник, а также большой каравай хлеба и ветчину. Мистер Мильс, владелец ранчо и мой давнишний приятель, уехал обратно на ранчо в сопровождении рабочих из мексиканских trabajadores. [90][90]
Поденщики ( исп.).
[Закрыть]
В то время как ветчина, поджариваясь, приятно шипела, за нами раздался стук лошадиных подков. Шестизарядный револьвер Беда находился в кобуре на расстоянии десяти футов от него, но мой товарищ не обратил ни малейшего внимания на приближающегося всадника.
Такое отношение техасского ранчмена было настолько отлично от прежних обычаев, что я удивился. Инстинктивно обернувшись, чтобы разглядеть возможного врага, угрожавшего нам с тыла, я увидел всадника в черной одежде, который мог быть адвокатом, или пастором, или же купцом. Он мирно ехал рысцой вдоль ручья.
Бед увидел мое движение и улыбнулся саркастически и печально.
– Вы слишком долго отсутствовали, – сказал он. – Вам больше не нужно оборачиваться в этом штате, когда кто-нибудь скачет сзади вас, пока что-нибудь не ударит вас в спину; но даже и в этом случае вам может угрожать только пачка брошюр или протест против трестов – для подписи. Я даже не посмотрел на hombre, [91][91]
Человек ( исп.).
[Закрыть]проехавшего мимо, но готов прозакладывать четверть овечьей мочки, что это какая-нибудь двуличная сволочь, разъезжающая для собирания голосов в пользу запрещения выпивки.
– Времена переменились, Бед, – сказал я с видом оракула. – Закон и порядок теперь являются правилом на Юге и Юго-Западе.
Я заметил холодный блеск в бледно-голубых глазах Беда.
– Я не… – начал я поспешно.
– Разумеется, нет, – горячо сказал Бед. – Вы хорошо знаете. Вы здесь прежде жили. Закон и порядок, говорите вы? Двадцать лет назад они были здесь. У нас было всего два или три закона: об убийстве при свидетелях, о поимке на месте при краже лошадей, о голосовании по республиканскому списку! А теперь что? Мы все время получаем приказы за приказами, а законность уходит из штата. Законодатели заседают в Аустине и ничего не делают, кроме того, что издают постановление против ввоза в штат керосина и школьных учебников. Я думаю, они боятся, что кто-нибудь вечером после работы зажжет лампу и получит образование, а затем примется за дело и составит закон об отмене вышеупомянутых законов. Я стою за прежние времена, когда законы и порядок были действительно тем, чем назывались. Закон был законом, а порядок – порядком.
– Но… – начал я.
– Пока закипит кофе, – продолжал Бед, – я хотел описать вам случай подлинного закона и порядка, которого я был свидетелем в те времена, когда дела разрешались в камерах шестизарядного револьвера вместо камер высшего суда.
Слыхали вы о старом Бене Киркмане, короле скота? Его ранчо тянулось от Нуэсес до Рио-Гранде. В те времена, как вы знаете, были бароны скота и короли скота. Разница между ними была следующая.
Если скотовод отправлялся в Сан-Антонио, заказывал пиво для газетных репортеров и сообщал им количество скота, которым в действительности владел, они в газетах называли его бароном. Если же он заказывал шампанское и к количеству купленного им скота прибавлял количество скота, им украденного, его называли королем.
Лука Семмерс был одним из работников на его ранчо. Однажды на ранчо короля явилась кучка восточных людей из Нью-Йорка, или Канзас-Сити, или откуда-то по соседству. Лука с небольшим отрядом был послан сопровождать их, смотреть, чтобы гремучим змеям было сделано должное внушение при их приближении, и отгонять с дороги скотину. Среди кучки приезжих была черноглазая девушка, которая носила второй номер ботинок. Это – все, что я заметил у нее. Но Лука, вероятно, видел больше моего, так как женился на ней за день до того, как кавалькада отправилась домой. Он переехал в Канада-Варде и обзавелся собственным ранчо. Я нарочно пропускаю всю сентиментальную часть, так как никогда не видел и не желал видеть ее. Лука взял меня с собой, потому что мы были старыми друзьями, и я ходил за скотом по его вкусу.
Я пропускаю многое из того, что последовало, потому что никогда не видел и не желал видеть ничего такого, но через три года по галерее и по дому ранчо Луки, переваливаясь и спотыкаясь, затопал мальчуган. Я никогда особенно не ценил детей, но они, по-видимому, ценили. Я опять пропускаю многое из того, что последовало до того дня, когда на ранчо в наемных экипажах и телегах приехала компания друзей миссис Семмерс с Востока, – сестра, что ли, и двое или трое мужчин. Один был похож на чьего-то дядю, другой ни на что не был похож, а третий носил галифэ и говорил особенным тоном. Мне никогда не нравились люди, говорившие таким голосом.
Я пропускаю многое, что последовало, но однажды после обеда, когда я приехал в дом за приказаниями относительно погрузки гурта скота, я слышу словно выстрел из пугача. Я жду у решетки, не желая вмешиваться в частные дела. Немного погодя выходит Лука и отдает приказание своим мексиканским работникам; они идут и выводят несколько экипажей, и вскоре после того выходит сестра или что-то в этом роде и кто-то из мужчин. Мужчины несут человека в галлифэ, говорившего особым голосом, и кладут его в одну из повозок. А затем видно было, что все они направляются по дороге домой.
– Бед, – говорит мне Лука, – прошу вас приодеться и поехать со мной в Сан-Антонио.
– Дайте мне надеть мои мексиканские шпоры, и я готов ехать.
По-видимому, одна из сестер, или в этом роде, осталась на ранчо с миссис Семмерс и ребенком. Мы едем в Эясиналь, там попадаем на международный поезд и прибываем в Сан-Антонио утром. После завтрака Лука ведет меня прямо в контору адвоката. Они уходят в комнату, разговаривают там и приходят обратно.
– Никаких хлопот не будет, мистер Семмерс, – говорит адвокат. – Я сегодня же ознакомлю судью Симменса с фактами, и дело это будет проведено возможно скорее. В этом штате царят закон и порядок, такой же быстрый и верный, как где-либо в стране.
– Я подожду решения, если это не затянется долее получаса, – говорит Лука.
– Ну, ну, – говорит адвокат. – Закон должен идти своим течением. Возвращайтесь послезавтра к половине девятого.
К этому времени мы с Лукой являемся, и адвокат вручает ему сложенный документ. Лука выписывает ему чек.
На тротуаре Лука протягивает мне бумагу, кладет на нее палец величиной с щеколду у кухонной двери и говорит:
– Решение об окончательном разводе с присуждением ребенка!
– Не касаясь многого случившегося, чего я не знаю, – говорю я, – все это мне кажется похожим на шантаж. Что же, адвокат не мог разве уладить это?
– Бед, – говорит он с огорченным видом, – ребенок единственное, что мне осталось в жизни. Она может уходить, но мальчик – мой! Вы подумайте: я опекун моему ребенку.
– Хорошо, – говорю я. – Если это закон, подчинимся ему. Но я думаю, что судья Симменс мог бы применить в нашем случае известную милость или какой для этого употребляется легальный термин.
Видите ли, я не был особенно обольщен желанием иметь детей на ранчо, за исключением того сорта, которые сами кормятся и продаются по столько-то за штуку на копытах. Но Лука был заражен тем видом родительской дури, которую я никогда не мог понять. Все время, пока мы ехали со станции обратно на ранчо, он продолжал вынимать решение суда из кармана, класть палец на его изнанку и читать заглавие.
– Опека над ребенком, Бед – говорит он. – Не забудь: опека над ребенком.
Но когда мы достигли ранчо, мы увидели, что наш судебный декрет предупрежден и решение отменено. Миссис Семмерс и ребенок исчезли. Нам рассказали, что через час после того, как я с Лукой отправились в Сан-Антонио, она велела запрягать и отправилась на ближайшую станцию со своими чемоданами и ребенком.
Лука еще раз вытаскивает свой декрет и читает о своих правах.
– Ведь невозможно, Бед, чтобы это так осталось. Это противоречит закону и порядку. Ведь здесь же написано ясно, как цент! Опека над ребенком. Ребенок присужден мне!
– По человечеству, – говорю я, – следовало бы прихлопнуть их обоих… я говорю о ребенке.
– Судья Симменс, – продолжал Лука, – вернейший слуга закона. Она не имела права взять мальчика. Он принадлежит мне по статутам, принятым и утвержденным в штате Техас.
– Но он изъят из юрисдикции мирских приказов, – говорю я, – неземными статутами женского пристрастия. Будем восхвалять Творца и благодарить Его даже за малые милости… – начал я, но вдруг вижу, что Лука не слушает меня. Несмотря на усталость, он требует свежую лошадь и отправляется обратно на станцию.
Он возвращается через две недели и мало говорит.
– Мы не могли найти след, – заявляет он, – но мы телеграфировали столько, сколько могла вынести проволока. Мы пригласили для розысков этих городских ищеек, которые называются детективами. Пока же, Бед, – говорит он, – мы отправимся объезжать скот на Врэж-Крик и будем ждать действия закона.
После этого мы никогда больше не намекали на это происшествие. Пропускаю многое, что случилось за следующие двенадцать лет. Лука был назначен шерифом графства Мохада. Он сделал меня своим помощником по канцелярии. Не создавайте в уме своем ложных представлений, будто заведующий канцелярией только ведет счета и снимает копии с писем прессом для выжимки яблок. В то время его делом было охранять окна сзади, чтобы никто не мог подойти к шерифу с тыла. Тогда у меня были качества, нужные для этого дела. В Мохадской провинции царили закон и порядок: были школьные учебники и виски сколько угодно. А правительство строило собственные военные корабли и не собирало деньги для их постройки со школьников. И, как я говорил, царили закон и порядок, вместо всяких указов и запрещений, которые уродуют наш штат в настоящее время. Наша канцелярия помещалась в Бильдаде, главном городе графства, оттуда мы выезжали в редких случаях для усмирения беспорядков и волнений, случавшихся в районе нашей юрисдикции.
Пропуская многое, что случилось, пока мы с Лукой шерифствовали, я хочу дать вам представление о том, как в прежние времена почитался закон. Лука был одним из наиболее добросовестных людей в мире. Он никогда не был особенно хорошо знаком с писаным законом, но носил внедренными в свой организм природные зачатки справедливости и милосердия. Если какой-нибудь уважаемый гражданин, бывало, застрелит мексиканца или задержит поезд и очистит сейф в служебном вагоне, и если Луке удается поймать его, он делает виновному такое внушение и так выругает его, что тот вряд ли когда-нибудь повторит свой поступок. Но пусть только кто-нибудь украдет лошадь, – если только это не испанский пони, – или разрежет проволочную ограду, или иным образом нарушит мир и достоинство провинции Мохада, мы с Лукой напустимся на него с habeas corpus, [92][92]
Закон о неприкосновенности ( лат.).
[Закрыть]бездымным порохом и всеми современными изобретениями справедливости и формальности. Мы, конечно, держали свою провинцию на базисе законности. Я знавал людей восточной породы в примятых фуражечках и ботинках на пуговицах, которые выходили в Вильдаде из поезда и ели сандвичи на железнодорожной станции, не будучи застреленными или хотя бы связанными и утащенными гражданами нашего города.
У Луки были собственные понятия о законности и справедливости. Он как бы готовил меня в преемники по должности, всегда думая о том времени, когда оставит шерифство. Ему хотелось выстроить себе желтый дом с решеткой под портиком и хотелось еще, чтобы куры рылись у него во дворе. Самым главным для него был двор.
– Я устал от далей, горизонтов, территорий, расстояний и тому подобного, – говорил Лука. – Я хочу разумного дела. Мне нужен двор с решеткой вокруг, куда можно войти и в котором можно сидеть после ужина и слушать крик козодоя.