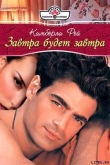Текст книги "Мишн-Флэтс"
Автор книги: Уильям Лэндей
Жанры:
Триллеры
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В следующие восемнадцать лет – вплоть до смерти матери – отец ни грамма спиртного в рот не брал. Репутация человека дикого нрава сохранилась. Трезвый, он тоже был не сахар. Правда, со временем люди привыкли объяснять его припадки, когда он мог на кого-то накричать или кого-то даже поколотить, точно так же, как он сам, – то есть человек сам напросился на крик или на рукоприкладство. «Нельзя было не поучить».
Я засунул старую фотографию отца обратно в раму зеркала Давняя история. Что ее вспоминать – было и быльем поросло...
Перед тем как выйти из дома, я достал из шкафа чистую рубашку для отца и повесил ее на видном месте.
Когда я уходил, он все еще доедал яичницу.
Озеро Маттаквисетт по форме очень похоже на песочные часы и тянется с севера на юг на добрую милю. Южная часть поменьше, но именно ее имеет в виду большинство людей, говоря об этом озере.
Неподалеку от южного конца Маттаквисетта находится бывший «рыбачий домик» нью-йоркской семьи Уитни. Это летний огромный особняк в псевдодеревенском стиле – любящие природу манхэттенцы определенного класса строили особняки в таком стиле перед Великой депрессией. Теперь этот домина принадлежит совместно нескольким семьям. Он стоит на холме и, видный отовсюду, царит над местностью.
К озеру можно спуститься по тропе через густой тенистый сосновый лес – примерно четверть мили.
«Рыбачий домик» наполняется жизнью исключительно в августе, когда меньше всего комаров.
По берегу раскиданы другие летние домики, но это действительно домики и не идут ни в какое сравнение с бывшей летней резиденцией семьи Уитни. Будто стесняясь своей относительной невзрачности, они прячутся за деревьями и от воды практически не видны.
Северная часть озера не обустроена и не застроена и поэтому непрестижна. Там только бунгало – коробки-избушки на курьих бетонных ножках. В летние месяцы – с Дня поминовения до Дня труда – эти бунгало сдают понедельно рабочим семьям из Портленда или Бостона. Как у нас говорят, «людям не отсюда». Однако на приезжих грех жаловаться – наши края процветают исключительно за счет туристов и отдыхающих.
Я старался уделять одинаковое внимание обеим частям озера.
Не потому что у меня какие-то особые симпатии к рабочему классу; просто бунгало для мелких воришек привлекательнее, чем солидные особняки на южном конце озера, где и собаки, и охранные системы.
К тому же подростки любили устраивать там пикники – вне летнего сезона, когда домики стояли пустые. Мальчишкам ничего не стоит из озорства забраться в бунгало, на двери которого самый простенький замок, иногда навесной. С таким замком можно справиться чуть ли не любой железкой, которая валяется под ногами. Поэтому я взял за правило раз в несколько недель навещать северную часть озера. Если находил взлом – оповещал владельцев, чтобы они заблаговременно починили пострадавшие двери или оконные рамы. Иногда мне приходилось прибирать следы бурной вечеринки – собирать с пола бунгало бутылки, остатки «косяков» и использованные презервативы.
В четвертом бунгало, которое я проверил в то утро, я обнаружил труп.
Я чуть было не проехал мимо этого домика – от дороги мне были видны дверь и окна. И издалека казалось, что все в порядке: окна закрыты ставнями, дверь не повреждена. Но я решил удостовериться.
Запах я почувствовал, лишь немного отойдя от машины. Чем ближе я подходил к дому, тем нестерпимей становилась вонь – узнаваемый резкий трупный запах. Мне он был знаком по раздавленным оленям на шоссе номер два или на Пост-роуд. И тогда я решил, что это какой-то большой зверь сдох в лесу поблизости – олень или даже лось. Но когда я подошел вплотную к домику, в происхождении запаха я уже не сомневался. Он шел из бунгало. Олень или лось не могли умереть в постели.
Я вернулся к машине, взял ломик и взломал замок на двери бунгало.
Внутри жужжало несметное количество мух.
Вонь была убийственная. Приходилось сдерживать рвотный рефлекс. У меня не оказалось с собой даже платка, чтобы прикрыть нос, как это делают детективы в фильмах. Поэтому я зажал нос локтем и, почти теряя сознание, стал шарить лучом фонарика по комнате.
3
Мужчина в шортах и тенниске цвета хаки лежал на боку. Голые раздутые ноги были цвета яичной скорлупы. Там, где кожа касалась пола, она имела мраморно-розовый цвет. Тенниска задралась, виднелся голый раздутый живот. Дорожка рыжих волос бежала к пупку. Левый глаз смотрел в мою сторону, правый был выбит – на его месте запекшаяся кровь. Из проломленной головы торчали куски чего-то серого. На полу вокруг головы засох широкий полумесяц крови; в луче фонарика кровь казалась смолой. Возле головы лежала левая часть сломанных очков.
Стены начинали кружиться.
Я по-прежнему дышал сквозь рукав и упрямо продолжал осмотр.
В комнате пусто. Гардероб распахнут. Матрацы на кровати скатаны и связаны бечевкой.
Я прошел немного вперед. Возле трупа валялся бумажник. Рядом – скомканная пачка мелких купюр. Долларов пятьдесят. Я наклонился и кончиком шариковой ручки исхитрился открыть бумажник. В нем была пятиконечная золотая звезда со словами:
РОБЕРТ М. ДАНЦИГЕР,
ПОМОЩНИК ОКРУЖНОГО ПРОКУРОРА, ОКРУГ СУССЕКС.
Расхожее мнение: мы пресыщены убийствами на кино– и телеэкране и поэтому в нас выработано равнодушие к насилию.
Кровавые преступления и членовредительство в реальной жизни нас, дескать, больше не шокируют, ибо мы видели похожее десять тысяч раз в тысяче фильмов – в псевдореальности искусства или «искусства».
Как бы не так!
На самом деле привычка к насилию на экране только обостряет наше неприятие насилия в реальной жизни. Пусть в фильмах разрываются мешочки с красной краской и актеры предельно реалистично умирают и потом лежат, затаив дыхание и вытаращив глаза, изображая трупы, – весь этот кропотливый реализм никак не смягчает шока при встрече нос к носу с некиношным насилием.
Когда мертвое тело убитого человека – вот оно, рядом, когда бесчувственная неподвижная масса – здесь, перед тобой, а не на экране, – тогда вся исконная противоестественность смерти вновь ощущается со всей первобытной остротой, как и до появления «движущихся картинок».
Труп Роберта Данцигера привел меня в состояние ужаса.
Он потряс все мои чувства разом.
Эта отсвечивающая в свете фонаря дыра в черепе, этот обезображенный торс, эти краски смерти на голой коже, эти раздутые ноги!
И чудовищный запах разложения, который всего тебя окутывает, как едкий дым от костра.
Выскочив из домика, я долго бежал по лесу, прежде чем вонь стала немного меньше.
Лишь тогда я дал себе волю, и меня наконец вырвало.
Однако никакого облегчения.
Голова кружилась, колени ходили ходуном. Я лег навзничь на сосновую хвою и бессильно закрыл глаза.
Дальнейший день – сплошная суета.
Съехались все помощники окружного прокурора не только из Портленда, но даже из Аугусты.
Главным следователем – госуполномоченным по расследованию – был назначен Грег Крейвиш.
Этот Крейвиш начинал раскручиваться как политик и в обычной жизни выглядел так, словно он постоянно позирует перед камерой, – вроде тех жизнерадостных кукол, которые ведут телешоу. Даже «гусиные лапки» у висков казались частью телевизионного макияжа – средство придать побольше солидности чересчур смазливому лицу.
Крейвиш сообщил мне, что расследование будет вести окружная прокуратура – убийства в ее юрисдикции.
– Стандартная процедура, – объяснил господин Шоумен, легонько потрепав меня по плечу. И затем широко улыбнулся для невидимой телекамеры, изображая великодушие. – Однако нам, разумеется, понадобится ваша помощь, шериф.
Так что я – сбоку припека, только в сторонке стоял да наблюдал.
Полиция штата прислала команду специалистов, которые исследовали домик и окрестности с тщательностью археологов – метр за метром, а где и сантиметр за сантиметром. Господин Шоумен заглянул несколько раз в домик, однако большую часть времени со скучающе-усталым видом околачивался возле своей машины.
Спустя некоторое время меня попросили блокировать движение на дальних подъездах к месту преступления. Отличный предлог – и без того было очевидно, что от меня хотят одного: чтобы я не путался под ногами.
Я послал своего офицера на север – перекрыть движение в миле от домика, а сам подался патрулировать на юг.
Время от времени я пропускал все новые машины: еще полицейские, еще специалисты, еще шоумены и, наконец, труповозка.
Все дружелюбно махали руками, проезжая мимо.
Я махал в ответ, а затем возвращался к своему главному делу: плевал на салфетки и счищал с ботинок следы блевотины.
Тошнота постепенно прошла, но сменилась мучительной головной болью.
Мало-помалу безделье мне надоело.
Я ощутил – надо действовать.
У меня был выбор: или сложить лапки и предоставить расследование пришлым ребятам, которые уже вовсю работают, или каким-то образом включить себя в происходящее.
Первый вариант – «моя хата с краю» – меня никак не устраивал.
Хоть и поневоле, но я в это дело вовлечен.
И грош цена шерифу, который готов быть сторонним наблюдателем, когда в его городе совершено убийство!
Было уже хорошо за полдень, когда я вернулся к роковому бунгало – с твердым намерением занять мое законное место в расследовании.
Крейвиш и его команда уже упаковывали свои причиндалы и грузили их в багажники автофургонов. Они насобирали не один мешок вещдоков и сделали кучу фотографий – так что ребята будут долго при деле.
Домик несколько раз обвили желтой полосатой лентой – предупреждение, что тут место преступления и работает полиция. Не хватало только бантика, чтобы довершить сходство с большущим рождественским подарком.
На солидном расстоянии от бунгало поставили шесты и соединили их той же желтой лентой – внешняя граница, которую посторонним переступать не позволено.
Однако я вошел в запретную зону без проблем.
Для этих надутых индюков я был вроде как невидимка.
Труп, еще не упакованный в мешок, лежал на носилках, временно всеми забытый. Под открытым небом вонь не так шибала в нос.
Меня как магнитом тянуло к этому страшному предмету.
Голые раздутые безволосые члены. И лицо, предельно обезображенное смертельной раной.
Труп казался не человеческим трупом, а мертвым телом инопланетянина. Словно гигантская неведомая улитка, силой извлеченная из раковины, – голая, беззащитная против обжигающего солнца.
Пока я зачарованно смотрел в единственный глаз трупа, Крейвиш и еще один мужчина подошли к носилкам. Второго я видел впервые. Небольшого росточка, но в глазах бойцовский задор – этакий отчаянный петушок. Крейвиш представил петушка: Эдмунд Керт из бостонского отдела по расследованию убийств.
– Из самого Бостона? – удивился я. – Каким ветром?
Петушок из Бостона уставился на меня, немного сбочив голову.
Похоже, в его глазах я был типичным балдой из глубинки.
Скажу сразу, этот Эд Керт большого доверия не вызывал, даже по первому впечатлению. Сразу складывалось мнение: вот человек, которого лучше обходить десятой дорогой. Угловатое свирепое лицо, на котором царил узкий длинный нос и горели два темных глаза. Кожа изъедена шрамами от прыщей. Густые брови придавали лицу Керта постоянный насупленно-хмурый вид, как будто ему только что дали коленкой под зад и он намерен разобраться с обидчиком.
– Убитый был помощником окружного прокурора в Бостоне, – пояснил Крейвиш. При этом он стрельнул глазами в сторону Керта: видите, с какой тупой публикой мне приходится иметь дело!
– Ах, он из Бостона, – сказал я. – Ну-ну.
Детектив Эдмунд Керт склонился над трупом, исследуя его тем же неподвижным мрачным взглядом, которым только что прожигал меня.
Он натянул хирургические перчатки и потыкал труп пальцем в разных местах – словно разбудить его хотел.
Я внимательно наблюдал за лицом детектива, когда он вплотную приблизился к разлагающемуся телу Боба Данцигера – почти что носом его коснулся. Я ожидал какой-то естественной реакции: трудно было не отпрянуть, хотя бы из-за нестерпимой вони. Но ни единый мускул не дрогнул на лице Керта.
Если бы я видел только его физиономию, ни за что бы не понял, чем он занят: ищет карту в бардачке своего автомобиля или разглядывает мертвый глаз разлагающегося трупа с расстояния в одну ладошку.
– Возможно, именно поэтому его и убили, – сказал я, пытаясь проявить немного смекалки и сломать образ провинциального дурачка. – Потому, что он был помощником прокурора.
Керт никак не отреагировал.
Но я не сробел и гнул свое:
– Конечно, если его убили. Однако нельзя и самоубийство исключить.
Ага, это мысль! – обрадовался я собственной смекалке.
Из полицейской учебной программы я смутно помнил, что самоубийцы, которые пользуются огнестрельным оружием, чаще всего выбирают одно из трех мест на голове: стреляют в висок, в небо или между глаз.
То, что это могло быть самоубийством, осенило меня только что и показалось замечательным откровением, хотя я обронил это гениальное соображение рассчитанно-безразличным тоном. Дескать, знай наших! Я тоже не лыком шит и собаку съел в расследовании убийств!
– Вероятно, рука у него дрогнула, и пуля прошла через глаз.
Не отрывая взгляда от своей работы, Керт сказал:
– Нет, офицер, он не застрелился.
– Я, собственно говоря, шериф. Шериф Трумэн.
– Шериф Трумэн, на месте преступление нет оружия.
– Ах, оружия нет...
Я чувствовал, как у меня горят уши.
Крейвиш растянул губы в телевизионной иронической улыбке.
– Может, он засунул пулю в глаз рукой, – сказал я.
– Не исключено, – на полном серьезе отозвался Керт.
– Я пошутил, – поспешно сказал я.
Тут он наконец поднял на меня глаза и смерил таким взглядом, будто я был диковинный деревенский пенек. Затем вернулся к телу на носилках, словно смотреть на него было приятнее, чем на меня.
Крейвиш кивнул в сторону убитого и спросил:
– Он был как-то связан с этими краями?
– Не могу сказать. Хотя у меня и был короткий разговор с ним...
– Ах вот как! Вы были с ним знакомы?
– Нет, практически нет. Просто перекинулись несколькими словами. Он производил впечатление симпатичного парня. Я бы даже сказал, он мне показался безобидным малым. И такого конца для него я никак не ожидал...
– О чем же вы беседовали?
– Да так, ни о чем особенном, – сказал я. – О том о сем. Тут полно проезжающей публики. Я с туристами не то чтобы много общаюсь. – Я кивнул в сторону холмов вокруг озера. Деревья стояли во всей осенней красе. – Они приезжают полюбоваться листвой.
– По-вашему, он приехал сюда просто отдохнуть?
– Думаю, да. А нашел вечный покой... Ирония судьбы.
Мы оба печально покачали головами.
Я действительно помнил встречу с Бобом Данцигером. У него была милая застенчивая улыбка, которая пряталась под широкими усами. Мы встретились на тротуаре неподалеку от полицейского участка. «Привет, – сказал он. – Вы, должно быть, шериф Трумэн?»
Я повернулся к Крейвишу и начал решительным тоном:
– Вы знаете, мне бы хотелось участвовать...
Но в этот момент запиликал сотовый телефон у него на поясе.
Крейвиш приложил телефон к уху и высоко поднял палец левой руки: тихо!
– Грег Крейвиш слушает. – Палец так и остался вознесенным в воздух, пока Крейвиш говорил монотонным голосом: – Да. Еще не знаю. Хорошо. Отлично. Всего доброго.
Когда он закончил с телефоном, я вернулся к прерванному разговору:
– Я бы хотел принять участие в расследовании.
– Разумеется. Вы нашли тело. Вы важный свидетель.
– Свидетель – это конечно... Однако мне бы хотелось не только дорогу перекрывать.
– Шериф, не допустить к месту преступления посторонних – важный элемент расследования. Если в суде вылезет, что кто-то мог – хотя бы теоретически – подбросить улики на место преступления, тогда все расследование псу под хвост.
Крейвиш говорил важным тоном и смотрел на меня так, словно я уже был виноват в том, что место преступления оказалось «загрязненным».
– Послушайте, этот парень погиб в моем городе, – сказал я. – К тому же я с ним однажды беседовал. Словом, мне бы хотелось быть в гуще событий. Что бы вы ни говорили, но в этих краях я главный.
Крейвиш театрально кивнул: дескать, понимаю-понимаю.
– О'кей. Добро пожаловать в гущу событий.
Однако выражение его лица говорило о другом: конечно, вы тут шериф и тут мой избирательный округ и не дело, если этот пришлый народ оттеснит вас в сторонку; поэтому в моих интересах ободрить вас и разрешить вам какое-то время путаться у нас под ногами.
Керт наконец распрямился.
– Офицер, – обратился он ко мне, благополучно позабыв про «шерифа Трумэна», – пресса уже в курсе?
– Пресса?
– Ну да, пресса – газеты, телевидение.
– Спасибо за разъяснение. Сам знаю, что такое пресса. Дело в том, что у нас тут, считай, никакой прессы нету. Есть газетка, но так – на общественных началах, про наши городские дела. Ее выпускает Дэвид Корнуэлл в одиночку. В основном информация про школьные дела да погода. Остальное Дэвид придумывает.
– Ничего этому Дэвиду не сообщайте, – приказал Керт.
– Что-то сказать ему придется. В городке такого размера кота в мешке не утаишь.
– Понятно. Но тогда хотя бы без деталей. Или возьмите с него слово помалкивать. Он готов на услугу?
– Не знаю. Никогда ни о чем не просил.
– Так попросите.
На том разговор с Кертом и закончился – большего я не удостоился. Он содрал перчатки с рук, бросил их на носилки и зашагал прочь, никак не откомментировав свои выводы из осмотра.
– Мистер Керт! – окликнул я его.
Он остановился.
Я глупо мигал и молчал. На языке вертелось ядовитое: «Шериф Трумэн, а не офицер!» Но сказать это вслух я не решился.
– Всего доброго, мистер Керт.
Керт, в свою очередь, пережил момент внутреннего колебания.
Словно взвешивал, наплевать на меня или тут же вырвать мне сердце и растоптать его ногами.
Кончилось тем, что он просто кивнул и пошел восвояси.
– Всего доброго, шериф Трумэн, – бормотнул я себе под нос, когда детектив Эдмунд Керт был уже далеко и не мог меня слышать.
Через несколько минут вся кавалькада машин пришла в движение и скрылась из виду.
Я остался один напротив домика.
Вокруг воцарилась привычная тишина, только гагары покрикивали на озере.
Из леса вдруг появился Дик Жину. Очевидно, он давно ждал за кустами отъезда чужаков.
Дик остановился рядом со мной и, задумчиво роя правой ногой сосновые иголки, спросил:
– Ну и что будем делать теперь, шериф?
– Понятия не имею, Дик.
4
Керт заблуждался насчет секретности.
Немыслимо утаить такое событие в провинциальном городке.
Никаких секретов в Версале, штат Мэн. Информация мигом разошлась по городу, как сотрясение по паутине, когда в нее попадает муха.
Подробности о найденном мертвом теле стали известны уже в тот же день, а через сутки каждый версалец имел точное представление, кого и в каком состоянии нашли в бунгало.
К счастью, в наших краях народ не пугливый, и убийство Боба Данцигера возбудило больше любопытства, чем страха.
В «Сове» и в заведении Мак-Карона только об этом и говорили. На следующее утро в «Сове» ко мне подсел Джимми Лоунс и объявил, что если мне понадобится помощь, то он немного разбирается в оружии. Бобби Берк слезно просился в бунгало – поглядеть на место преступления. Словом, все лопались от любопытства.
– Как он выглядел – труп? – донимала меня Дайан.
Мы сидели за покером в участке – таким образом мои друзья обычно помогали мне коротать скучные воскресные ночные дежурства. Дайан в этих случаях была самым серьезным игроком. Она курила «Мерите», прикуривая одну сигарету от другой, играла предельно осторожно, без риска и почти никогда не проигрывала, когда на кону были большие деньги. Но сегодня Дайан играла рассеянно. Ее, как всех, снедало любопытство.
– Нет, правда, как он выглядел?
– Труп как труп.
– Наверное, мерзопакость ужасная, – сказал Джимми Лоунс, изумленно почесывая затылок.
– Мне запрещено говорить на эту тему.
– Что значит запрещено? – возмутилась Дайан. – Весь город только об этом и говорит! А ты помалкиваешь!
– Запрещено – значит запрещено. Меня просили не трепаться.
– О, Бен, не будь таким занудой!
– Послушайте, мы играем или что?
Разумеется, мои друзья плевали на покер, однако бросить партию на середине – дело неслыханное, поэтому они ворчать ворчали, но играть продолжали.
– Могу поспорить, тело было как деревяшка – ни согнуть, ни выпрямить! – сказал через некоторое время Джимми Лоунс.
– Джимми, ты опять за свое! Тема закрыта.
– А я ничего не спрашиваю. Просто размышляю вслух: тело, видать, было как деревяшка – ни согнуть, ни выпрямить!
– А если бы и так – откуда мне знать. Я к нему не прикасался. – Сдавая карты, я чувствовал на себе всеобщее пристальное внимание. – Джимми, твоя ставка.
– Он вонял?
– Твоя ставка.
Джимми объявил пас. За ним остальные. Они практически и не заглянули в свои карты.
– Хорошо, сдающий ставит два бакса. – Я положил на стол два жетона.
– Ну ты даешь! Не можешь даже сказать, вонял труп или нет?
– Ладно, Дайан, твоя взяла. Вонял.
– Ага! А как вонял?
– Тебе что – в самом деле разложить вонь по полочкам?
Терпение Дайан лопнуло. Она бросила карты на стол.
– Валяй, я ко всему готова.
– Я вам одно скажу, – объявил Дик. – Начальник за всю свою службу не расследовал ни одного убийства.
Мой отец вопреки своей воле ушел на пенсию в 1995 году, но по сию пору, говоря с придыханием Начальник, версальцы имеют в виду не меня, а моего отца.
– Дик, Начальник за всю свою службу не расследовал ни единого убийства только потому, что ни единого убийства не произошло. Поэтому бессмысленно делать из меня героя.
– А я и не делаю из тебя героя, Бен. Я просто констатировал: Начальник за всю свою службу не расследовал ни одного убийства.
– Джимми, если хочешь играть дальше – ставь два доллара.
– И что ты намерен делать? – не унималась Дайан.
– Подождем, к каким выводам придет прокурор на основе того, что нашли в бунгало.
– Ты намерен просто ждать сложа руки? Ты что – рехнулся?
– Бен, все знают: большинство убийств разгадывают в первые двадцать четыре часа – или никогда. Это факт.
Типичное рассуждение Боба Берка – его фирменное ни на чем не основанное обобщение.
– Послушай, мы тут не в следопытов играем. Если я примусь галопировать по округе и расследовать убийство самостоятельно, меня по головке не погладят. Существует закон и законом определенные процедуры. Это юрисдикция окружного прокурора. Так что – извини-подвинься. Мое дело – сторона.
– Но случилось-то все в твоем районе! – настаивал Бобби.
– К тому же, Бен, именно ты нашел тело!
– Это несущественно. Не моя юрисдикция.
– А вот Начальник – тот бы лапки не сложил! – ввинтил Дик. – Ты, кстати, можешь попросить его о помощи – в качестве... как это называется... в качестве консультанта!
Я сердито закатил глаза.
– Мне ничья помощь не нужна! К тому же он бы и не согласился работать для меня.
– Будто ты его когда спрашивал!
Я решил увести разговор в сторону.
– Кстати, друзья-приятели, а не знает ли кто из вас, где мой отец мог раздобыть бутылку пива?
– Клод пил пиво? Дела!
– Да, большая такая бутылка. Откуда она у него?
– Да откуда угодно. Велика невидаль – пиво!
– Тут речь не просто о пиве. Если узнаете случайно, кто ему продал бутылку пива, – дайте мне знать.
– И что ты сделаешь? Арестуешь человека за то, что он продал старику бутылку пива?
– Просто переговорю с глазу на глаз.
– Начальник был молоток, – сказал Дик, возвращая нас к более привычному образу моего отца как могучего полицейского, а не ворчливого старика. – Он бы этих молодых да ранних юристиков не послушался. Нет, сэр, и не мечтайте! Хотел бы я посмотреть, как один из этих желторотых говорит твоему отцу: «Это не ваша юрисдикция!» Твой отец показал бы ему, где раки зимуют!
– Дик, никуда бы он не делся – послушался бы как миленький. Точно так же, как я.
– Ну-ну, – сказала Дайан, – а вот твоя мать – та бы никогда не пошла на попятную. – Она сделала затяжку и со смаком выпустила дым из рта. – Чтобы она да послушалась какого-то там юристика? Она сроду никого не слушалась!
Это был чреватый последствиями момент, и все четверо уставились на меня в ожидании моей реакции.
В те несколько недель, что прошли со смерти матери, я рядился в тогу стоицизма, которая пристала настоящему янки. Моя скорбь была тем горше, что в ней был привкус вины и стыда за свое былое поведение – привкус вины и стыда куда более сильный, чем у рядового сына после смерти матери.
К моему собственному удивлению, внезапное упоминание о матери не вызвало у меня бури чувств. Видно, острота скорби притупилась и перешла в тихую печаль.
И Дайан совершенно права: если бы Крейвиш, этот телевизионный клоун, посмел указать Энн Трумэн ее место, как он проделал со мной...
– Наглец, который попробовал бы командовать моей матерью, живо получил бы коленкой под зад – и весь разговор, – сказал я.
Вот вам образчик того, какой была моя мать.
Это было примерно в 1977 году, ранним сырым утром в самом начале весны. Сидя на кухне в то утро, ты чувствовал тьму за окном, ноздрями ощущал дождь и грязь за пределами уютного пространства.
Мать читала книгу в толстом переплете, одетая уже по-дневному. Волосы собраны сзади в аккуратный пучок, только дырочки в ушах еще не закрыты серьгами. Я тоже сидел за столом. Передо мной – тогдашний стандартный завтрак: хлопья и стакан молока. То, что молоко в стакане, – компромисс с матерью; я терпеть не могу смешивать хлопья с кипяченым молоком в миске: получается неприятная масса, поверх которой плавают отвратительные пенки. Горячий спор на эту тему произошел всего несколько дней назад, и вид хлопьев и стакана с молоком вызывает у обоих некоторое внутреннее напряжение. Я бы с удовольствием показал матери свою лояльность и разом покончил с этой мукой – выпил бы залпом противное молоко с мерзкими пенками, но... но с души воротит. Не лезет в меня это молоко!
– Ма, ты что читаешь?
– Книгу.
– Какую?
– Взрослую.
– А как называется?
Она молча показала обложку.
– Тебе нравится?
– Да, Бен.
– Почему нравится?
– Потому что я получаю знания.
– Какие?
– Это историческая книга. Я узнаю больше о прошлом.
– Зачем?
– Что значит – зачем?
– Зачем тебе знать про прошлое?
– Чтобы извлекать уроки и быть лучше.
– Быть лучше кого?
Она немного удивленно посмотрела на меня. Голубые глаза, гусиные лапки улыбки у глаз.
– Не лучше кого-либо, а просто – лучше.
У дома остановилась машина. Это отец. Ночное дежурство вообще-то с двенадцати до восьми, но он всегда возвращается раньше.
Перед тем как войти в дом, отец громко откашлялся на крыльце; вошел, молча кивнул мне и матери и сел за стол.
Я вытаращился на него.
Вот это да!
Я тут же быстро покосился на мать: ты видишь? Как, по-твоему, он знает?
В густых каштановых волосах отца была белая полоска! Прямо над лбом – словно след от детской присыпки.
– Папа, у тебя...
– Бен! – Мать посмотрела на меня так строго, что я мгновенно осекся.
– Что ты хотел сказать, Бен? – спросил отец.
– Да так, ничего особенного...
Мать сидела бледная-бледная. Губы сжаты в едва различимую полоску.
Отец поставил на стол коробку с пончиками из городской кондитерской «Ханни дип». На коробке был рисунок – горшочек, через край которого струится золотистый мед. Над горшочком парил пончик, с которого капал мед. От одной картинки слюнки текли.
– Угощайтесь, – сказал отец. – Твои любимые, Бен. Из «Ханни дип».
– Спасибо, не хочу, – сказала мать.
– Да ты что, Энн! С нескольких пончиков не растолстеешь.
– Спасибо, не хочу, – повторила мать, и в ее голосе чувствовалась ярость от того, что отец посмел принести эти пончики в дом.
Я выбрал пончик с шоколадной глазурью, чем вызвал одобрение отца.
Он ласково взял мой подбородок в свою лапищу и легонько потряс его. Его пальцы пахли диковинно: резкий запах хлорки. Краем глаза я заметил, что и манжеты его сорочки в той же пудре.
– Молодчина. Пончик – дело недурное.
– Не прикасайся к мальчику, Клод!
– Не прикасаться к моему сыну? Это что еще такое?
Ее голубые глаза блестели как сталь из-под полуприкрытых век.
– Бен, забирай пончик – и иди к себе.
– Но я еще не...
– Бен!!!
– А как же хлопья?
Отец смиренно промолвил:
– Иди, Бен, иди.
Моя мать была женщиной миниатюрной и ростом чуть выше полутора метров. Однако отец, здоровенный детина, подчинялся ей беспрекословно.
Ему, похоже, даже нравилось подчиняться ей.
У него на этот случай была любимая шутка: будто мало в мире хлюпиков, ей подай командовать Клодом Трумэном, человеком-зверем!
Я пошел восвояси. Но далеко не ушел, остался подслушивать в гостиной.
– ...моего дома!
– Что-о?!
– Я сказала, вон из моего дома! Проваливай!
– Энн, что я такого сделал?
– Клод, у тебя в волосах – сахарная пудра. Мы живем в маленьком городке. Ты хочешь выставить меня на всеобщее позорище?
– На... на позорище?
– Клод, не надо! Не надо говорить со мной, словно я дурочка и словно я одна в городе не знаю, что происходит. Я не дурочка, Клод!
В то время я, конечно, не до конца понимал происходящее. Но уже тогда я осознавал всю хрупкость взаимоотношений отца и матери. Задним числом мне кажется, что я понимал это чуть ли не с младенчества.
С одной стороны, взрывной характер отца, его приступы слепой агрессии, его «кобелиные привычки», его непомерное эго.
С другой стороны, сильная личность матери, нетерпимой и бескомпромиссной.
Брак таких двух людей не мог быть стабильным.
Он мог быть счастливым или хотя бы не совсем несчастливым, но прочным – никогда.
Порой отец и мать казались влюбленными молодоженами: по воскресеньям после полудня исчезали наверх, в свою спальню, днями ворковали и нежничали друг с другом, целовались в губы и пересмеивались, то и дело намекая на какие-то пикантные подробности своей супружеской жизни.
В другие времена нельзя было не чувствовать враждебного напряжения между ними.
Узы их брака скрипели и стонали, как канаты лебедки, поднимающей непосильный вес.
Подростком я даже воображал, что настоящая любовь и должна быть такой: не что-то однородное, с постоянным градусом, а что-то вечно мятущееся – между жаром и льдом, между сюсюканьем и криком.
От избытка любопытства я приоткрыл дверь на добрую ладошку, чтобы ничего не пропустить, – и был тут же обнаружен.
Отец увидел мои широко распахнутые глаза, проклятущий пончик в руке – и его настроение переменилось. Он как-то весь обмяк и устыдился. К моему величайшему удивлению, он капитулировал перед матерью сразу и безоговорочно, спросил только:
– Когда я могу вернуться?
– Когда я буду к этому готова.
– Энн, не мучь меня. Скажи прямо – когда?
– Как минимум через неделю. А там посмотрим.
– Энн, куда мне податься-то? Я вымотан.
– Иди в участок. Или еще куда – мне плевать куда. Только не в кондитерскую.
После того как отец ушел, мать взяла злосчастную коробку, и мы пошли в кондитерскую – вернуть пончики.
Отцова подружка Лиз Лофгрен стояла в то утро за прилавком. Мать дождалась момента, когда в магазинчике никого больше не было, и заявила Лиз: держись подальше от шерифа Трумэна, если не хочешь неприятностей.