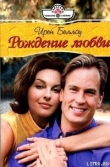Текст книги "Железный бурьян"
Автор книги: Уильям Кеннеди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
– Гуляешь с Финни и этим рыжим хмырем?
– Ты кого назвал хмырем? – сказал Рыжик.
– Я тебя назвал хмырем, хмырь, – сказал Френсис.
– Язык у тебя длинный, – сказал Рыжик.
– А нога еще длинней, и я тебе ее в нос засуну, если будешь тут вонять, когда с тобой по-хорошему.
– Не кипятись, Френсис, – сказал Старый Туфель. – Что у тебя нового? Хорошо выглядишь.
– Богатею, – сказал Френсис. – Шмотки новые, пара бутылок и деньги в кармане.
– Значит, в гору пошел? – сказал Старый Туфель.
– Я-то да, а ты какого черта тут делаешь, если не пьешь, – вот чего не пойму.
– Я же говорю: шел мимо, любопытно стало, как там в старых местах.
– Работаешь?
– Постоянное место в Джерси. Даже квартира есть. И машина. Машина, Френсис. Веришь или нет? У меня – машина! Не новая машина, но хорошая. «Гудзон» двухдверный. Хочешь, прокачу?
– Прокатишь? Меня?
– Ну да, а кого же?
– Сейчас?
– А мне все равно. Я поглядеть зашел. Я тут не ночую. Да и не стал бы тут спать. Клопы за мной в Джерси прибегут.
– Вот этого вот бродягу, – обратился Френсис к Руди, – я от смерти спас на улице. По три, по четыре раза за ночь падал пьяный – голова перевешивала.
– Это правда, – сказал Старый Туфель. – Раз пять или шесть лицо разбивал, как этот. – Он показал на Лося. – Но больше так не делаю. В трех сумасшедших домах побывал. И бросил. Три года как не бродяжничаю, два не пью. Хочешь прокатиться, Френсис? Только условие: без бутылки. Жена унюхает – съест меня.
– И жена есть? – сказал Френсис.
– И машина, и жена, и дом, и работа? – спросил Руди. Он сел на койке, чтобы получше разглядеть этого захватчика.
– Это Руди, – сказал Френсис. – Руди-дуди. Собирается покончить с собой.
– Знакомое чувство, – сказал Старый Туфель. – Как-то утром нам с Френсисом страшно захотелось выпить. Обошли весь город, ничего не добыли, в туфли снег набивается, на улице минус двадцать градусов. В конце концов продали кровь, а деньги пропили. Я потерял сознание. Очнулся – выпить хочется до ужаса, денег нет и взять негде, кровь больше не сдашь – и тут мне захотелось умереть, по-настоящему. Умереть.
– «Где все время лето, – запел Руди, – где растут котлеты на кустах и можно спать на воле».
– Хочешь прокатиться? – спросил его Старый Туфель.
– «В сигаретных деревьях пчелы жужжат, и в фонтанах бьет лимонад», – продолжал Руди. Потом он улыбнулся Туфлю, глотнул вина и снова повалился на койку.
– Человек хочет прокатить, а пассажиров нету, – сказал Френсис. – Выходит, отбой, Туфель, ложись, ногам дай отдых.
– Не-е, я, пожалуй, дальше двину.
– «Стемнело под вечер, и вспыхнули в таборе костры, и бродяга у всех на виду шагал по путям, чтоб на поезд вскочить, сказал он: назад не приду».
– Кончай песни петь, – сказал Рыжик. – Спать не даешь.
– Я ему рыло расквашу, – сказал Френсис и встал.
– Без драк, – сказал Лось. – Она нас вышибет к черту или полицию позовет.
– Значит, это будет день, когда меня вышибли из ночлежки, – сказал Френсис. – Это свинюшник. Я жил в свинюшниках получше, чем этот поганый свинюшник.
– Где я вырос… – начал Старый Туфель.
– Мне начхать, где ты вырос, – сказал Френсис.
– Заткнись. Я из Техаса.
– Тогда скажи город.
– Галвестон.
– Не задирайся, – сказал Френсис, – а то получишь в нюх. Я боевой мужик. Не то что Финни. Двенадцать человек побиваю.
– Ты пьяный, – сказал Старый Туфель.
– Да, – сказал Френсис. – Башка отказывает.
– Давно отказала. Какая муха тебя укусила?
– Ни хера не муха. Муха это ерунда.
– Змея?
– Во, змея. Гремучая. Это я понимаю. Нашел о чем поговорить. Кто хочет говорить о змеях? Лучше о бродягах поговорим. Из-за Элен стал бродягой. Пакость, не хочет домой, не хочет стать человеком.
– «Элен плясала хулу в Гоно-лу-лу», – запел Руди.
– Заткни пасть дурацкую, – сказал ему Френсис.
– Люди меня не любят, – сказал Руди.
– Поёшь, руками махаешь, про Элен говоришь.
– Я собой не владею.
– Про то и говорю, – сказал Френсис.
– Я старался.
– Знаю, но ты не можешь – значит, живи какой есть.
– Мне нравится быть осужденным, – сказал Руди.
– Нет, не будь осужденным, – сказал ему Френсис.
– Мне нравится быть осужденным.
– Никогда не будь осужденным.
– Мне нравится быть осужденным, потому что я делал плохое в жизни.
– Ты никогда не делал плохого, – сказал Френсис.
– Вы, полоумные, заткнитесь там, – заорал Рыжик, сев на койке.
Френсис немедленно встал, побежал по проходу и с разбега смазал Рыжика кулаком по губам.
– Я тебя уделаю, – сказал Френсис.
Рыжик откачнулся от удара и упал с койки. Френсис обежал койку и пнул его в живот. Рыжик застонал, откатился, и Френсис пнул его в бок Рыжик откатился под койку Финни, прячась от ноги. Френсис не оставлял преследования и уже приготовился заехать черным полуботинком без шнурков ему в лицо, но вдруг остановился. Руди, Лось и Старый Туфель стояли и наблюдали.
– Когда я знал Френсиса, он был силен как бык, – сказал Старый Туфель.
– Дом развалил в одиночку, – сказал Френсис. – И шар-баба не понадобилась.
Он взял бутылку с вином и приветственно поднял. Лось улегся на койку, Руди на свою. Старый Туфель сидел на койке возле Френсиса. Рыжик, облизывая разбитую губу, тихо лежал под койкой, на которой храпел Финни. Лица всех знакомых Френсису женщин калейдоскопически сменялись – одно за другим, одно за другим – на трех фигурах в дальнем углу. Троица сидела на стульях с прямыми спинками, озирая всю ткань Френсисовой жизни. Мать вышивала по рисунку «Дом, милый дом», Катрина отмеривала от рулона новую материю, а Элен обрезала махры. Потом все они превратились в Энни.
– Когда мне плюют в лицо – я никому не спущу, а уважать заставлю, это для меня первая забота, – сказал Френсис. – Я буду в аду гореть, если у них есть такое место, но мускулов у меня хватает и крови тоже, и я переживу. Ни один бродяга еще не сказал против Френсиса. Пусть только попробует, черт меня возьми. Все несчастные, гады, все мучаются, не дождутся, когда в рай попадут, бродят под снегом, в пустых домах спят, штаны на них не держатся. Я когда отъеду на тот свет, я хочу тут всех благословить. Френсис никогда никого не обидел.
– Пересмешники будут петь, когда ты умрешь, – сказал Старый Туфель.
– Пускай. Пускай поют. Мне говорят: кончай бродяжить. И я мог. Я хотел, только теперь это все растрепалось, как буксирный канат на канале, туда и сюда, туда и сюда. Когда ты столько раз бит, ты доходишь до мертвой точки. Даже гвоздь. Загнал его – он остановился. Будешь бить дальше – головка отломится.
– Это точно, – сказал Лось.
– «На горе на леденцовой, – запел Руди, – у легавых прыти нет». – Он встал и взмахнул бутылкой, подражая Френсису; потом, раскачиваясь, продолжал петь, громко и не фальшивя: – «У собак клыки из ваты, курочки несут омлет. И товарняки пустые, и всегда сияет солнце. Я хочу на гору эту, где зимы и снега нету, и не сыплется из туч, и с утра до ночи лето на горе на леденцовой».
Старый Туфель встал и собрался уходить.
– Никто не хочет прокатиться? – спросил он.
– Ладно, черт с тобой, – сказал Френсис. – Руди, ты как? Пошли из этого свинюшника. На воздух. Дышать от вони нечем. В бурьяне лучше, чем в этом свинюшнике.
– Пока, друг, – сказал Лось. – Спасибо за вино.
– Это да. И благослови Бог твое колено. Френсиса не согнешь. Не гвоздь.
– Я согласен, – сказал Лось.
– Куда мы едем? – спросил Руди.
– Едем в табор, к моему приятелю в гости. До табора довезешь? – спросил Френсис у Старого Туфля. – На северном краю. Знаешь, где он?
– Нет, тызнаешь.
– Холодно будет, – сказал Руди.
– У них костер, – сказал Френсис. – Лучше холод, чем клоповник.
– «У берега яблочных вод, где синяя птица поет», – запел Руди.
– Во, то самое место, – сказал Френсис.
Машина Старого Туфля ехала на север по бульвару Эри, где прежде тек канал Эри, и Френсис в машине вспоминал Эмметта Догерти: красное с резкими чертами лицо, волнистые седые волосы, крепкий острый нос, придававший ему сходство с Небесным Воином, таким и будет всегда его помнить Френсис – ирландца, который никогда не пил больше чем надо, серьезного, остроумного и владевшего собой человека с высокими целями и неистребимой верой в Бога и в рабочий народ. Френсис сиживал с ним на аспидной ступеньке перед «Тачкой» Железного Джо и слушал его бесконечные рассказы о тех временах, когда он и страна были молоды, когда речные пароходы везли вверх по Гудзону иммигрантов, прибывших морем из Ирландии. Разразилась холера, их снимали с пароходов в Олбани и отправляли по каналу на запад: отцы города потребовали от правительства, чтобы бациллоносных иностранцев содержали вне города.
Эмметта, приплывшего в Нью-Йорк на голодном корабле из Корка, отправили вверх по Гудзону, и в бассейне Олбани он увидел своего брата Оуэна, который махал ему с берега. Оуэн бежал за пароходом до северного шлюза, выкрикивая советы, сообщая семейные новости, и велел ему сойти на берег, как только разрешат, а потом написать, где он, чтобы Оуэн послал ему деньги на дилижанс до Олбани. Но Эмметгу лишь через несколько дней удалось сойти с пакетбота – причем название места он так и не узнал, а местные власти насильно отправили прибывших еще дальше на запад.
В конце концов очутившись в Буффало, Эмметт решил не возвращаться в негостеприимный Олбани и пустился дальше, в Огайо, где стал мостить улицы, а потом строить железные дороги, вместе с ними двигаясь на запад, сделался рабочим вожаком, а потом и руководителем «Клан-на-Гейл» [17]17
«Клан–на–Гейл» или «Объединенное братство» – националистическая организация американских фениев. Существовала во второй половине XIX века.
[Закрыть]и дожил до тех времен, когда ирландцы забрали власть над Олбани. И вдохновленный его рассказами Френсис Фелан бросил камень, который изменил ход жизни людей, даже еще не родившихся.
Это видение пакетбота, плывущего по каналу, и Оуэна, который бежит параллельно по берегу, рассказывая о своих детях, было так же реально для Френсиса – хотя само событие произошло за сорок лет до его рождения, – как и автомобиль Старого Туфля, ехавший по ухабам на север, к тому самому месту, где они расстались. Он чуть не плакал из-за того, как разлучило братьев Догерти проклятое правительство, – ибо также и он был разлучен сейчас с Билли и остальными. И чем? Чем и кем снова разлучен с людьми, едва успев их обрести?
Имя этой силы – если есть у нее имя – не имело значения, но действие ее было сокрушительно. Эмметт Догерти не винил никого в частности – ни холерных инспекторов, ни даже отцов города. Он знал, что большая сила переместила его на Запад и вылепила из него то, чем ему суждено было стать, – и это перемещение, эту лепку понимал сейчас Френсис, ибо постиг бродяжью тягу, которая стала такой важной составляющей его духа. Поэтому Френсис нашел вполне резонным то, что он и Эмметт слиты в одну персону – в героя пьесы, написанной сыном Эмметта, драматургом Эдвардом Догерти: Эдвард (муж Катрины, отец Мартина) изобразил в «Депо», как Эмметт, рассказывая свою историю разлуки и возмужания, сделал Френсиса радикалом, научил опознавать врага и метить камнем. И подобно тому, как реальный Эмметт вернулся с Запада домой героем рабочего движения, беззаконным героем возвращался домой Френсис в пьесе. После того, что сделал его камень. Одно время Френсис верил всему, что было сказано о нем в пьесе Эдварда: что он освободил забастовщиков от богатых нищих, трамвайных хозяев – так же как Эмметт помог распрямиться Падди-землекопу и вылезти из своей канавы в новый век. Драматург увидел в них обоих небесных воинов, вдохновленных социалистическими богами, которые понимали историческую потребность ирландцев в помощи свыше, ибо без нее (так говорит Эмметт, рабочий-вожак – златоуст из пьесы) «как нам избавиться от свиней-тори, подлинных и неукротимых дьяволов всей человеческой истории?»
Камень (разве не он?) вызвал ответный огонь солдат и стал причиной гибели двух зрителей. А без этого, без смерти Гарольда Аллена, забастовка могла продолжаться, потому что из Бруклина всё везли и везли штрейкбрехеров – ирландцев-иммигрантов вроде тех, что были на пакетботе с Эмметтом, и кое-кто из них сразу дезертировал, сообразив, в чем дело, другие же оставались, растерянные, обескураженные, обманутые нанимателями, которые обещали им работу на железной дороге в Филадельфии, а вместо этого подсунули штрейкбрехерство, ужас и даже смерть. Были среди штрейкбрехеров даже забастовщики из других городов, бездушные люди, которые сели здесь в трамваи, схватились за чужую работу, в то время как другие штрейкбрехеры работали вместо них. И все это могло продолжаться, если бы Френсис не бросил первый камень. Он оказался главным героем стачки, родившей героев десятками. И, став героем, всю жизнь винил себя в смерти троих людей, не различая за событиями, произошедшими в тот день, действия сил иных, чем его правая рука. Не мог признать, хотя и знал, что в тот день летели, и тоже не без последствий, другие камни, что солдаты палили по зрителям не столько в отместку за смерть Гарольда Аллена, сколько в предположении своей собственной, ибо открыли огонь не после того, как Френсис метнул камень, а после того, как вся толпа обрушила каменный град на трамвай. И, не в силах увидеть ничего, кроме своего деяния и его непосредственных, как ему казалось, результатов, Френсис бежал в героизм и через писаное слово Эдварда Догерти еще больше взвалил на себя великой героической вины.
Но теперь, когда эти события давно отошли и были глубоко похоронены и подлинная его вина имела к ним так мало отношения, он видел в забастовке просто безумие ирландцев – бедные против бедных, народ, класс, разделившиеся сами в себе. Видел, как Гарольд Аллен пытался уцелеть в тот день и ту ночь, когда на него ополчилась исступленная толпа, – так же, как он сам, убегая в чужие города, старался уцелеть наперекор их враждебности, как всю жизнь старался уцелеть наперекор своим худшим инстинктам. Ибо Френсис понимал теперь, что воюет с самим собой, что сражаются друг с дружкой его разные части, и если ему суждено уцелеть, то не с помощью какого-то социалистического бога, а за счет ясности в мыслях и твердого взгляда в лицо правде; ибо вина, которую он ощущал, не стоила смерти. И ничему она не служила, кроме как ненасытной кровожадности природы. Фокус в том, чтобы выжить, обставить гадов, уцелеть перед толпой, в роковом хаосе, и показать им всем, как может человек наладить жизнь, если возьмется за это.
Бедный Гарольд Аллен.
– Я прощаю сукина сына, – сказал Френсис.
– Это какого? – спросил Старый Туфель.
Вдребезину пьяный Руди лежал на заднем сиденье, держа бутылку с вином и бутылку с виски стоймя на груди открытыми – вопреки приказу Старого Туфля не откупоривать их в машине – и не проливая при этом ни капли.
– Которого я убил. Его звали Алленом.
– Ты убил человека?
– И не одного.
– Случайно, да?
– Нет. В этого я метил – в Аллена. Он хотел отнять у меня работу.
– Значит, поделом.
– Может, да, а может, нет. Может, он не мог иначе.
– Ерунда, – отозвался Старый Туфель. – Все так считают. Хорошие, плохие и сволочи. Грабители, убийцы.
И Френсис умолк, углубившись в еще одну истину, требовавшую усвоения.
Табору было, возможно, семь лет; или три года, или месяц, или несколько дней. Это был шлаковый отвал, погост, беглый город. Он стоял между кустами сумаха и приречными деревьями, уже голыми от раннего мороза. Случайная на земле сыпь из толевых хибарок, сараюшек и разных импровизированных строений, для которых не придумано слов в человеческом языке. Город бытийного транзита и сослагательной оседлости, стойбище тех, для кого передвижение – либо проклятие, либо бессмысленность, либо невозможность. Здесь обитали калеки, потерявшие дом уроженцы города и люди, закончившие путь и осевшие в ожидании следующей катастрофы. Табор, зримое проявление болезни века, площадью примерно в два городских квартала, расположился между рекой и железнодорожными путями, сразу за бывшим трамвайным депо и покинутым зданием – бывшим салуном Железного Джо.
Приятелем Френсиса в таборе был человек шестидесяти с лишним лет по имени Энди; когда-то в товарном вагоне, по дороге в Олбани, он признался Френсису, что прежде звали его Энди Сено-Солома, поскольку лет до двадцати не умел отличить правую руку от левой – задача, которую ему и теперь приходилось порой решать в напряженные моменты. Френсис сразу почувствовал симпатию к Энди и поделился с ним сигаретами и едой – и сразу вспомнил о нем, когда Энни дала ему два сандвича с индюшкой, а Пег сунула солидный кусок сливового пудинга, каковые три предмета, нетронутые и завернутые в пергамент, лежали сейчас в карманах его костюма, сшитого в 1916 году.
Но о том, чтобы поделиться с Энди едой, он всерьез не думал, пока Руди не запел песню о таборе. Вдобавок, при виде собственной быстро кипящей злобы и саморазрушительной заносчивости, отразившихся на Рыжике, он ощутил нечто вроде удушья, и стечение таких обстоятельств побудило его покинуть ночлежку и искать чего-то, что было бы дорого его душе, поскольку сейчас Френсису прежде всего нужна была вера в простые решения. А Энди Сено-Солома – человек, запутавшийся в названии своих рук и тем не менее уцелевший для того, чтобы поселиться в городе бесполезных епитимий и быть за это благодарным, – представлялся Френсису существом, заслуживавшим внимательного изучения. Френсис нашел его без труда, когда машина Старого Туфля остановилась на грунтовой дороге перед табором. Энди дремал возле угасавшего костра. Френсис разбудил его и вручил ему бутылку виски.
– Выпей, друг. Для смазки души.
– Здорово, Френсис. Как поживаешь?
– Переставляю ноги по очереди – авось куда-нибудь придут, – ответил Френсис. – Отель открыт? Привел к тебе парочку бродяг. Вот Старый Туфель говорит, что он больше не бродяга, но это он только говорит. А это Руди-пудель, хороший мужик.
– Здорово, – сказал Энди. – Рассаживайтесь. Как чувствовал, что ты придешь. Костер еще горит, и на небе звезды. Холодновато только в доме. Сейчас включим отопление.
Сели вокруг костра, Энди подбросил прутиков и щепок, и вскоре пламя потянулось к тем высям, где вечно царствует огонь. Пламя вдохнуло жизнь в студеную ночь, и люди грели возле него руки.
За спиной у Энди замаячила фигура; ощутив ее присутствие, он обернулся и пригласил Мака Мичиганца к первобытному очагу.
– Рад познакомиться, – сказал Маку Френсис. – Говорят, ты на днях провалился в дыру.
– Шею мог сломать, – сказал Мак.
– Сломал? – спросил Френсис.
– Если бы сломал, умер бы.
– А, так ты жив, значит? Не умер?
– Это кто еще? – спросил Мак у Энди.
– Правильный мужик. В поезде познакомились.
– Мы все правильные, – сказал Френсис. – Не встречал еще бродягу, чтоб мне не нравился.
– Это сказал Уилл Роджерс [18]18
Уилл Роджерс (1879–1935) – американский актер и юморист.
[Закрыть], – сообщил Руди.
– Черта лысого, – ответил Френсис. – Это я сказал.
– Не знаю. Он так сказал. Все, что знаю, я прочел в газетах [19]19
Этой фразой Роджерс начинал выступления.
[Закрыть], – ответил Руди.
– Так ты читать умеешь? – сказал Френсис.
– Джеймс Уатт изобрел паровую машину, – сказал Руди. – А ему было только двадцать девять лет.
– Он был кудесник, – сказал Френсис.
– Правильно. Чарлз Дарвин был очень выдающимся человеком, понимал ботанику. Умер в 1936 году.
– О чем он говорит? – спросил Мак.
– Он ни о чем не говорит, – ответил Френсис. – Просто говорит.
– Сэр Исаак Ньютон. Вы знаете, что он сделал с яблоком?
– Этого я знаю, – сказал Старый Туфель. – Он открыл тяготение.
– Правильно. Знаешь, когда это было? В 1936 году. Он родился от двух повитух.
– А ты порядком разузнал про этих кудесников, – сказал Френсис.
– Бог вора любит, – сказал Руди. – Я вор.
– Мы все воры, – сказал Френсис. – Что ты украл?
– Я украл любовь моей жены, – сказал Руди.
– И что с ней сделал?
– Отдал обратно. Держать не стоило. Ты знаешь, где Млечный Путь?
– Где-то там, – сказал Френсис, глядя в небо, такое звездное, каким он его еще не видел.
– Жрать охота, – сказал Мак Мичиганец.
– На, откуси, – сказал Энди. И вытащил из пальто большую луковицу.
– Это лук, – сказал Мак.
– Тоже кудесник, – сказал Френсис.
Мак взял луковицу, осмотрел и вернул Энди, а тот откусил от нее и снова положил ее в карман.
– В магазине дали, – сказал Энди. – Говорю ему: хозяин, голодаю, мне надо что-то съесть. И он дал две луковицы.
– У тебя были деньги, – вмешался Мак. – Сказал тебе – купи буханку хлеба, а ты купил бутылку вина.
– Не получается – и вино и хлеб, – сказал Энди. – Ты что, француз?
– Хочешь покупать еду и выпивку – устройся на работу, – сказал Френсис.
– На прошлой неделе я мячи на гольфе подносил, – сказал Мак, – хреновина, невыгодно. На буграх оскальзываешься. У самих-то шипы на ботинках. Говорят: иди работать, бродяга. Я бы пошел, но не могу. Пять-шесть долларов добуду – и на поезд. Я не бродяга. Я босяк.
– Слишком много двигаешься, – сказал Френсис. – Потому и в дыру провалился.
– Да, – сказал Мак, – но в этот дом я больше ни ногой. Слышал, полицейские там каждую ночь людей забирают. Кто осел – считай, сгорел. На ходу – с собой в ладу.
– Сегодня вечером тут полицейские были, фонарями светили, – сказал Энди. – Но никого не замели.
Руди поднял голову и обвел взглядом лица, освещенные костром. Потом поглядел на небо и обратился к звездам.
– На окраине, – сказал он. – Я непоседа, странник.
Вино ходило по кругу, и Энди подбрасывал дрова, хранившиеся в его халупе. Френсис вспоминал о том, как Билли, надев костюм, пальто и шляпу, показывался ему перед уходом. Нравится шляпа? – спросил он. Нравится, сказал Френсис, стильная. Свою потерял, сказал Билли. Эту в первый раз надеваю. Ничего выглядит? Стильно выглядит, сказал Френсис. Ладно, пора в город, сказал Билли. Давай, сказал Френсис. Еще увидимся, сказал Билли. Не сомневайся, сказал Френсис. Останешься в Олбани или подашься куда? – спросил Билли. Еще не знаю, ответил Френсис. Есть тут над чем подумать. Это всегда есть, сказал Билли, после чего они пожали руки и больше уже не разговаривали.
Сам он ушел через час с небольшим, пожав руку и Джорджу Куинну, ушлому и франтоватому мужчинке, рассказывавшему плохие анекдоты («Ты откуда?» – спрашивают потрепанную корову. «От верблюда»), которым все смеялись, а Пег крепко обняла отца и поцеловала в щеку, вот это поцелуй, всем поцелуям поцелуй, а потом Энни взяла его руку в обе руки и сказала: приходи обязательно. Конечно, сказал Френсис. Нет, сказала Энни, ты должен прийти, мы должны поговорить о многом, я хочу рассказать тебе о детях, о семье. Если захочешь остаться на ночь, мы поставим тебе койку у Данни. А потом совсем легонько поцеловала его в губы.
– Эй, Мак, – сказал Френсис, – ты правда голодный или так губами шлепаешь, от нечего сказать?
– Я голодный, – сказал Мак. – С утра не жрал. Тринадцать, четырнадцать часов небось.
– На, – сказал Френсис, развернув один сандвич с индейкой и половину отдав Маку. – Откуси пару раз, но все не ешь.
– У-у, ладно, – сказал Мак.
– Я сказал тебе, он хороший мужик, – сказал Энди.
– Хочешь кусок? – спросил у него Френсис.
– Мне луку хватило, – сказал Энди. – А вон малый в ящике от рояля, он тут спрашивал поесть. У него там младенец.
– Младенец?
– Младенец и жена.
Френсис отнял у Мака Мичиганца остаток сандвича и в темноте, разбавленной светом костра, побрел к ящику от рояля. Перед ящиком тоже горел костерок, и возле него, сидя по-турецки, грелся человек.
– Я слышал, у тебя ребенок, – сказал Френсис подозрительно смотревшему на него человеку, а тот кивнул и показал на ящик. В темноте Френсис разглядел очертания женщины, свернувшейся вокруг чего-то, похожего на спеленутого младенца.
– У меня тут харч лишний, – сказал Френсис и отдал мужчине нетронутый сандвич вместе с остатками другого. – И сладкое. – Он отдал пудинг.
Мужчина принял дары, подняв к нему лицо, на котором было написано изумление человека, пораженного молнией посреди безводной пустыни; а благодетель его исчез прежде, чем он смог осознать подарок Френсис занял свое место в безмолвном кругу у костра Энди. Все, кроме Руди, свесившего голову на грудь, смотрели на него.
– Дал ему поесть? – спросил Энди.
– Ага. Хороший малый. Я-то сегодня поел от пуза. Сколько ребенку?
– Три месяца, он сказал.
Френсис кивнул.
– У меня тоже был. Звали Джеральдом. Упал, сломал шею и умер – а было ему тринадцать дней.
– Беда, – сказал Энди.
– Ты никогда про это не говорил, – сказал Старый Туфель.
– Да, потому что это я его уронил. Взял в пеленке, а он выскользнул.
– Вот черт, – сказал Старый Туфель.
– Не мог я с этим справиться. Потому и от семьи сбежал. А на прошлой неделе на другого сына наткнулся – и он мне говорит, что жена никому про это не рассказывала. Человек уронил ребенка, ребенок умер, а мать ни одной живой душе ни слова. Не могу это понять. Женщина хранит такой секрет двадцать два года, оберегает такого, как я.
– Женщин не поймешь, – сказал Мак Мичиганец. – Моя целый день, бывало, передком шурует, а потом приходит домой и говорит мне, что до нее в жизни никто не дотронулся, кроме меня. У меня только тогда глаза открылись, когда домой пришел, а она с двоими сразу кувыркается.
– Я не про то говорю, – сказал Френсис. – Я говорю про женщину, которая женщина. Я не про блядь подзаборную говорю.
– Она красивая была, однако, – сказал Мак. – И характер необыкновенный.
– Ага, – сказал Френсис. – И весь у ней между ног.
Руди поднял голову и посмотрел на бутылку. Поднес ее к свету.
– Отчего человек становится пьяницей? – спросил он.
– От вина, – сказал Старый Туфель. – От того, что в руке у тебя.
– Вы когда-нибудь слышали про медведей и про сок тутовой ягоды? – спросил Руди. – Сок тутовой ягоды бродит у них в животе.
– Да ну? – сказал Старый Туфель. – Я думал, он бродит до того, как внутрь попал.
– Не. Не у медведей, – сказал Руди.
– И что сделалось с медведями и соком? – спросил Мак.
– Они оцепенели, и у них сделался бодун, – сказал Руди и долго-долго смеялся. Потом опрокинул бутылку и слизнул с горлышка последние капли. Он бросил бутылку к еще двум пустым – своей из-под виски и Френсисовой винной, которая ходила по кругу.
– Черт, – сказал Руди. – У нас нечего выпить. Пропадаем.
Вдалеке послышался шум моторов и хлопанье автомобильных дверей.
Напрасно Френсис исповедовался. Заговорить о Джеральде с чужими было ошибкой – никто не принял этого всерьез. И совести он не облегчил, и прозвучало это ненужно, как бессмысленная болтовня Руди про кудесников и медведей. Френсис пришел к выводу, что принял еще одно неверное решение – в длинной цепи других. Он пришел к выводу, что вообще не способен на правильные решения, что такого непутевого человека свет не видывал. Теперь он был убежден, что никогда не достигнет равновесия, позволяющего многим людям жить мирной жизнью, без насилия и дезертирства, жизнью, вырабатывающей к старости хотя бы малую толику счастья.
Он не понимал, чем отличается в этом смысле от других людей. Он знал, что в чем-то он сильнее их, более склонен к насилию, что тяга к бегству у него в крови, но все это не имеет никакого отношения к умыслу. Ну ладно, он хотел попасть камнем в Гарольда, но это было давно. Зная Френсиса так, как он себя знал, мог ли кто-нибудь подумать, что это он ответствен за смерть Бузилы Дика, обкусанную шею Шибздика, за синяки на Рыжике, за шрамы на других людях, давно забытых или давно похороненных?
Сейчас Френсису было ясно лишь одно: относительно себя он никогда не мог прийти к каким-либо заключениям, основанным на разуме. При этом он не считал, что не способен мыслить. Он видел себя существом неведомых и непознаваемых качеств, человеком, лишенным хладнокровия, как в импульсивных поступках, так и в обдуманных. И, однако, признаваясь себе, что он – душа исковерканная и погибшая, Френсис всякий раз убеждался в разумности и целесообразности своих действий: он бежал от родных, потому что такому нечестивому человеку не место среди них; все эти годы он уничижал себя нарочно – в противовес пугливой гордыне, ибо всегда гордился своей способностью сочинить торжество, из которого проистечет благодать. Кем он был – он был воином, да, защищавшим веру, которую никому не дано выразить в словах, тем более ему самому, но как-то это было связано с охраной святых от грешников, живых от мертвецов. А воин – он был убежден в этом – не жертва. Ни в коем случае не жертва.
В глубочайших глубинах души, где рождается неизреченный вывод, он говорил себе: моя вина – единственное, что у меня осталось. Если расстанусь с ней – я ничего не значил, я ничего не сделал, я был ничем.
И, подняв голову, он увидел людей в легионерских фуражках, строем двигавшихся на костер с бейсбольными битами в руках.
Люди в фуражках вошли в лагерь с лютой целеустремленностью, безмолвно сшибая все, что возвышалось над землей. Они проламывали хибарки и валили сарайчики, и так уже почти разрушенные временем и непогодой. Кто-то, увидевший их, выскочил из своей конуры и побежал, выкрикивая одно слово: «Облава»; кое-кого из бродяг он разбудил, и они, похватав пожитки, бросились следом за ним. Гости Энди только тогда заметили приближение налетчиков, когда первые разгромленные лачуги уже горели.
– Что за черт? – удивился Руди. – Почему все повскакали? Френсис, ты куда?
– Вставай, глупый, – сказал Френсис, и Руди встал.
– Во что это, к черту, я влопался? – сказал Старый Туфель и попятился от костра, не сводя глаз с атакующих. Они были еще в полусотне метров, а Мак Мичиганец уже предпринял стремительный отход: согнувшись серпом, он бежал к реке.
Налетчики продвигались вперед, круша табор; один из них снес лачугу двумя ударами. Шедший за ним облил развалину бензином и кинул спичку. Они уже были в двадцати метрах от сарайчика Энди, а Руди, Энди и Френсис, оцепенев, смотрели на происходящее изумленными глазами.
– Надо уходить, – сказал Энди.
– У тебя в хибаре есть что-нибудь стоящее? – спросил Френсис.
– Стоящего у меня только шкура, а она при мне.
Троица стала медленно пятиться от налетчиков, которые явно намеревались сровнять весь поселок с землей. Френсис заглянул на ходу в рояльный ящик и увидел, что он пуст.
– Кто они? – спросил у Френсиса Руди. – Зачем ломают?
Никто ему не ответил.
С полдюжины лачуг и конур уже пылали, от одной загорелось высокое голое дерево, и пламя его вздымалось высоко в небо, намного выше, чем огонь горящих лачуг. При пляшущем свете пожара Френсис увидел, как один из налетчиков ударил по хижине, а из нее на четвереньках выполз человек. Несильно размахнувшись битой, налетчик огрел его по заду, и человек вскочил на ноги. Налетчик ткнул его еще раз, и тот, хромая, убежал. Горящая хижина беглеца осветила улыбку налетчика.
Тут Френсис, Руди и Энди тоже собрались бежать, уверовав наконец, что ночь наводнена демонами. Но когда повернулись, увидели еще двоих с битами, заходивших слева.