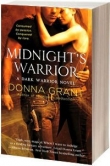Текст книги "Ярость"
Автор книги: Уилбур Смит
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Уилбур Смит
Ярость
Эту книгу я посвящаю своей жене Мохинисо. Прекрасная, любящая, верная и преданная, ты единственная в мире.
Тара Кортни со свадьбы не носила белого. Ее любимый цвет, зеленый, лучше всего шел к ее густым каштановым волосам. Возможно поэтому белое платье, надетое сегодня, заставило Тару снова почувствовать себя новобрачной – трепет, робость, опаска, но в то же время и радость, сознание серьезности происходящего. Манжеты и воротник платья украшали легкие кружева цвета слоновой кости, а волосы она расчесала так, что под ярким солнцем Кейпа в них сверкали рубиновые огоньки. От возбуждения щеки Тары пылали, и, хоть она выносила четверых детей, стан у нее был стройный, как у молодой девицы. От этого еще более неуместным казался широкий траурно-черный шарф, который она набросила на плечо: юность и красота в цветах скорби. Несмотря на смятение чувств, Тара стояла, сжав перед собой руки, склонив голову. Стояла молча и неподвижно.
Тару пребывала в компании с почти полсотней женщин, все в белом, с черными шарфами, все в скорбной позе; они стояли на равных расстояниях друг от друга вдоль тротуара перед главным входом в здание парламента Южно-Африканского Союза.
Почти все эти женщины были молоды и привычного для Тары круга: входящие в элиту, обеспеченные, скучающие. Многие присоединились к протесту в поисках острых ощущений, какие дает попытка бросить вызов власти и позлить окружающих. Некоторые пытались вернуть внимание мужей, которые на одиннадцатом году брака, ставшего привычным, больше занимались бизнесом, гольфом или другими чисто мужскими видами деятельности, не связанными с семьей. Однако было и активное ядро, из женщин постарше, но включавшее и несколько молодых, вроде Тары и Молли Бродхерст. Ими двигала неприязнь к несправедливости. Тара попыталась выразить эти чувства на утренней пресс-конференции, когда репортер «Кейпского Аргуса» спросил у нее: «Почему вы это делаете, миссис Кортни?» Она ответила: «Потому что не люблю насильников и обманщиков». И сейчас испытывала мстительное чувство.
– А вот и большой злой волк, – сказала женщина, стоявшая в пяти шагах от Тары. – Соберитесь, девочки!
Тара восхищалась Молли Бродхерст – одной из основательниц «Черного шарфа», маленькой решительной женщиной за тридцать, – и старалась ей подражать.
Из-за угла Парламентской площади выехал черный «шевроле» с правительственными номерами, и из него на тротуар вышли четыре человека. Один из них – полицейский фотограф – сразу принялся за работу: он со своей камерой «Хассельблад» шел вдоль ряда женщин и фотографировал каждую. За ним шли еще двое, вооруженные записными книжками. Хотя одеты они были в штатские, плохо скроенные костюмы, обувь выдавала в них полицейских, и держались они резко и деловито: шагая вдоль шеренги женщин, они записывали имена и адреса каждой протестующей. Тара, которая к этому времени уже стала специалисткой, определила, что это сержанты спецподразделений, а четвертого она, как и большинство остальных женщин, знала и по имени, и в лицо.
Легкий, летний серый пиджак, темно-бордовый галстук, коричневые брюки и широкополая серая шляпа. Среднего роста, с ничем не примечательным лицом, но с широким дружелюбным ртом; он улыбнулся и приподнял шляпу, обращаясь к Молли:
– Доброе утро, миссис Бродхерст. Вы сегодня рано. Процессия прибудет только через час.
– Вы нас арестуете, инспектор? – ядовито спросила Молли.
– Ни в коем случае. – Инспектор приподнял бровь. – Вы ведь знаете, это свободная страна.
– Вы меня обманываете.
– Ах, гадкая миссис Бродхерст. – Он покачал головой. – Пытаетесь меня спровоцировать.
По-английски он говорил превосходно, лишь с легким африкандерским акцентом.
– Нет, инспектор. Мы протестуем против грязных предвыборных махинаций преступного правительства, против отказа от главенства законов, против лишения большинства южноафриканцев гражданских прав только на основании цвета кожи.
– Похоже, миссис Бродхерст, вы повторяетесь. Все это вы уже говорили мне в нашу последнюю встречу. – Инспектор усмехнулся. – Далее вы потребуете, чтобы я снова вас арестовал. Давайте не будем омрачать сегоднешнее замечательное событие…
– Открытие парламента, оправдывающего несправедливость и угнетение, – повод для траура, а не для торжества.
Инспектор сдвинул шляпу набекрень, но за его агрессивным поведением чувствовалось искреннее уважение и даже некоторое восхищение.
– Продолжайте, миссис Бродхерст, – сказал он. – Я уверен, скоро мы снова встретимся.
Он пошел дальше и остановился напротив Тары.
– Доброе утро и вам, миссис Кортни. – Он помолчал, на этот раз не скрывая восхищения. – А что думает о вашем изменническом поведении ваш знаменитый супруг?
– Разве измена – противостоять крайностям Националистической партии и законодательству, ставящему во главу угла расу и цвет кожи, инспектор?
Его взгляд на мгновение упал на грудь Тары, большую, но красивую, укрытую белыми кружевами, потом вновь вернулся к лицу.
– Вы слишком хороши для этого вздора, – сказал он. – Оставьте его седовласым дурам. Ступайте домой, где ваше истинное место, и займитесь своими детьми.
– Ваше мужское высокомерие нестерпимо.
Она вспыхнула от гнева, не сознавая, что это только подчеркивает красоту, о которой он говорил.
– Хотел бы я, чтобы все изменницы так выглядели. Это сделало бы мою работу гораздо более приятной. Благодарю вас, миссис Кортни.
Он улыбнулся, чем привел ее в бешенство, и пошел дальше.
– Не позволяй ему сердить тебя, – негромко сказала Молли. – Он на это мастер. Наш протест мирный. Помни Махатму Ганди.
Тара с усилием подавила гнев и снова замерла в смиренной позе. За ней на тротуаре начала собираться толпа зрителей. Цепочка женщин в белом становилась предметом любопытства и потехи, иногда одобрения, но чаще вражды.
– Проклятые коммуняки, – сказал Таре мужчина средних лет. – Хотите отдать страну дикарям. Вас следует посадить под замок, всех.
Он был хорошо одет и говорил, как образованный человек. На лацкане даже красовалось маленькое изображение британской каски – свидетельство добровольного участия в войне с фашизмом. Его слова были напоминанием о том, какой молчаливой поддержкой пользуется Националистическая партия даже у англоговорящих белых граждан.
Тара, опустив голову, закусила губу и заставила себя промолчать, даже когда в собравшейся толпе прозвучали насмешки от кого-то из цветных.
Припекало, солнце было ярким, как на Средиземном море, и хотя над массивной плоской вершиной Столовой горы собирались плотные облака, предвестники юго-восточного ветра, сам ветер еще не достиг стоящего под горой города. Толпа стала большой и шумной; Тару толкнули – она полагала, намеренно. Она постаралась сохранить спокойствие, сосредоточившись на здании через дорогу от места, где стояла.
Построенное сэром Гербертом Бейкером, этим образцовым представителем имперского архитектурного стиля, здание было массивным и внушительным, с красными кирпичными колоннами на белом, – далеким от современных вкусов Тары, предпочитавшей нестесненное пространство и линии, стекло и обстановку из светлой скандинавской сосны. Здание словно олицетворяло все косное, устаревшее, все то, что Тара хотела бы видеть сметенным и отброшенным.
Течение ее мыслей нарушил нараставший выжидательный шум толпы.
– Едут, – сказала Молли. Толпа дрогнула, качнулась и разразилась приветственными криками. Послышался стук копыт, и на улице показались конные полисмены, на их пиках весело развевались флажки; опытные всадники сидели на специально подобранных одинаковых лошадях, чья лоснящаяся шкура блестела на солнце, как надраенный металл.
За ними двигались открытые коляски. В первой восседали генерал-губернатор и премьер-министр. Вот он, Дэниэл Малан, защитник африкандеров, с грозным, некрасивым, почти лягушачьим лицом, человек, чьим единственным открыто провозглашенным намерением стало будущее тысячелетнее незыблемое господство его Volk’а в Африке. Никакая тому цена не кажется Малану слишком высокой.
Тара смотрела на него с неприязнью: этот человек воплощал все ненавистное ей в правительстве, распоряжавшемся землей и такими дорогими ей людьми. Когда коляска проезжала мимо, Тара и Малан на мгновение встретились глазами и Тара постаралась вложить в свой взгляд всю силу своих чувств, но Малан скользнул по ней мрачным взглядом без тени узнавания или раздражения. Он смотрел на Тару и не видел, и ее гнев превратился в отчаяние.
«Что нужно сделать, чтобы заставить этих людей просто слушать?» – подумала она, но в это время важные лица вышли из колясок и вытянулись во фрунт: зазвучал национальный гимн. Хотя Тара этого пока не знала, на открытии парламента Южной Африки «Короля» [1]1
«Боже, храни короля/королеву» – гимн Великобритании. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть]исполняли в последний раз.
Оркестр завершил гимн громом фанфар, и министры кабинета вслед за генерал-губернатором и премьером начали проходить через главный вход в здание. За министрами шли руководители оппозиции. Этого момента Тара страшилась – среди них шагали ее ближайшие родственники. Самой поразительной парой во всей длинной процессии были ее отец, высокий, полный достоинства, как лев-патриарх, и шедшая под руку с ним Сантэн де Тири Кортни-Малкомс, стройная и изящная в желтом шелковом платье, прекрасно подходившем к такому случаю, и в элегантной шляпке без полей на маленькой аккуратной голове; казалось, она не старше самой Тары, хотя все знали, что ее назвали Сантэн [2]2
Столетие ( фр.).
[Закрыть], потому что она родилась в первый день двадцатого столетия.
Тара думала, что ее не заметили: она никого не предупреждала о своем участии в протесте. Но на вершине широкой лестницы процессия на мгновение задержалась, и, прежде чем войти в дверь, Сантэн нарочно обернулась. Со своего наблюдательного пункта она видела все поверх голов охраны и участников процессии; мачеха поймала взгляд Тары на противоположной стороне улицы и мгновение смотрела ей прямо в глаза.
Хотя выражение лица Сантэн не изменилось, ее неодобрение, замеченное даже издалека, Тара ощутила как хлесткую пощечину. Сантэн ставила честь, достоинство и доброе имя семьи выше всего. Она неоднократно предупреждала Тару о том, что нельзя выставлять себя на всеобщее обозрение, на посмешище, а противостоять Сантэн было опасно: она приходилась Таре не только мачехой, но и свекровью, она была главой семейства Кортни и владелицей всего состояния семьи.
На середине лестницы Шаса Кортни заметил, куда направлен яростный взгляд матери, быстро обернулся и увидел среди протестующих в черных шарфах свою жену. Когда утром за завтраком она сказала ему, что не будет сопровождать его в процессии, Шаса лишь ненадолго оторвал взгляд от финансовых страниц утренней газеты.
– Как хочешь, дорогая. Будет ужасно скучно, – сказал он. – Нельзя ли получить еще чашку кофе, когда у тебя найдется время?
Теперь, узнав ее, он улыбнулся уголками губ, с деланным отчаянием едва заметно покачал головой, словно Тара была проказливым ребенком, и отвернулся: процессия продолжала движение.
Он был невозможно красив; черная повязка на глазу придавала ему лихой пиратский вид, что большинство женщин находили интригующим и вызывающим. Они с Тарой считались самой красивой молодой парой в высшем обществе Кейптауна. Странно, как считанные годы превратили пламя их любви в серую холодную золу. «Как хочешь, дорогая…» – теперь он часто так говорил.
Последние заднескамеечники исчезли в здании парламента, кавалерийский эскорт и пустые коляски двинулись дальше, и толпа начала расходиться. Демонстрация закончилась.
– Идем, Тара? – спросила Молли, но Тара покачала головой.
– Мне нужно встретиться с Шасой, – сказала она. – Увидимся днем в пятницу.
Тара сняла через голову черный шарф, сложила его, спрятала в сумочку, пробралась через толпу и пересекла улицу.
Она не усмотрела никакой иронии в том, что предъявила у входа для посетителей пропуск в парламент и вошла в учреждение, против политики которого так яростно протестовала. Поднялась по широкой лестнице и заглянула на галерею для посетителей. Там толпились жены политиков и важные гости; Тара посмотрела через их головы вниз: на обитых зеленой кожей сиденьях расположились депутаты в строгих костюмах, занятые ритуалом открытия парламента. Но она знала, что речи будут обычными, банальными и скучными до оскомины, а она с раннего утра простояла на улице, и теперь ей срочно требовалось в туалет.
Она улыбнулась служителю, незаметно вышла и заспешила по широкому, отделанному панелями коридору. Побывав в женском туалете, Тара направилась в кабинет отца: она часто пользовалась им как собственным.
Повернув за угол, она едва не столкнулась с человеком, который шел в противоположном направлении. Она едва успела остановиться и разглядела, что это высокий чернокожий мужчина в форме служителя из штата парламента. Она прошла бы мимо, кивнув и улыбнувшись, но тут ей пришло в голову, что сейчас, когда заседает парламент, прислуге нечего делать в этой части здания, поскольку в конце коридора располагались кабинеты премьер-министра и лидера оппозиции. К тому же, хотя служитель нес ведро и швабру, в нем было нечто не свойственное обслуживающему персоналу и вообще людям физического труда. Тара пристально взглянула ему в лицо.
И вздрогнула от шока узнавания узнавания. Прошло много лет, но она не забыла это лицо – лицо египетского фараона, благородное и яростное, живые темные глаза, искрящиеся умом. Он по-прежнему оставался одним из самых красивых мужчин, каких ей доводилось видеть, и она вспомнила его голос, глубокий и волнующий. Это воспоминание заставило ее вздрогнуть. «Есть род, у которого зубы – мечи, и челюсти – ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми» [3]3
Книга притчей Соломоновых, 30:14.
[Закрыть].
Именно этот человек впервые дал ей понять, каково родиться черным в Южной Африке. И именно благодаря этой давней встрече она нашла свое истинное предназначение. Несколькими словами этот человек изменил ее жизнь.
Она остановилась, преградив ему дорогу, и попыталась передать ему свои чувства, но в горле у нее пересохло, и она обнаружила, что дрожит от потрясения. В миг, когда он понял, что его узнали, он мгновенно изменился, как леопард, почуявший охотников и насторожившийся. Тара поняла, что ей грозит опасность: от этого человека исходило ощущение африканской жестокости, но она не испугалась.
– Я друг, – негромко сказала она и отступила, давая ему возможность пройти. – У нас общее дело.
Он на миг замер, глядя на нее. Тара знала, что он больше никогда ее не забудет; его взгляд словно огнем опалил ее; потом этот человек кивнул.
– Я тебя знаю, – сказал он, и снова его голос, глубокий и мелодичный, пронизанный ритмами Африки, заставил ее задрожать. – Мы еще встретимся.
Он прошел мимо и, не оглядываясь, исчез за поворотом коридора. Тара стояла, глядя ему вслед, сердце ее колотилось, дыхание обжигало горло.
– Мозес Гама, – прошептала она его имя. – Мессия и воин Африки… – Тут она замолчала и оглянулась. – Что ты здесь делаешь?
Ее чрезвычайно заинтересовали возможные причины его присутствия здесь, потому что она поняла: начался крестовый поход, и ей отчаянно захотелось принять в нем участие. Ей хотелось не просто стоять на улице в черном шарфе. Она знала, что стоит только Мозесу Гаме поманить ее пальцем, и она пойдет за ним – она и еще десять миллионов.
«Мы еще встретимся», – обещал он, и Тара поверила.
Возбужденная и радостная, она зашагала по коридору. У нее был свой ключ от кабинета отца, и когда Тара сунула его в скважину, перед ее глазами оказалась медная табличка:
ПОЛКОВНИК БЛЭЙН МАЛКОМС,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ
Тара с удивлением обнаружила, что замок отперт, толкнула дверь и вошла в кабинет.
Сантэн Кортни-Малкомс, стоявшая за столом у окна, повернулась к ней.
– Я ждала вас, барышня.
Тару раздражал французский акцент свекрови. «За последние тридцать пять лет она лишь раз была во Франции», – подумала она и вызывающе подняла голову.
– Не вскидывай голову, Тара, chеri, – продолжала Сантэн. – Ведешь себя, как ребенок, так жди, что с тобой будут обращаться, как с ребенком.
– Нет, мама, вы ошибаетесь. Я не жду, что вы будете обращаться со мной, как с ребенком, – ни сейчас и никогда. Я замужняя женщина, мне тридцать три года, я мать четверых детей и хозяйка в своем доме.
Сантэн вздохнула.
– Хорошо, – кивнула она. – Прости за грубость, это от волнения. Не будем делать разговор еще более трудным.
– Я не знала, что нам нужно о чем-то говорить.
– Сядь, Тара, – приказала Сантэн. Тара невольно повиновалась и сразу рассердилась на себя за это. Сама Сантэн уселась в кресло Тариного отца за столом, что Таре тоже не понравилось: место папино, эта женщина не имеет на него права.
– Ты сама сейчас сказала, что ты замужняя женщина и что у тебя четверо детей, – спокойно заговорила Сантэн. – Ты же не будешь отрицать, что у тебя есть долг…
– О моих детях хорошо заботятся! – вспыхнула Тара. – Меня не в чем упрекнуть.
– А что же твой муж и ваш брак?
– При чем тут Шаса?
Тара мгновенно перешла к обороне.
– Скажи сама, – предложила Сантэн.
– Это не ваше дело.
– Нет, мое, – возразила Сантэн. – Я посвятила Шасе всю жизнь. Я хочу, чтобы он стал одним из вождей нации.
Она замолчала, и на мгновение в ее взгляде появилась мечтательность; Сантэн слегка прищурилась. Такое выражение Тара замечала у Сантэн и раньше, когда свекровь глубоко задумывалась, и ей захотелось как можно грубее прервать эти мысли.
– Это невозможно, вы же знаете.
Взгляд Сантэн снова прояснился; она пристально взглянула на Тару.
– Нет ничего невозможного – ни для меня, ни для нас.
– Конечно есть, – злорадно ответила Тара. – Вы не хуже меня знаете, что националисты обманом победили на выборах, они весь парламент наводнили своими ставленниками. Навсегда захватили власть. Главой государства никогда уже не станет тот, кто не из их числа – не африкандер; не станет до самой революции, а когда революция произойдет, таким лидером станет чернокожий.
Тара умолкла, вспомнив Мозеса Гаму.
– Наивная, – выпалила Сантэн. – Ты ничего в этом не понимаешь. Что за детские и безответственные разговоры о революции!
– Не стану спорить, мама. В глубине души вы, однако, знаете, что я права. Ваш дорогой Шаса никогда не осуществит вашу мечту. Даже он начинает чувствовать тщетность деятельности оппозиции. Невозможное перестает его интересовать. Не удивлюсь, если он откажется участвовать в следующих выборах, откажется от политических амбиций, которые вы в нем насаждаете, и просто возьмется зарабатывать очередной миллиард фунтов.
– Нет, – покачала головой Сантэн. – Шаса не сдастся. Он боец, в меня.
– Он никогда не станет членом правительства, тем более премьером, – решительно заявила Тара.
– Если ты в этом убеждена, ты не жена моему сыну, – сказала Сантэн.
– Это вы сказали, – тихо ответила Тара. – Вы. Не я.
– Тара, дорогая, прости. – Сантэн протянула руку, но стол был слишком широк, чтобы она могла коснуться руки Тары. – Прости, я сорвалась. Все это, с моей точки зрения, очень важно и глубоко меня затрагивает, но я не желаю настраивать тебя враждебно. Я хочу только помочь тебе – я беспокоюсь за вас с Шасой. Я хочу помочь. Тара, ты позволишь помочь?
– Не думаю, что мы нуждаемся в помощи, – спокойно солгала Тара. – Мы с Шасой совершенно счастливы. У нас четверо прекрасных детей…
Сантэн сделала нетерпеливый жест.
– Тара, мы с тобой редко говорим с глазу на глаз. Но я твой друг, искренний друг. Я хочу для вас с Шасой и для малышей самого лучшего. Ты позволишь мне помочь?
– Но как, мама? Дадите нам денег? Но вы и так дали десять или двадцать миллионов – или это были тридцать миллионов фунтов? Иногда я сбиваюсь со счета.
– Разрешишь поделиться опытом? Прислушаешься к моему совету?
– Да, мама, я слушаю. Не обещаю, что последую ему, но выслушаю.
– Во-первых, Тара, голубушка, откажись от таких безумных левацких поступков. Ты подрываешь репутацию всей семьи. Выставляя напоказ себя, когда так одеваешься и стоишь на улице, ты выставляешь напоказ всех нас. К тому же это чрезвычайно опасно. Закон о борьбе с коммунизмом не отменен [4]4
The Suppression of Communism Act, закон, принятый правительством Южно-Африканского Союза в 1950 году. Закон запрещал коммунистическую партию и любую деятельность, которую правительство считало коммунистической.
[Закрыть]. Тебя могут объявить коммунисткой и выписать запретительный ордер [5]5
Во время системы апартеида в ЮАР – судебный запрет свободно перемещаться и встречаться с другими людьми.
[Закрыть]. Подумай об этом. Ты перестанешь быть личностью, лишишься всех человеческих прав, утратишь достоинство. А политическая карьера Шасы? Как это скажется на нем?
– Мама, я обещала выслушать, – упрямо сказала Тара. – Но теперь отказываюсь от своего обещания. Я знаю, что делаю. – Она встала и пошла к выходу, у дверей остановилась и оглянулась. – Вам когда-нибудь приходило в голову, Сантэн Кортни-Малкомс, что моя мать умерла с разбитым сердцем и что сердце ей разбил ваш откровенный блуд с моим отцом? И вы смеете сидеть здесь и самодовольно учить меня, как жить, чтобы не опозорить вас и вашего драгоценного сына?
Она вышла и беззвучно закрыла за собой тяжелую тиковую дверь.
* * *
Шаса Кортни сидел на скамьях оппозиции, сунув руки в карманы и вытянув вперед скрещенные в лодыжках ноги, и внимательно слушал выступление министра внутренних дел, который рассказывал, какие законопроекты собирается представить в следующем году.
Министр внутренних дел – самый молодой член кабинета, примерно Шасин ровесник, что само по себе необычно. Африкандеры уважают годы и не доверяют опыту и порывистости молодых. Средний возраст остальных членов националистического кабинета не ниже шестидесяти пяти лет, подумал Шаса, и тем не менее вот перед ним стоит Манфред Деларей, по сравнению с ними юнец, которому нет и сорока, и излагает содержание поправки к Закону о преступности, которую намерен провести через различные законодательные процедуры.
– Он просит права объявлять чрезвычайное положение без решения суда, а это поставит полицию выше закона, – прошептал рядом с ним Блэйн Малкомс, и Шаса кивнул, не оглядываясь на тестя. Он продолжал наблюдать за выступающим.
Манфред Деларей, как обычно, говорил на африкаансе. По-английски он изъяснялся с трудом, с сильным акцентом, и делал это неохотно, лишь из уважения к двуязычию парламента. С другой стороны, на родном языке он красноречив и убедителен, он так искусно владеет ораторскими приемами, словно впитал их с молоком матери, и не раз вызывал гул одобрения на скамьях оппозиции и выкрики «Hoor, hoor!» [6]6
Слушайте, слушайте!
[Закрыть]от своей партии.
– Этот парень наглец, – покачал головой Блэйн Малкомс. – Он просит о полномочиях отменять закон и устанавливать полицейское государство по капризу правящей партии. Придется дать решительный бой.
– Точно, – согласился Шаса, но про себя подумал, что завидует этому человеку, к которому его в то же время загадочно влечет. Странно, как неразрывно связанными кажутся их судьбы.
Впервые он встретил Манфреда Деларея двадцать лет назад. Без всякой видимой причины они стали наскакивать друг на друга, как бойцовые петухи, и началась жестокая драка. Шаса поморщился, вспомнив, чем она кончилась: столько лет спустя он все так же тяжело переживал тогдашнее поражение. С тех пор их пути не раз пересекались.
В 1936 году они оба в составе национальной команды отправились в Берлин, на Олимпийские игры Адольфа Гитлера, но именно Манфреду Деларею досталась единственная золотая медаль, завоеванная командой, в то время как Шаса вернулся с пустыми руками. Они ожесточенно соперничали за одно место на выборах 1948 года, с которых началось усиление Националистической партии, и опять Манфред Деларей победил и занял место в парламенте, в то время как Шасе пришлось дожидаться добавочных выборов в благоволящем к Объединенной партии округе, чтобы получить место на скамьях оппозиции, с которых он сейчас наблюдал за соперником. Теперь Манфред министр – этого поста Шаса жаждал всем сердцем; учитывая политическую проницательность Манфреда Деларея и его основательное влияние в партии, его перспективы кажутся безграничными.
Зависть, восхищение и яростное неприятие – вот что испытывал Шаса, слушая человека на противоположном конце зала и внимательно изучая его.
У Манфреда Деларея по-прежнему была фигура боксера, широкие плечи и сильная шея, но он расплылся в талии, и линия подбородка начала заплывать плотью. Он не поддерживает форму, и его жесткие мышцы размягчаются. Шаса самодовольно окинул взглядом свои стройные бедра и плоский живот и снова сосредоточился на сопернике.
У Манфреда Деларея кривой нос, а поперек черной брови белый шрам – эти повреждения он получил на боксерском ринге. Но глаза у него необычно светлые, как желтый топаз, непроницаемые кошачьи глаза, в глубине которых, однако, горит огонь интеллекта. Как и все министры националистического кабинета, за исключением только премьер-министра, он высокообразованный и умный человек, набожный и преданный, абсолютно убежденный в божественном праве своей партии и своего Volk’а.
«Они искренне считают себя орудием Господа на земле. Именно это делает их такими опасными».
Шаса мрачно улыбнулся, когда Манфред умолк и сел под одобрительный рев своей стороны зала. Депутаты размахивали листками с повесткой дня, премьер-министр наклонился и потрепал Манфреда по плечу; с задних скамей ему передавали десяток поздравительных записок.
Шаса воспользовался этой возможностью, чтобы извиниться перед тестем.
– Сегодня я вам больше не понадоблюсь, но если буду нужен, вы знаете, где меня найти.
Он встал, поклонился спикеру и как можно незаметнее направился к выходу. Однако Шаса – шесть футов один дюйм роста, черная повязка через глаз, темные вьющиеся волосы, красивое лицо – привлек множество задумчивых взглядов молодых женщин на галерее и враждебных – с правительственных скамей.
Когда Шаса проходил мимо, Манфред Деларей оторвался от записки, которую читал, и мужчины обменялись напряженным загадочным взглядом. Затем Шаса вышел из зала, снял пиджак, набросил его на плечо и, улыбнувшись дежурному, вышел на солнце.
У Шасы не было кабинета в парламенте, потому что до «Сантэн-хауса» – семиэтажной штаб-квартиры «Горно-финансовой компании» – было всего две минуты ходьбы через парк. Проходя под дубами, Шаса мысленно сменил цилиндр политика на фетровую шляпу предпринимателя. Жизнь его делилась на две части, и он научился сосредоточиваться на каждой по очереди, не позволяя себе разбрасываться.
К тому времени как он пересек улицу перед собором Святого Георгия и вошел во вращающиеся двери «Сантэн-хауса», он уже думал о финансах и добыче ископаемых, перебирал цифры и возможности, взвешивал отчеты и факты, сопоставляя их с подсказаками собственного чутья, и наслаждался игрой в деньги точно так же, как парламентскими ритуалами и конфронтациями.
В вестибюле с мраморными столами и колоннами две хорошенькие девушки за стойкой дежурных расплылись в радостных улыбках.
– Добрый день, мистер Кортни, – хором сказали они, и, проходя к лифту, он одарил их испепеляющей улыбкой. Его реакция была подсознательной: он любил, когда его окружали красивые женщины, хотя никогда не касался тех, кто на него работал. Это было бы кровосмешение, это было бы неспортивно, все равно что подстрелить сидящую птицу: ведь они были не в состоянии сопротивляться ему. Тем не менее, когда двери лифта за ним закрылись, девушки за столом дружно вздохнули и закатили глаза.
Джанет, его секретарша, услышала лифт и, когда дверь раскрылась, уже ждала. Она больше соответствовала вкусу Шасы – зрелая, уравновешенная, ухоженная, деловитая, однако, хотя она не пыталась скрывать свое восхищение, правила, которые Шаса сам себе установил, действовали и в этом случае.
– Что у нас, Джанет? – спросил он, и, следуя за ним из прихожей в его кабинет, она зачитала список его встреч на вторую половину дня.
Шаса вначале подошел к телетайпу в углу и пропустил сквозь пальцы ленту с ценами. Англичане упали на два шиллинга, пожалуй, пора покупать снова.
– Позвоните Аллену и отложите встречу. Я пока не готов, – сказал он Джанет и прошел за свой стол. – Дайте мне пятнадцать минут, потом соедините по телефону с Дэвидом Абрахамсом.
Она вышла, а Шаса принялся просматривать груду телексов и срочных сообщений, которые секретарь оставила на его столе. Он работал быстро, не отвлекаясь на великолепный вид Столовой горы за окном на противоположной стене, и, когда пятнадцать минут спустя зазвонил телефон, был готов к разговору.
– Привет, Дэвид, что происходит в Йохбурге?
Вопрос был риторический: Шаса и так знал, что происходит и что он собирается предпринять. Среди документов на его столе лежали ежедневные отчеты и оценки; тем не менее он внимательно выслушал Дэвида.
Дэвида, управляющего директора финансовой группы, Шаса знал с университетских дней. Дэвид был самым близким ему человеком – за исключением Сантэн, конечно.
Хотя шахта Х’ани к северу от Виндхука по-прежнему оставалась основой процветания компании, чем была все тридцать два года с тех пор, как ее открыла Сантэн Кортни, компания под руководством Шасы расширилась и всесторонне развилась, так что ему пришлось перенести головную контору из Виндхука в Йоханнесбург. Перемещение в Йоханнесбург, коммерческий центр страны, было неизбежно, но это при всем при том был мрачный, бессердечный, непривлекательный город. Сантэн Кортни-Малкомс отказалась переезжать туда с прекрасного мыса Доброй Надежды, поэтому финансовый и административный центр компании оставался в Кейптауне. Получалось неудобное и дорогостоящее дублирование, но Сантэн всегда поступала по-своему. Более того, Шасе так было удобнее оставаться вблизи парламента; он любил Кейптаун не меньше матери и не пытался переубедить ее.
Шаса минут десять говорил с Дэвидом, потом сказал:
– Хорошо, по телефону этого не решить. Я прилечу.
– Когда?
– Завтра во второй половине дня. У Шона в десять утра регби, матч. Не могу пропустить. Я ему обещал.
Дэвид несколько мгновений молчал, сравнивая относительное значение спортивных достижений школьника с возможным вложением десяти с лишним миллионов фунтов в развитие новых золотоносных территорий компании в Свободной Оранжевой республике.
– Позвони перед вылетом, – покорно согласился он. – Я сам тебя встречу на взлетном поле.
Шаса повесил трубку и посмотрел на часы. Он хотел пораньше вернуться в Вельтевреден, чтобы побыть с детьми час до их ужина и купания. Работу можно было закончить после собственного ужина. Он начал укладывать оставшиеся бумаги в свой дипломат «Hermes» из черной крокодиловой кожи, когда в дверь постучали и вошла Джанет.
– Простите, сэр. Вот, доставили только что. Парламентский курьер, и он сказал, что это очень срочно.
Шаса взял у нее плотный конверт. На его столе стоял дорогой письменный набор, предназначенный для членов кабинета, с гербом Союза – разделенным на четыре части щитом с поддерживающими его стоящими антилопами, и под ним на ленте девиз «Ex Unitate Vires» – «Сила в единстве».