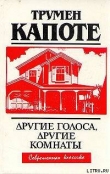Текст книги "Том 1. Летний круиз. Другие голоса, другие комнаты. Голоса травы. Завтрак у Тиффани"
Автор книги: Трумен Капоте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Миссис Манцер подняла руку – и все препирательства тут же смолкли: она знала, как надо обращаться с ее детьми.
– Кристал, дорогая, замолчи немедленно. Я сейчас приду и сама все сделаю. Клайд, приведи себя в порядок; а ты, Ида, поди накрой на стол.
Все разошлись, только Клайд немного замешкался: он стоял в стороне, похожий на статую. Его мокрая от пота рубашка отсвечивала влажным шелком и липла к телу, покрывая его тончайшим слоем мрамора. Давным-давно, в апреле, Грейди сделала с него мысленный снимок, получилось очень контрастное и чувственное изображение, словно вырезанное из белой бумаги: часто, оставшись одна в плену у полуночи, она извлекала фотографию из памяти, и этот пьянящий образ заставлял ее кровь течь быстрее. И теперь, когда Клайд подошел к ней, она зажмурилась, чтобы не исчез любимый образ, так как ее муж, стоявший рядом, казался подделкой, другим человеком.
– Все нормально? – спросил он.
– Да, а почему ты спрашиваешь?
– Ну ладно. – И он хлопнул себя по бедру приводным ремнем. – Не забывай, ты сама хотела прийти сюда.
– Клайд, я все обдумала. По-моему, лучше все им рассказать.
– Но я не могу. Любимая, послушай, ты же знаешь, я не могу, надо подождать.
– Но, Клайд, сам подумай, ведь я…
– Не волнуйся, детка.
Еще пару минут в воздухе висел приятный кисловатый запах его пота, как зыбкое напоминание о том, что он только что был тут, но потом легкий ветерок пробежал по комнате и унес запах: и тогда Грейди открыла глаза, уже в одиночестве. Она подошла к окну и прислонилась к холодной батарее. Скрипучие роликовые коньки скребли асфальт, как мелок, жалобно скулящий от соприкосновения со школьной доской. Мимо проехал коричневый седан, из его радио доносился государственный гимн. По тротуару прошли две девушки с купальниками в руках. Снаружи дом Манцеров был почти таким же безликим, как и внутри: один из пятнадцати домиков, стоящих стена к стене; от тротуара его отделяла живая изгородь игрушечной высоты. Эти домики были не то чтобы совсем одинаковы, просто коллажи из шершавой, неровной штукатурки и ярко-красного кирпича вообще мало отличаются друг от друга. Мебель миссис Манцер тоже была безликой: необходимое количество стульев, светильников тоже достаточно, но побрякушек многовато. Побрякушки эти, правда, были неслучайными: два Будды поддерживали с двух сторон какой-то трехтомник; на каминной полке два хмельных ирландца, прикладываясь к бутылочке, со смехом танцевали джигу; индийская красотка из розового воска, с мечтательной улыбкой, упорно флиртовала с Микки-Маусом, который, сам размером с куколку, ухмыляясь, глядел на нее с крышки радиоприемника; и с высоты книжной полки за всем этим наблюдала веселая компания тряпичных клоунов. Вот такими были этот дом, эта улица, эта комната, а миссис Манцер жила между зеленой речкой и белоснежной горной вершиной, в городе, полном птиц.
Меля языком, держа перед собой модель аэроплана, подвешенную на ниточке, в комнату влетел Берни. Это был шумный, белый, как глист, своенравный мальчишка, с разбитыми забинтованными коленками, с наглым взглядом, с бритой головой.
– Ида сказала, чтобы я тут поболтал с тобой, – заявил он, со свистом кружась по комнате, как летучая мышь, выпорхнувшая из преисподней, и Грейди подумала, что и вправду с Иды станется. – Она уронила лучшую тарелку ма, но тарелка не разбилась, а ма все равно злится, потому что Кристал спалила мясо, а у Клайда потек холодильник, – Берни рухнул на пол и стал извиваться, будто его кто-то щекотал. – Вот только чего она из-за Бекки злится?
Грейди одернула блузку и, уступив нечестивому порыву, спросила:
– А я и не знала, правда, что ли?
– Да уж точно; только как-то чудно все это, вот что.
Он крутанул пропеллер своего аэроплана и добавил:
– Ида сказала, что Кристал ее позвала, – чудно. Бекки и так приходит сюда когда хочет, никто ее не зовет. Будь я тут главным, я бы сказал ей, чтоб дома сидела. Она меня не любит.
– Какой красивый самолетик! Ты сам его сделал? – спросила вдруг Грейди: в прихожей послышались шаги, и она занервничала.
Впрочем, аэроплан ей действительно нравился, он был необычным: его хрупкий каркас и крылья были скреплены с восточной тщательностью.
Берни с гордостью указал на рамку из искусственной кожи, в которую были вставлены несколько фотографий.
– Вот она, видишь? Это Анна. Самолет она сделала. Она таких тыщи наделала, мильёны, всяких разных.
Девочку, похожую не то на гнома, не то на привидение, Грейди приняла за подружку Берни и тут же о ней забыла, потому что слева от нее была фотография Клайда, элегантно затянутого в военную форму: его рука небрежно лежала на талии у какой-то девушки, не слишком выразительной, но симпатичной. Девушка в очень уж короткой юбке и кофте, чересчур широкой под грудью, держала в руке американский флаг. При виде этого фото на Грейди повеяло холодком: так бывает, когда, впервые попав в какую-то ситуацию, вы вдруг чувствуете, что с вами это уже было; если прошлое нам известно, а в настоящем мы живем, возможно, во сне мы видим будущее? Ведь именно во сне Грейди видела их – Клайда и эту девушку. Они бежали, держась за руки, а она, в немой ярости, проходила мимо и исчезала прочь. Значит, этому суждено было случиться: не только во сне ей придется страдать. Размышляя об этом, она услышала голос Иды, – казалось, высокое дерево подломилось и упало на землю. Под его тяжестью Грейди сжалась на своем стуле.
– Я сама все это сняла, обожаю фотографировать, они милые, правда? Ты посмотри на Клайда! Он тогда только вернулся из армии, и его послали в Северную Каролину, и Бекки меня тоже туда притащила, вот смеху-то было! Там я встретила Фила. Это тот, что в плавках. Я с ним больше не встречаюсь, но в первый год после армии мы с ним были помолвлены, и он водил меня на танцы тридцать шесть раз – в «Бриллиантовую подкову» и во всякие такие места.
У каждой фотографии была своя история, и Ида рассказала их все, а Берни создавал музыкальный фон: крутил на старом патефоне ковбойские песни.
Как много энергии мы тратим, закаляя себя на всякий случай, на случай кризиса, который настигает, в общем-то, очень редко: копим силы, способные горы свернуть. Но, возможно, именно эти колоссальные затраты, это мучительное ожидание чего-то, что никогда не происходит, подготавливают нас к самому худшему, помогают с суровым спокойствием встретить зверя, когда тот покажется наконец на тропе. Услышав звук дверного звонка, Грейди безропотно приготовилась встретить судьбу, хотя спокойствие всех остальных (за исключением Клайда, который мыл руки наверху) было подорвано этим звоном, пронзившим их, словно инъекционная игла. Грейди имела полное моральное право встать и уйти в этот момент, но она решила не устраивать дешевых спектаклей, и, когда Ида сказала: «Ну вот и она», Грейди только подняла взгляд на ватагу ангелочков-клоунов и тайком показала им язык.
Глава 6
На другой день, в понедельник, началась страшная жара, которая запомнилась всем надолго. И хотя утренние газеты обещали, что будет просто «тепло и солнечно», к полудню стало уже понятно, что происходит нечто из ряда вон. У изумленных служащих, возвращавшихся после обеда в свои конторы, лица были как у испуганных детей – и они тут же начинали звонить в метеослужбу. Ближе к вечеру, когда жара сомкнула руки на горле своей жертвы, город заметался, забился, но вопль застрял у него в глотке, суета затихла, жизнь замерла, он стал похож на пересохший фонтан, этот никому не нужный монумент, – и впал в кому. Как искалеченные конечности, протягивал Сентрал-парк свои ивовые ветви, исходящие паром: он теперь напоминал поле боя, где полегло множество воинов. Обессилевшие раненые лежали рядами в мертвенно-тихой тени, а между ними, фиксируя катастрофу, с мрачными физиономиями протискивались газетные фотографы. В зоопарке из вольера со львами доносился мучительный рев.
Грейди бесцельно бродила из комнаты в комнату, и на каждом углу ей злобно подмигивали часы – они все стояли, двое показывали двенадцать, еще одни – три, а четвертые – без четверти десять. Обезумев, как эти часы, время струилось в ее жилах – густое, как мед, то и дело замирая, отказываясь течь дальше: тянулось и тянулось, как звучный, берущий за душу львиный плач, приглушенный окнами и потому едва слышный, – она даже никак не могла определить, что это за звук. Из маминой спальни доносился ностальгический, имбирный запах герани, и Люси, усыпанная бриллиантами, в горностаевом боа, закрученном поверх роскошного, шуршащего вечернего платья, словно призрак прошествовала мимо; издалека донесся только ее по-праздничному притворный голос: «Ложись спать, милая, приятных снов, милая», и дополнением к аромату герани были звонкие смех и слава, Нью-Йорк и зима.
Грейди остановилась на пороге великолепной зеленой комнаты, пребывавшей в страшном беспорядке: летние покрывала откинуты, содержимое опрокинутой пепельницы разлетелось по серебристому ковру, в смятой постели рассыпаны крошки и сигаретный пепел; среди простыней валялась рубашка Клайда, его шорты и красивый старинный веер из коллекции Люси. Клайду, который ночевал у Грейди три-четыре раза в неделю, эта комната нравилась, он считал ее своей. Смену одежды он хранил в личной гардеробной комнате Люси, отчего штаны его цвета хаки всегда попахивали геранью. Но Грейди будто не понимала, почему все здесь выглядит как после набега грабителей, и выругалась в адрес комнаты. Лишь одна мысль билась в мозгу: здесь произошло нечто страшное, нечто столь жестокое, за что ей не будет прощения. Она осторожно прошлась по комнате, пытаясь прийти в себя, подняла его рубашку и замерла, прижавшись щекой к рукаву.
Ведь он любил ее, любил, и, пока он любил ее, она не боялась оставаться одна, но вообще-то ей нравилось оставаться одной, даже слишком. Еще в школе, когда все девочки увлекались друг другом и всюду ходили влюбленными парочками, Грейди держалась особняком; лишь один раз она позволила Ноами выразить ей свое восхищение. Ноами, отличница и мещанка до мозга костей, писала ей страстные стихи, даже в рифму, и однажды Грейди разрешила Ноами поцеловать себя в губы. Но Грейди ее не любила: мы редко любим тех, кому не можем хоть в чем-то завидовать, а Грейди могла бы позавидовать только мужчине, а не какой-то там девице. Так что Ноами сначала затерялась где-то в ее мыслях, а потом и вовсе была забыта, как старое письмо, которое так как следует и не прочли. Да, Грейди действительно нравилось одиночество, но, вопреки мнению Люси, отнюдь не предавалась вялой хандре: хандра – слабость существ домашних, ручных от природы. А в Грейди бурлила необузданная жизненная энергия, которая толкала ее на все более дерзкие подвиги, требовавшие все более напряженных усилий. Из-за ее лихачества мистер Макнил получил предупреждение от полиции: дважды ее останавливали на Меррит-парквей, когда она разгонялась до восьмидесяти и выше. Уверяя полицейских, будто она и понятия не имела, что превысила скорость, Грейди не лгала: скорость ее завораживала, отключала рассудок и лучше всего приглушала избыточную чувствительность, из-за которой так больно было общаться с людьми. Слишком уж сильно лупили они по клавишам, и неистовыми аккордами отзывалась ее душа. Взять хотя бы Стива Болтона. Да и Клайда. Но он ведь ее любил. Он любил ее. Вот бы сейчас зазвонил телефон. Может быть, это случится, если я перестану на него смотреть, – так бывает. А что если с ним стряслось что-то ужасное, поэтому телефон и молчит? Бедная миссис Манцер, она плакала, а Ида кричала, а Клайд сказал: иди домой, я позвоню тебе – именно так, слово в слово, и сколько еще она должна мучиться, одна, в окружении замерших часов и звуков города, приглушенных жарой, тающих на оконных стеклах? Она легла на кровать, и ее голова, готовая взорваться, устало утонула в подушках.
– Макнил, господи, в чем дело? Разве звонок не работает? Я уже полчаса стою под дверью.
– Я спала, – ответила Грейди, глядя на Питера разочарованными, припухшими со сна глазами.
Она тревожно метнулась к двери: что если Клайд придет и застанет здесь Питера? Сейчас совсем не время им встречаться.
– И вовсе не обязательно глазеть на меня, как на ночной кошмар, – сказал Питер, дружелюбно протискиваясь мимо нее. – Хотя, должен признаться, именно таким я себя и чувствую. Отвратительный день, я провел его в автобусе, в окружении маленьких бандитов, которые не знали, куда девать энергию, накопленную за две недели на свежем воздухе. Надеюсь, ты позволишь мне принять душ?
Грейди не хотелось, чтобы Питер увидел разгром, учиненный в комнате матери, поэтому, слегка его обогнав, она повела его дальше по коридору.
– Я помню: ты ездил на Нантакет, – сказала она, как только они вошли в ее комнату, где Питер тут же расстегнул свою льняную полосатую рубашку. – Я получила твою открытку.
– Серьезно, я послал тебе открытку? Очень мило с моей стороны. Вообще-то мы хотели, чтобы ты тоже приехала; я звонил тысячу раз, но ты не снимала трубку. Мы катались на паруснике Фредди Крукшенка, и было очень весело. Меня, правда, укусил краб – в такое место, которое я не могу тебе показать, и раз уж о нем зашла речь, отвернись, мне нужно снять брюки.
Сидя к нему спиной, Грейди закурила сигарету.
– Еще бы вам не было весело, – сказала она, вспомнив прошлые годы: летние дни у моря, белые от парусов, с морскими звездами, – совсем другие дни. – Я не выбиралась из города с нашей последней встречи.
– И это видно с первого взгляда. Ты думала, нет? Ты похожа на лилию: на мой вкус, вид у тебя чересчур похоронный.
Питер явно рисовался: его собственное чистое, ухоженное тело обрело цвет чая, а в волосах мелькали солнечные пряди.
– Я думал, ты поклонница отдыха на свежем воздухе, или страсть к природе прошла вместе с юностью?
– Я не очень хорошо себя чувствовала, – ответила Грейди.
И Питер, уже забравшийся в ванную, выглянул, чтобы поинтересоваться, не случилось ли чего серьезного.
– Да нет, что ты. Наверное, это все жара. Ты же знаешь, я никогда не болею.
Правда, вчера… Это случилось в Бруклине; она помнила, как проехала по мосту, потом остановилась перед светофором.
– Правда, вчера я упала в обморок.
И стоило ей это произнести, как внутри у нее что-то перевернулось, оборвалось. Примерно то же самое она почувствовала, когда сигнал светофора начал выписывать спираль, а потом – темнота. Это продолжалось всего мгновение, вообще-то зеленый свет едва успел загореться, но все равно ее оглушили сигналы стоящих сзади машин; извините, сказала она и рванула вперед.
– Я не слышу, Макнил. Говори громче.
– Не обращай внимания. Это я сама с собой разговариваю.
– Уже до этого дошло? Плохо дело. Нам обоим не помешает расслабиться. Бокал-другой мартини, например. Ты помнишь, что не стоит брать для него сладкий вермут? Я тебе много раз говорил, но, по-моему, без толку.
Когда Питер вышел из ванной, весь сверкающий и словно оживший, то обнаружил в комнате перемену: шейкер с неплохим мартини, патефон, играющий «Как приятно обманываться», за стеклянными дверями – закатный фейерверк и прекрасный вид, достойный открытки.
– Жаль, что у меня мало времени, – сказал он, падая на диванные подушки. – Идиотизм, конечно, но я ужинаю сегодня с одним типом, который может пристроить меня на радио, подумать только. – И они подняли бокалы за успех Питера. – Впрочем, за это пить не обязательно, мне и так везет. Вот погоди, к тридцати годам я достигну невероятнейшего успеха, стану трудолюбивым, организованным и буду смеяться над теми, кто обожает валяться под деревом.
Это пророчество не было просто болтовней, в чем Питер, потягивая свой мартини, прекрасно отдавал себе отчет; он сознавал, что такая судьба, возможно, была бы для него самой удачной, ибо втайне он, безусловно, восхищался тем солидным господином, которого только что описал. А Грейди стала бы дамой, у которой есть дивный, весь в цветах, сад, женой, достойной жемчуга на Рождество, занимающей гостей за изысканным ужином. Ее изящество и благородство – лучшая рекомендация мужу. Именно такой Грейди представала в его мечтах, и теперь, глядя, как она доливает ему коктейль, и воображая, что это может продолжаться хотя бы ближайшие пять лет, Питер удивлялся, как же это он прожил лето, ни разу с ней не повидавшись, не позвонив, встречая каждый новый день как очередной шаг к тому заветному дню, когда, утомленная этим, как там его, она наконец обернется к нему и скажет: «Питер, неужели это ты?» Да. Передавая ему бокал, Грейди с беспокойством заметила невольный блеск в глазах Питера и плотоядную складку у рта, столь чуждую его подвижному лицу. Когда их пальцы соприкоснулись, сомкнувшись вокруг ножки бокала, Грейди вдруг осенила нелепая мысль: неужели такое возможно, неужели ты в меня влюблен? Мысль эта пронеслась подобно чайке, которую она прогнала вон: слишком уж странное это было существо, – но настырная птица вернулась и возвращалась снова и снова, и Грейди пришлось всерьез задуматься о своем отношении к Питеру. Итак, она дорожила его расположением, уважала его суждения, ценила его мнение – именно поэтому сейчас она старательно прислушивалась к звукам в коридоре, смертельно боясь, что появится Клайд. И тогда Питер, вынеся свой вердикт, тем самым заставит ее осмыслить то, что она натворила, а у нее не хватило бы духу на это, нет, только не теперь. В комнате сгустились сумерки, и звуки их голосов, мягких, податливых, колебались и вздыхали вокруг; тема разговора, казалось, не имела ни малейшего значения – достаточно было и того, что они говорят на одном языке и видят все в одинаковом ракурсе. И Грейди спросила:
– Питер, как давно мы с тобой знакомы?
Тот ответил:
– С тех самых пор, как ты довела меня до слез. Это был чей-то день рождения: ты опрокинула торт вперемешку с мороженым прямо на мой матросский костюмчик. Ты была очень мерзким ребенком.
– Думаешь, с тех пор я сильно изменилась? Думаешь, ты видишь меня насквозь?
– О нет, – рассмеялся Питер, – и мне бы очень этого не хотелось.
– Боишься, что тогда бы я тебе не понравилась?
– Если бы я заявил, что вижу тебя насквозь, это значило бы, что я не желаю больше с тобой общаться, так как считаю тебя мелкой и скучной занудой.
– Ну, это еще не самые страшные мои пороки.
Силуэт Питера на фоне потемневших от сумерек зеленоватых дверей пошевелился, и блеснули в улыбке зубы, совсем как огни над парком. Питер чувствовал, что Грейди плутует, ведет с ним какую-то призрачную борьбу, у него было такое ощущение, будто они оба, завернувшись в простыни, прыгают по комнате и мутузят воздух. Грейди хочет снять с себя какую-то вину, притом не признавшись, почему у него должны быть причины считать ее виноватой.
– Что же может быть страшнее зануды? – спросил он, и улыбка мгновенно сошла с его лица. – Но раз может, ты очень вовремя пожелала мне удачи.
Вскоре он ушел, и Грейди осталась одна в темной комнате, освещаемой лишь внезапными вспышками зарниц, и все ждала: вот сейчас начнется дождь, а он все не начинался, вот сейчас он придет, а он все не шел. Грейди зажигала все новые и новые сигареты, но не затягивалась; они таяли, зажатые между ее губ, и время, все в терниях, как распятие, ждало вместе с нею и вслушивалось; вслушивалась и она, а он все не шел. Уже за полночь Грейди позвонила вниз и попросила швейцара, чтобы он подогнал машину. Молния перескакивала с тучи на тучу – зловещий, безмолвный гонец, и машина, как грянувший удар грома, колесила по окраинам города, по сереньким деревенькам, спящим мертвым сном. А на рассвете Грейди увидела море.
Оставь меня в покое – так он сказал Иде, когда та пришла к нему на парковку. А Ида сказала: ты что, самый умный, да? Ударил собственную маму, она теперь в постели лежит, ты ей сердце разбил. Не говорю уже о Бекки, а она говорит, ее брат сказал, что убьет тебя. И слушай, я тебя предупредила, а там – как знаешь. Но он ведь маму не бил, Ида говорит так для того, чтобы ему хуже сделать, – или вправду ударил? Ему просто пелена на глаза упала, когда он этих хитрецов увидел в прихожей, и как же он их здорово огорошил! Он сказал им, это моя жена, и как они все стали клясться Иисусом, что ноги его больше в их доме не будет. Будто он не знал, почему они так за него держатся. Конечно, неплохо иметь под рукой лишний кошелек. А любовь… да разве они любили Анну? Правда, если он ударил маму, то ему очень жаль, он так надеялся – Господи, ну пожалуйста, – что не ударил ее. В детстве он постоянно воровал батончики «Бэби Рут» и приносил ей. И еще «Милки уэй»: они держали их в холодильнике, а потом резали тоненькими ломтиками. Мой Клайд – просто ангел, он покупает своей маме конфетки. Мой Клайд станет известным адвокатом. Неужели она думает, что ему нравится работать на парковке? Что он занимается этим ей назло, хотя мог бы быть известным адвокатом, известным кем угодно? Жизнь складывается по-разному, мама. И Грейди Макнил – тоже часть этой жизни. Так уж сложилось. А что Грейди? Она скрылась за дверью, и больше он ее не видел. Баббл посоветовал: оставь в покое телефон, побереги мелочь, она просто стерва. Но она не была стервой, так что получилась полная ерунда; может быть, правда, так вышло потому, что он не пришел в тот день ночевать? Ну и что с того, он пошел в бар, где работал Баббл, и погулял на славу – подумаешь, ведь может же человек иногда побыть сам с собой? И если она собирается и впредь оставаться его женой, пусть привыкает жить по-новому. Для начала она должна съехать с этой квартиры. Он знал один домик на 28-й улице, где они могли бы снять пару комнат. Но куда же она запропастилась? Да сиди ты спокойно, сказал Баббл. Бабблу было за тридцать, он работал барменом в захолустном ночном клубе. Это был армейский приятель. Он совершенно оправдывал свое имя – круглый, лысый, тонкокожий.
Однажды утром, когда жара простояла уже три дня, Клайд проснулся с ощущением, что вокруг его тела обвилась чья-то рука. Он подумал, что рядом с ним Грейди, и его сердце радостно забилось. Детка, позвал он, придвинувшись ближе, родная, как здорово, я очень скучал. Но тут Баббл издал оглушительный храп, и Клайд отпихнул его прочь. Он жил у Баббла: тот снимал меблированную комнату в дальней части города. Внизу была китайская прачечная, и детвора, заморенная изнуряющим солнцем, все время кричала с улицы: китаеза! китаеза! А по утрам иногда приходил шарманщик: вот сегодня, например, – и его грошовые мелодии дребезжали, как монеты, которые домохозяйки кидали на мостовую. Клайд скучал по ней; цветные воздушные шарики и тележки с цветами не давали ему забыться, и он перекатился поближе к краю кровати. Он лежал, лелея ее образ в своих мыслях, лаская себя скользящим движением руки. Брось это дело, сказал Баббл, твоему парню тоже надо немного поспать, – и пристыженный Клайд убрал руку с паха, но Грейди никуда не исчезла, она осталась эфемерной, недовоплощенной. И он вспомнил другую девушку, которую видел в Германии: был весенний день, ясный, безоблачный, он прогуливался за городом и, поднявшись на мост, перекинутый через узкую, словно хрустальную речушку, посмотрел вниз и увидел двух белых лошадей, запряженных в повозку и, казалось, продолжавших скакать под водой. Их поводья опутали руки молоденькой девушки, и ее разбитое лицо тускло мерцало под пляшущей речной рябью. Клайд разделся: он хотел броситься в воду и освободить ее, но испугался. Там она и осталась – эфемерная, недовоплощенная, отнятая смертью, как теперь Грейди была отнята у него жизнью.
Двигаясь на цыпочках по комнате, Клайд собрал свою одежду и выскользнул за дверь. В коридоре стоял телефон-автомат. Он набрал ее номер, но ему, как всегда, никто не ответил. Вокруг Клайда, на нижней площадке, галдела стайка ребятишек: эй, мистер, дай сигарету, и он протолкался сквозь них, размахивая локтями, и одна языкастая язва, худая девчушка в побитом молью купальнике, сказала: эй, мистер, ширинку-то застегни, и побежала за ним следом, тыча пальцем. Господи, прошипел он и схватил ее за плечи: волосы девчушки вспыхнули, взметнулись, рассыпались, а лицо, искаженное ужасом, словно пошло волнами, как у той девушки в реке, словно расплылось, как лицо Грейди, когда он пытался представить себе ее во плоти, целиком, в своей власти, и руки его онемели, он бросился на другую сторону улицы, а дети орали ему вслед: малолеток не замай, не твой размер. А кто, кто ему сейчас по размеру, если он чувствует себя таким жалким и ничтожным?
В «Белом замке» он подсел к барной стойке и заказал апельсиновый сок; для других напитков было слишком жарко. Не то чтобы жара его раздражала, напротив: в такую погоду в Нью-Йорке, покинутом половиной горожан, он чувствовал себя полноправным хозяином. Дожидаясь, пока подадут сок, он закатал рукав и стал внимательно рассматривать свежую жгучую татуировку, опоясавшую запястье на манер браслета. Это случилось позавчера вечером, когда они с Гампом шлялись по городу. Гамп и его чертовы шаманы забили ему пару косяков, а Гампу от марихуаны всегда лезет в башку всякая дрянь, например: я знаю одного типчика, он нам бесплатно сделает шикарную наколку. Да уж, Гамп знал всяких типчиков. Этот жил в квартире без горячей воды на Парадиз-элли, в полном одиночестве, если не считать шестерых сиамских кошек и чучела питона по имени Мейбел. Да, парни, видели бы вы времена, когда Мейбел была жива! Мы были мировая команда, веселились на полную катушку, нас все обожали, даже денежные мешки, а уж дамы и подавно, ха-ха, да уж, весь мир был наш, мы танцевали, все время танцевали, три месяца в одном только Лондоне, Вальдо и Синистра: Синистра – это ее сценическое имя; ах, бедняжка, если бы не эти мерзкие самолеты, она и сейчас бы была жива, даже вспомнить тошно. Понимаете, Мейбел не пускали в самолет. Это случилось в Танжере, нас срочно вызвали в Мадрид. Так вот, я ее вокруг себя обмотал, а сверху пальтишко накинул. И все бы ничего, да только она сжиматься начала, над Испанией уже дело было. Представляю себе, ей-то каково было, бедная моя задыхавшаяся крошка, но я просто помирал, Мейбел сжимала меня все крепче и крепче, и в конце концов я потерял сознание. И пока я был в отключке, они ее распилили пополам, ножиком. Сказали, иначе меня было не вытащить. Мясники поганые!.. Ой, что это я… чего желаете: государственный флаг, цветок, имя возлюбленной? Не, больно вообще не будет.
Но больно было. Г-Р-Е-Й-Д-И: эти буквы, составляющие ее имя, иссиня-красные, горели до сих пор. Он купил флакон масла для кожи младенцев, забрался на открытый второй этаж автобуса, идущего до Пятой авеню, и стал втирать масло в запястье. Он сошел возле Музея Фрика; пройдя вдоль парка под ветвями деревьев, повернул к центру города, обстреливая взглядом поверхность мостовой, выложенной восьмиугольными кирпичами, – старая привычка: вдруг кто-то обронил что-нибудь ценное – деньги, например? Два раза Клайд находил кольца, однажды – двадцатидолларовую купюру, и вот – он наклонился и подобрал пятицентовую монетку. Выпрямившись, он бросил взгляд через улицу и увидел, что уже пришел: вот он, тот самый дом, где живут Макнилы.
А вот и мистер Толстозад – швейцар, весь затянутый в униформу, в белых трикотажных перчатках, да что этот ублюдок о себе думает, что он пыжится как индюк? Ах, мне очень жаль, сэр, но мисс Макнил дома нет, ах нет, сэр, боюсь, никакой записки она не передавала. Но поставить швейцара на место он не мог, разве что только сплюнуть у того за спиной. Он снова перешел на другую сторону улицы и принялся прохаживаться в тени деревьев, туда-сюда, втянув голову в плечи. И тут он увидел Лесли, мальчишку-лифтера, розовощекого херувимчика с сахарными губками. Парнишка бегом кинулся под деревья, в тень: здорово, сказал он, и любовь робко наполнила его взгляд, слушай, я знаю, где она, только ему не говори, что от меня узнал. И парень сообщил, что швейцар пересылал письмо для мисс Макнил к ее сестре, в Истгемптон. Когда Клайд предложил парню полдоллара, тот, казалось, обиделся. А что ты от меня хочешь, чтоб я поцеловал тебя, что ли? – спросил Клайд, и крошка Лесли, уходя восвояси, свирепо прошипел: да ты ваще, что ли? Шутник нашелся!
Клайду казалось, он с ума сойдет – один, на пылающем острове раскаленного гравия; вечер повис над его головой, как набухший масляный пузырь, который все никак не хотел лопнуть; но тут явился Гамп с целой пригоршней настоящих кубинских сигар и бутылкой джина. Гамп был в отпуске, так что они забрались в сторожку при парковке и принялись играть в покер и наслаждаться джином и сигарами. Но Клайд никак не мог сосредоточиться и проиграл на двадцати двух раздачах подряд; в конце концов он бросил карты, встал и с мрачным видом прислонился к дверной притолоке. Вечерние тени колыхались, набегали волнами, надвигалась ночь, и Клайд сказал, слушай, не хочешь со мной прокатиться? На самом деле он просто боялся ехать один.
Все это останется: эти волны, эти розы у моря, роняющие на песок высушенные солнцем лепестки; если я умру – все это останется. Смириться с этой мыслью было трудно. Она встала в полный рост среди дюн и повязала на бедра шарф, но, когда он соскользнул вниз, не стала его поправлять – все равно кругом ни души, и наготу скрывать не от кого. Она стояла на полудиком огромном неухоженном пляже, покрытом полуистлевшими костями древесного плавника. Люди солидные сюда не приходили, предпочитая клубный пляж, хотя некоторые, вроде Эппл и ее мужа, построили рядом дома. Каждое утро после завтрака Грейди собирала себе обед в корзинку и скрывалась в дюнах, возвращаясь лишь когда солнце пряталось в море и остывал песок. Иногда она заходила в воду и смотрела на пену, омывающую ей лодыжки. Она никогда не боялась воды, но теперь всякий раз, когда ей хотелось поплескаться в волнах, ей казалось, что в них таятся смертоносные челюсти или щупальца. Как не могла она окунуться в воду – так не могла и переступить порог комнаты, полной людей. Эппл уже отчаялась уговорить ее пообщаться хоть с кем-нибудь; дважды они ругались из-за этого, особенно серьезно, когда Грейди, собираясь на танцы в Мейдстоун-клаб, уже совсем было оделась, но вдруг передумала и сказала, что останется дома. Эппл тогда саркастически заметила: по-моему, тебе стоит показаться врачу, ты как полагаешь? Грейди могла бы ответить, что уже показалась: доктору Ангусу Беллу, кузену Питера, он работает в Саутгемптоне. После ей представилось, что она знала все гораздо раньше, чем это было возможно, учитывая, что она была только на шестой неделе беременности. Дома она отыскала какую-то книжку по медицине, и по ночам, запершись в комнате, изучала картинки со страшненькими, сжавшимися в кулачок эмбрионами, с кружевными венами, полупрозрачной кожей и неподвижными глазами, – прикрытые, будто во сне, эти глаза насквозь пронзали ее сердце. Когда это случилось? В какой момент? Неужели в тот дождливый день? Да, она была в этом уверена, ведь тогда все было так замечательно: она лежала в постели, укрытая от холодного, туманного дождя, а Клайд откинул одеяло и соединился с ней – нежнее, чем смыкаются два века над глазом. Если я умру (в Гринвиче она часто слышала о Лизе Эш, Лиза была всеобщей любимицей, знала наизусть все песни – и эта самая Лиза Эш истекла кровью в туалете метро), все это останется. И ракушки в волнах прилива, и корабли вдалеке – поплывут все дальше и дальше.