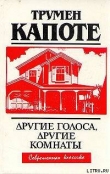Текст книги "Том 1. Летний круиз. Другие голоса, другие комнаты. Голоса травы. Завтрак у Тиффани"
Автор книги: Трумен Капоте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 2
Бродвей – не просто улица; Бродвей – это ее собственный мир, особая атмосфера. Начиная с тринадцати лет, все зимы, проведенные в пансионе мисс Рисдейл, Грейди еженедельно совершала туда тайные вылазки – даже если приходилось прогуливать уроки, что бывало нередко. Сначала ее привлекали джазовые представления в «Парамаунте», «Стрэнде», чудные фильмы, каких не показывали ни в кинотеатрах восточнее Пятой авеню, ни в Стэмфорде, ни в Гринвиче. Ну а в последний год ей больше нравилось просто бродить туда-сюда или стоять на перекрестке, затерявшись в толпе. Так она проводила весь день, порой до самой темноты. Но там никогда не было темно: огни, горевшие и при солнечном свете, в сумерках становились желтыми, а ночью – белыми, а лица – лица, плененные мечтой, казались на Бродвее особенно открытыми. Ее здесь никто не знал, и это тоже приятно будоражило, но поскольку она была уже как бы не она, не Грейди Макнил, а кто-то еще, то и не смогла бы сказать, что за порох питает самые яркие вспышки ее восторгов. Она никогда и никому об этом не рассказывала – о надушенных неграх с жемчужными глазами, о мужчинах в шелковых рубашках или матросках, о буянах и изнеженных щеголях, о мужчинах, которые смотрели, улыбались, шли следом: а вам куда? Некоторые лица, как у той дамы, что меняла деньги в «Никс эмьюзментс», были поистине лицами призраков: зеленоватые тени под зеленоватым макияжем, вечерние скитальцы, похожие на мумий, словно бы парящие в этом карамельном воздухе. Скорее. Печальный рев, бешено рвущийся из дверных мегафонов, вливается в ритм улицы, напрягает все чувства до предела: бежать – прочь от яркого света, от джаза, в естественную, полную тихого безгрешного блаженства тьму… Об этих притягательных страхах Грейди никому не рассказывала.
На одной из боковых улочек, идущих от Бродвея, неподалеку от театра «Рокси», находилась парковка. Безлюдное, неприглядное место, где и взгляду зацепиться не за что, кроме вереницы лавок, торгующих воздушной кукурузой и черепаховым супом. Вывеска у въезда гласила: «Парковка Немо». Останавливаться здесь было дорого, и вообще неудобно, но в начале года, когда Макнилы перебрались из нью-йоркской квартиры в Коннектикут, Грейди, приезжая в город, именно тут оставляла машину.
Как-то в апреле на парковку нанялся молодой парень. Звали его Клайд Манцер.
Еще не доехав до парковки, Грейди принялась его высматривать: если утром заняться было нечем, он иногда шатался в окрестностях или сидел в местном кафе «Автомат» и пил кофе. Но на сей раз его нигде не было видно; не нашла она его и на самой парковке. Был полдень, и от гравия поднимался жаркий запах бензина. Клайд как в воду канул, и все же Грейди прошлась по парковке, нетерпеливо выкрикивая его имя; и чувство облегчения от отъезда Люси, и год или час ожидания встречи с ним – все то, что целое утро держало ее на плаву, в эту секунду вдруг ускользнуло; она наконец сдалась и обреченно замерла под пульсирующим сиянием лучей. Но потом вспомнила, что иногда он устраивается подремать в какой-нибудь машине.
Ее собственный синий «бьюик» с откидным верхом, с коннектикутским номером, на котором были указаны и инициалы владелицы, стоял в самом конце ряда, и еще не дойдя до него, заглядывая в другие автомобили, Грейди уже знала, где нужно искать. Клайд спал на заднем сиденье. Верх у машины был опущен, но она заметила Клайда только сейчас – он весь обмяк и не был виден. На коленях у него лежал открытый детектив; радио тихонько бормотало последние новости. Среди множества чудес, существующих на свете, есть и такое – наблюдать за спящим возлюбленным: пока он не видит, как вы на него смотрите, можно какое-то мгновение держать в руках его сердце. Совершенно беззащитный, в такие минуты он, как это ни глупо звучит, воплощает в себе все то, что вы надеялись в нем найти, – истинное мужество и детскую нежность. Грейди склонилась над ним, заглянула в лицо, и прядь ее волос упала ему на глаза. Тот, на кого она смотрела, был парнем лет двадцати трех, довольно простым и невзрачным. Прямо скажем, идя по Нью-Йорку, таких можно встретить на каждом шагу; впрочем, у этого, в отличие от многих, было гораздо более обветренное лицо, поскольку он почти все время проводил на воздухе. В его фигуре, впрочем, была какая-то ладность и пластичность, а темные, в мелких кудрях, волосы напоминали дорогую каракулевую шапку и очень его красили. Нос с небольшой горбинкой придавал лицу, по-деревенски румяному и не лишенному лукавой сметливости, необычайную мужественность. Его веки дрогнули, и Грейди, чувствуя, как сердце любимого выскальзывает у нее из рук, вся напряглась в ожидании его взгляда.
– Клайд, – шепнула она.
Он не был ее первой любовью. Два года назад, когда Грейди было шестнадцать и у нее только появилась машина, она как-то подвезла молодую пару из Нью-Йорка. Произошло это в Коннектикуте: они искали дом. К моменту, когда они его наконец нашли, – миленький домик, стоящий на земле загородного клуба, рядом с небольшим озерцом, – эти неразговорчивые Болтоны уже не чаяли в Грейди души, она же приняла живейшее участие в их судьбе: с необыкновенным воодушевлением руководила переездом, построила в саду альпийские горки, нашла прислугу, а по субботам играла со Стивом в гольф или помогала ему косить газон. Дженет Болтон – хорошенькая, застенчивая и безобидная, только что окончившая Брин-Морский женский колледж, была на пятом месяце беременности и потому не слишком расположена к занятиям, требующим усилий. Стив был юристом, и поскольку фирма, где он работал, вела дела с отцом Грейди, то Болтонов часто приглашали в «Старое дерево» – так Макнилы нарекли свои земельные владения. Стив плавал в их бассейне и пользовался теннисными кортами. Там стоял дом, прежде принадлежавший Эппл, и миссис Макнил отдала его почти в полное распоряжение Стива. Питер Белл и еще кое-кто из друзей Грейди были не слишком-то этому рады, ибо она общалась только с Болтонами, точнее говоря, она общалась только со Стивом; впрочем, сколько бы времени они вместе ни проводили, ей все казалось мало, и она взяла за привычку иногда ездить в город на том же поезде, что и Стив. На Бродвее она шаталась из одного кинотеатра в другой, дожидаясь вечернего поезда, чтобы поехать вместе со Стивом домой. Но это не успокаивало; она никак не могла понять, почему ощущение восторга непременно должно было превратиться в боль, а теперь и в настоящее страдание. Ведь он знал. Она была уверена, что он знал. Его глаза, следящие за тем, как она пересекает комнату или как она плывет ему навстречу в бассейне, эти глаза знали, но в них не было отпора и недовольства. Так, вместе с любовью, она отчасти изведала и ненависть, потому что Стив Болтон обо всем догадался – и не делал ничего, чтобы ей помочь. И Грейди каждый день творила что-то несусветное: топтала муравьев, мучила светлячков, крепко держа их за крылышки, словно хотела выместить на этих беспомощных тварях злобу на собственную беспомощность, презрение к самой себе. А еще она стала носить совсем легкие платья – выбирала те, что сшиты из самого тонкого материала, и теперь тень от каждого листика и малейшее дуновение ветерка дарили ей ласкающую прохладу; но вот есть совсем не хотелось, ей нравилось только пить кока-колу, курить сигареты и кататься на своей машине, и она страшно исхудала, кожа да кости, легкие платья сидели на ней как какие-то балахоны.
Стив Болтон имел обыкновение плавать перед завтраком в небольшом озерце возле своего дома, и Грейди, узнав об этом, никак не могла успокоиться: проснувшись утром, она представляла себе, как он стоит неподалеку от берега, среди камышей, как диковинная, позолоченная утренними лучами птица. Однажды утром Грейди наконец пошла туда. Возле озера был небольшой сосняк – там-то она и спряталась, прижавшись к земле, покрытой росистыми иглами. Над озером расстилался сумрачный осенний туман: он, конечно же, не придет, слишком долго она ждала, лето пролетело, а она даже не заметила. И тут на тропинке она увидела его – будничного, что-то насвистывающего, в одной руке сигарета, в другой полотенце, на нем был только халат; подойдя к озеру, он стянул его и кинул на камень. У Грейди было такое чувство, будто упала наконец ее звезда – из тех, что, ударившись о землю, не обугливаются, но вспыхивают еще ярче, еще ослепительнее. Грейди приподнялась на коленях, вытянула руки, будто желая прикоснуться, благоговейно поприветствовать его, пока он входит в воду, превращаясь в сказочного великана, которому ничего не стоило бы дотянуться до нее, – и вдруг он абсолютно неожиданно нырнул в глубину под самые камыши. У Грейди, вопреки всем ее предосторожностям, вырвался крик; она скользнула за дерево и обняла ствол, будто тот хранил в себе долю любви Стива, частицу его великолепия.
Ребенок Дженет Болтон появился на свет в конце сезона – осенью, на той самой неделе, пестрой, как перышки фазана, когда Макнилы собрались покинуть «Старое дерево» и переехать в город, в свои зимние апартаменты. Дженет Болтон была на грани отчаяния: она дважды чуть не потеряла ребенка, а ее сиделка победила на каком-то конкурсе танцев и с тех пор вела себя все более и более нахально. Чаще всего она просто не являлась, и, если бы не Грейди, Дженет просто не знала бы, что поделать. Грейди приходила к ней, готовила легкий обед, наскоро прибиралась; а одно из домашних дел ей очень даже нравилось – забирать из стирки вещи Стива и вешать их в шкаф. В тот день, когда родился ребенок, Грейди, придя к Болтонам, увидела, что Дженет вся скрючилась от боли, исходя стонами и криком. Надо сказать, Грейди порою сама не могла понять, что заставляет ее быть по отношению к Дженет такой нежной, такой заботливой. К этому невзрачному существу, которое, как морскую ракушку, можно подобрать, прельстившись ее розовой гофрированной красотой, можно ею любоваться, но никто не станет хранить ее вместе с по-настоящему ценными вещами. В этой скромной непритязательности таились и ее очарование, и ее надежная защищенность, поскольку невозможно было бояться ее или испытывать к ней ревность, – Грейди уж точно ничего подобного не испытывала. Но тем утром, войдя в дом и услышав крик Дженет, Грейди почувствовала удовлетворение. Именно эта жестокость, пусть и неосознанная, помешала ей тут же броситься на помощь: будто все страдания, пережитые самой Грейди, во всей полноте отразились в мучениях Дженет Болтон. Когда Грейди наконец взялась за дело, то справилась со всем очень хорошо: вызвала врача, отвезла Дженет в больницу, потом позвонила Стиву в Нью-Йорк.
Он приехал первым же поездом; они провели весь день в больнице в тревожном ожидании; потом настала ночь, и по-прежнему не было новостей; Стив, выдавивший из себя за весь день пару шуток, неловких каламбуров, забился в угол, и между ними пролегло неодолимое молчание. Казалось, все обыденные огорчения по поводу железнодорожного расписания, служебных дел, платежных квитанций слетели с него, как застарелая пыль. Он сидел и пускал колечки дыма, похожие на нули, и Грейди вдруг почувствовала себя так, будто взмывает в небо, прочь от него, будто тот его, озерный, образ – сказочного великана – отступал, исчезая, и она наконец увидела его настоящего. Это зрелище, бесконечно трогательное, запало ей в самое сердце, потому что он целиком и полностью – и эти устало опущенные плечи, и эта слеза в уголке глаза – принадлежал Дженет и ее ребенку. Охваченная желанием выразить свою любовь – не как к возлюбленному, но как к мужчине, оглушенному любовью и рождением новой жизни, – она подошла к нему. В дверях появилась медсестра; услышав, что у него сын, Стив Болтон никак на это не отреагировал. Потом медленно поднялся и, глядя перед собой невидящими бесцветными глазами, со вздохом, от которого покачнулась комната, уронил голову на плечо Грейди.
– Я самый счастливый человек, – сказал он.
Это свершилось в тот самый момент, ей больше ничего не было от него нужно, семена летних желаний осыпались на зимнюю почву, и ветры унесли их далеко-далеко, прежде чем новый апрель выгнал из них новые бутоны.
– Зажги-ка мне сигаретку.
Голос Клайда Манцера, со сна брюзгливый и, как всегда, чуть охрипший и словно бы ворсистый, имел одно уникальное свойство: что бы Клайд ни говорил, сразу было понятно, какие чувства он вкладывает в свои слова, потому что ощущалась в этом голосе какая-то подспудная мощь, чей напор сдерживался устьем глотки; эта сила пронзала каждый слог мужественностью, как бикфордовым шнуром. При этом Клайд то и дело запинался, а паузы были такими нелепыми, что смысл высказывания куда-то улетучивался.
– Не слюнявь ее, детка. Вечно ты слюнявишь.
Голос Клайда, по-своему неотразимый, мог ввести и в заблуждение: из-за голоса многие считали его дураком, что говорило лишь о том, какие они слепцы: Клайд Манцер был вовсе не дурак, а очень даже смышленый малый, и, чтобы заметить это, не нужно было долго приглядываться. Немудреный курс обучения, который помогает овладеть серьезнейшими предметами – как быстро бегать, где лучше прятаться, как, не тратя ни гроша, ездить в метро, ходить в кино и пользоваться таксофоном, – эти знания, прерогатива дворового детства, обретенные в уличных боях и отчаянных стычках, в которых лишь жестокие и умные, быстрые и смелые имели шанс выжить, – все эти испытания придавали его взгляду яркость и глубину.
– Ну вот, обслюнявила. Черт, я так и знал, что обслюнявишь.
– Я сама ее выкурю, – сказала Грейди и зажгла еще одну сигарету – зажигалкой, которая так поразила Питера своей вульгарностью.
Как-то в понедельник, когда у Клайда выходной, они пошли в тир; там он выиграл эту зажигалку и отдал Грейди. С тех пор у нее завелась привычка давать всем прикурить: было особое удовольствие в том, что ее тайна, обернувшись крошечным огоньком, вспыхивала между нею самой и кем-то еще, кто ничего не знает, но вдруг догадается…
– Спасибо, детка, – сказал он и взял вторую сигарету. – Крошка, ты чудо, ты ее не обслюнявила. Знаешь, просто настроение паршивое. Зря я тут отключился. Сны всякие снились.
– Надеюсь, я тебе тоже снилась?
– Я никогда не помню, что мне снится, – ответил он и потер подбородок, будто раздумывая, не пора ли побриться. – Ну и как, удалось тебе сплавить предков?
– Только что. Эппл попросила, чтобы я подвезла ее домой, да еще один старый друг заявился – словом, сплошная суета, я прямо из порта приехала.
– А я тут жду, когда мой старый друг заявится, – объявил Клайд и сплюнул. – Минк. Знаешь Минка? Я тебе рассказывал, мы в армии вместе были. По случаю того, что ты только что сказала, я попросил его, чтобы он сменил меня тут. Этот ублюдок должен мне пару долларов, ну я и сказал, чтобы подежурил за меня – и тогда мы в расчете. Так что, крошка, – он протянул руку и прикоснулся к прохладному шелку ее блузки, – если он не заявится, – рука мягко скользнула по ее груди, – боюсь, я тут застряну.
Их взгляды встретились, и, пока они смотрели друг на друга, слезинка пота успела скатиться со лба Клайда и пробежать по его щеке.
– Я скучал, – сказал он. И хотел добавить еще что-то, но тут на площадку въехала машина.
В ней оказались три дамы из Вестчестера: они приехали пообедать и посмотреть какой-то дневной спектакль. Грейди осталась в своем «бьюике», ожидая, пока Клайд их обслужит. Ей нравилась его походка – как двигаются его ноги, с неспешной вальяжностью совершая каждый шаг, несколько неуклюже ставя ступни, – походка высокого мужчины, хотя Клайд был не намного выше Грейди. На работе он всегда носил летние штаны цвета хаки и фланелевую рубашку или старый свитер: эта одежда шла ему и оттого смотрелась гораздо лучше, чем костюмчик, которым он так гордился. Но почему-то в ее снах он неизменно появлялся в этом двубортном костюмчике, синем, в тонкую полоску; да что там костюмчик – все ее сны о Клайде были очень и очень странными, лишенными здравого смысла. В этих снах она непременно стояла в стороне и наблюдала, а он всегда был с кем-то еще, с другой девушкой, и они проходили мимо Грейди, презрительно ухмыляясь или делая вид, что не замечают ее, – огромное унижение; но ревность ее была еще сильнее – и это противоречило всякому здравому смыслу. Ее беспокойство, впрочем, было не праздным: она была абсолютно уверена, что пару-тройку раз Клайд ездил куда-то на ее «бьюике», и, однажды оставив машину на ночь, на следующий день она обнаружила между подушек сиденья безвкусно-яркую маленькую пудреницу, точно не ее. Но Грейди ничего не сказала Клайду, только сохранила пудреницу, не упомянув о ней ни разу.
– Ты, часом, не баба Манцера?
Грейди крутила ручку настройки радио, пытаясь найти какую-нибудь музыку, и не услышала шагов; подняв взгляд и увидев мужчину, облокотившегося на капот, она вздрогнула от неожиданности. Мужчина сверлил Грейди глазами, криво ухмыляясь уголком рта, обнажив пару зубов – один был золотым, другой серебряным.
– Слышь, ты ведь баба Манцера, да? Мы твое фото в журнале видели. Такое классное фото – с ума сойти. Винифред, моей подруге – Манцер ведь рассказывал тебе про Винифред? – уж очень оно понравилось. Как думаешь, тот парень, который тебя снимал, мог бы щелкнуть и Винифред? Она бы обалдела от счастья.
Грейди только и могла, что молча смотреть на него, но и это давалось ей с трудом. Этот тип был похож на жирного, в трясущихся складках, младенца, по какому-то недоразумению вдруг выросшего размером с быка: он хлопал глазками и надувал губки.
– Я – Минк, – сообщил он и вытянул из пачки сигарету, которую ему пришлось прикурить самостоятельно, поскольку Грейди в этот момент изо всех сил давила на клаксон, отчаянно сигналя.
Однако ж заставить Клайда поторопиться было невозможно; разобравшись с машиной вестчестерских дам, он возвращался неспешной походкой – так, как ему было удобно.
– И в честь чего этот гам? – спросил он.
– Ну, этот человек… вот, он пришел.
– Думаешь, я не вижу? Здорово, Минк.
Повернувшись к ней спиной, он перевел взгляд на улыбающуюся, похожую на кусок теста физиономию Минка, и Грейди снова принялась сражаться с приемником. Она редко обижалась на выпады Клайда: его несдержанность лишь давала ей повод почувствовать их близость – ведь то, что он позволял себе так дерзить, отражало степень их близости. Она бы, впрочем, предпочла ничего такого не являть перед этим быкообразным младенцем: ты, часом, не баба Манцера? Она, конечно, представляла себе, как Клайд рассказывает о ней друзьям, и даже показывает им ее фотографию в журнале, – это естественно, почему бы и нет? Но представить, что это за люди, разумеется, не могла. Однако лезть на рожон было не время, а потому, пытаясь побороть себя, она улыбнулась и сказала:
– А Клайд боялся, что вы не сможете прийти. Очень любезно с вашей стороны, что согласились нас выручить.
Минк весь вспыхнул, будто она нажала на выключатель – у него внутри. Видеть это было больно, потому что по его изменившемуся лицу Грейди поняла: он почувствовал, что не понравился ей, и его это задело.
– Ну что вы, что вы, как же я могу подвести Манцера. Я бы раньше пришел, все она, Винифред, сами знаете, какая она, у них там забастовка, и она попросила меня приехать, сказать пару ласковых одному большому… гм… извиняюсь.
Грейди беспокойно посматривала в сторону маленькой офисной будки: Клайд ушел туда переодеться, и она с нетерпением ждала, когда же он вернется, и не только потому, что Минк действовал ей на нервы. Расставшись с Клайдом всего на минуту, она уже скучала по нему так, будто они не виделись целую неделю.
– А тачка у тебя отличная, ничего не скажешь. Дядюшка Винифред, который в Бруклине живет, скупает подержанные машины – так вот, зуб даю, он отвалил бы за нее кучу денег. Слышь, а что если нам всем вместе, вчетвером, как-нибудь на танцульки съездить, ты поняла, о чем я?
Тут вернулся Клайд, избавив ее от необходимости отвечать. Под кожаную куртку он надел чистую белую рубашку и галстук, его волосы были расчесаны и разделены каким-никаким пробором, а ботинки сияли. Он встал перед Грейди, не глядя ей в глаза и лихо подбоченившись. Из-за яркого солнца он ужасно хмурился, но всем своим видом вопрошал: ну, как я выгляжу? И Грейди ответила:
– Милый, ты выглядишь просто замечательно!
Глава 3
Пообедать в Сентрал-парке, в закусочной, примыкающей к зоопарку, предложила она. Поскольку квартира Макнилов находилась на Пятой авеню, почти напротив зоопарка, Грейди это место уже давно надоело, но сегодня, обновленное возможностью поесть на свежем воздухе, заведение это казалось просто роскошным. К тому же Клайду все будет в новинку: оказалось, что некоторые части города для него словно затянуты глухой завесой – например, весь район, который начинается от «Плазы» и тянется к востоку. А Грейди этот мир восточной части Парк-авеню был знаком лучше всего: за его пределы она выбиралась лишь изредка – если не считать Бродвея, конечно. Поэтому она решила, что Клайд шутит, когда он сказал, будто и не знал, что в Сентрал-парке есть зоопарк, или просто об этом забыл. Это потрясающее неведение усугубляло загадочность его прошлого, и без того туманного. Грейди знала, сколько человек у него в семье и как их зовут: мать, две сестры (обе работают) и младший брат. Отец, ныне покойный, был сержантом полиции. Где они живут, Грейди знала только примерно: где-то в Бруклине, в доме возле самого океана, куда на метро нужно добираться больше часа. Были еще несколько друзей, чьи имена Грейди слышала достаточно часто, чтобы запомнить: Минк, с которым она только что познакомилась, другого звали Баббл, а третьего – Гамп. Однажды она спросила, настоящие ли это имена, и Клайд ответил: конечно[3].
Но картина, которую ей удалось собрать из этих разрозненных сведений, оказалась слишком невнятной и не заслуживала даже самой скромной рамки: ей не хватало перспективы и прорисовки деталей. Виноват в этом был, разумеется, Клайд – человек не слишком разговорчивый. Но зато он и сам не проявлял особого любопытства. Грейди порой беспокоило такое вот отсутствие интереса: возможно, это просто безразличие? И она добровольно снабжала Клайда информацией о себе. Это не значит, впрочем, что она всегда говорила правду – многие ли влюбленные ее говорят? Или могут сказать? Но она сообщала ему достаточно, и он мог составить себе более или менее точное представление обо всей ее жизни, прожитой вдали от него. У нее, правда, создавалось впечатление, что он не слишком охотно выслушивает ее исповеди: ему хотелось, чтобы она была так же неуловима, так же скрытна, как и он. Впрочем, упрекнуть Клайда в скрытности тоже было нельзя: если она спрашивала о чем-то, он всегда отвечал, но это напоминало попытки заглянуть в окно сквозь жалюзи. (Мир, где они встретились, напоминал корабль, мирно дрейфующий между двух островов, которые и есть они сами: Клайд, приглядевшись, мог различить берег Грейди, а вот его берега были покрыты непроглядным туманом.) Однажды, вооружившись несколько экзотической идеей, она спустилась в метро и отправилась в Бруклин, уверенная, что стоит ей увидеть дом, где он живет, и пройтись по улицам, по которым он ходит, как она тут же его поймет и узнает о нем все, что так ее интересует. Но она никогда еще не бывала в Бруклине, и призрачные, безлюдные улицы, эта низина, простирающаяся вдаль и покрытая мешаниной из безликих бунгало, свободных парковок и безмолвной пустоты, так напугали ее, что, не пройдя и двадцати шагов, она развернулась и бросилась назад, в подземку. Позже она поняла, что с самого начала знала: ничего из этого паломничества не выйдет. Возможно, Клайд, обогнувший острова и отдавший предпочтение уединению на корабле, сам не отдавая себе в том отчета, принял единственно верное решение. Но корабль их, казалось, не стремился ни к какому порту. И теперь, когда они сидели на террасе закусочной, укрытые тенью зонтика, Грейди вдруг снова ощутила потребность очутиться на надежной суше.
Ей хотелось, чтобы было весело, чтобы получился праздник в их честь; так и вышло: тюлени дружно их развлекали, орешки были горячими, пиво холодным. Но Клайд был каким-то зажатым. Он очень серьезно подошел к обязанностям кавалера, сопровождающего даму на прогулку: Питер Белл купил бы воздушный шарик ради смеха, Клайд же преподнес ей его как атрибут незыблемого ритуала. Это было так трогательно и так глупо, что какое-то время Грейди стеснялась смотреть на Клайда. Весь обед она крепко держала шарик, как будто это ее собственное счастье дергалось и подпрыгивало на тоненькой ниточке. Но уже в конце обеда Клайд вдруг заявил:
– Слушай, ты же знаешь, я бы хотел остаться! Но тут всплыло одно дело, и мне пораньше нужно домой. Совсем вылетело из головы, иначе бы я тебя предупредил.
Грейди не дрогнула; лишь закусила губу, прежде чем ответить.
– Очень жаль, – сказала она, – да, действительно, очень обидно. – И с раздражением, которого не смогла скрыть, добавила: – Да, тебе действительно стоило предупредить меня об этом. Я бы не строила никаких планов.
– А чем же ты хотела заняться, детка?
Эти слова Клайд произнес с чуть непристойной улыбкой: молодой человек, который смеялся над тюленями и покупал воздушные шарики, предстал в другом ракурсе, и эта проявившаяся сейчас более жесткая сторона его натуры всегда вызывала у Грейди чувство беззащитности: его дерзость так привлекала, так обезоруживала, что оставалось лишь одно желание – подчиниться.
– Да так, пустяки, – сказала она, тоже с легким намеком на непристойность. – В нашей квартире сейчас никого нет, и я думала, что мы могли бы пойти туда и приготовить ужин.
Она указала ему на окна квартиры, которые были видны с террасы закусочной – идущие вдоль половины фасада и высокие, как башни. Но мысль о том, чтобы пойти туда, похоже, расстроила Клайда: он пригладил волосы и потуже затянул узел на галстуке.
– Тебе когда нужно домой? Ведь не сию секунду?
Он помотал головой, а потом сообщил ей то, что ей хотелось узнать больше всего, – почему он, собственно, должен уйти:
– Это из-за брата. У мальца сегодня бар-мицва, и будет правильно, если я приду.
– Бар-мицва? А я думала, это что-то еврейское.
Внезапно его лицо окаменело. Он даже не взглянул, когда бесстыжий голубь как ни в чем не бывало подобрал крошку со стола.
– Так это действительно что-то еврейское?
– А я еврей. Моя мать еврейка.
Грейди молчала, чувствуя, как удивление от этой фразы обвивает ее, точно лоза; и тут, среди плеска голосов, волнами набегающих с соседних столиков, она осознала, насколько далеко они от берега. Ну и что, что еврей? Эппл могла бы устроить из этого проблему, но Грейди и в голову не пришло бы оценивать человека исходя из этого – тем более Клайда; но тон, которым было сделано признание, не только подразумевал, что ей не все равно, но и лишний раз подчеркивал, насколько мало она его знает. Вместо того чтобы стать четче, картина его жизни еще больше размылась, и Грейди почувствовала, что придется начинать все заново.
– Ясно, – начала она медленно. – И что же, предполагается, что меня это должно беспокоить? Вообще-то мне, знаешь ли, все равно.
– Что значит «беспокоить», черт возьми? Кем ты, черт возьми, себя возомнила? Побеспокойся лучше о себе. Я для тебя ничего не значу!
Старомодная дама с сиамской кошкой на поводке с суровым видом вслушивалась в их разговор. Только ее присутствие заставило Грейди сдержаться. Шарик немного сдулся, его верхушка слегка сморщилась; все еще сжимая его в руке, Грейди выскочила из-за стола, сбежала по ступенькам террасы и пошла по дорожке. Клайд смог нагнать ее лишь через несколько минут, а гнев к тому времени уже испарился – тот гнев, что вывел Грейди из себя и погнал ее прочь. Но Клайд схватил обе ее руки, будто боялся, что она попытается вырваться. Хлопья солнечного света, падавшие сквозь крону, весело порхали вокруг, словно бабочки; на скамейку неподалеку уселся мальчик с патефоном «Виктрола», который он поставил на коленки. Из «Виктролы», извиваясь, подобно угрю, на трепещущий воздух рвалась, скручиваясь в спираль, мелодия одинокого кларнета.
– Нет, ты для меня кое-что значишь, Клайд, и даже больше. Но я не могу в этом признаться, потому что мы с тобой, похоже, все время говорим на разных языках.
Она замолчала: под напором его взгляда все слова становились лживыми, и в чем бы ни состояло предназначение их любви – казалось, известно оно было лишь Клайду.
– Конечно, детка, – сказал он, – все будет как скажешь.
И он купил ей еще один шар, потому что старый сморщился, как высохшее яблоко. Новый шарик был гораздо лучше: белый, в форме кошки, и на нем были нарисованы фиолетовые глаза и фиолетовые усы. Грейди была в восторге:
– Пойдем покажем его львам!
В вольере с кошачьими была кошмарная вонь; по воздуху крадучись бродили сны, все в коросте спертых дыханий и мертвых желаний. Забавно и грустно было смотреть на растрепанную львицу, которая раскинулась в своей клетке, как томная звезда немого кино, а также на ее уморительно-неуклюжего дружка, который пялился на публику, то и дело жмурясь, будто ему не хватало очков с бифокальными линзами. Вот леопард чувствовал себя очень неплохо и пантера: от их развязной походки невольно екало сердце, ведь даже унизительная клетка не в состоянии притушить опасность, сверкающую в их азиатских глазах, этих имбирно-золотых цветах, источающих в сумрак неволи свирепую отвагу. Во время кормежки вольер превращается в грозные джунгли, поскольку служитель с окровавленными руками не всегда бывает расторопен, и его питомцы, ревнуя к тем, кого накормили раньше, кричат так, что трясется крыша и сталь грохочет от алчного рева.
Когда началось это буйство, кучка детей, втиснувшихся между Клайдом и Грейди, принялась толкаться и вопить; но рев все нарастал, и постепенно сорванцы притихли и придвинулись поближе друг к дружке. Грейди попыталась протолкнуться через них; в какой-то момент она случайно выпустила воздушный шарик, и маленькая тихоня с недобрым взглядом схватила его и унеслась прочь: ни воровку, ни само воровство Грейди не очень-то и заметила. Ее всю бросало в жар от утробных звериных воплей, и она думала только о том, как бы добраться до Клайда и, подобно листу, гнущемуся под напором ветра, или цветку, распластавшемуся под ногой леопарда, предать себя его силе. Не нужно было ничего объяснять: дрожащая рука сказала все за нее – как и ответное прикосновение руки Клайда.
В квартире Макнилов, казалось, прошел сильный снегопад: он водворил тишину в больших парадных комнатах, а мебель окутал морозными сугробами: бархат и шитье, благородная патина и непрочная позолота – все было призрачно-белым под чехлами, служащими защитой от летней копоти. Где-то в сумрачной глубине этих снежных покровов звонил телефон.