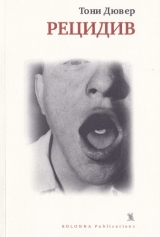
Текст книги "Рецидив"
Автор книги: Тони Дювер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
– На хрен тебе сдался мой зад?
Он не осмелился это сказать и лишь скривился, какие мерзкие у нее пальцы, она без ума от маленьких полушарий, сиськи у нее вдвое больше, чем жопка мальчугана, а какие ямочки! Надо их расцеловать, она усядется сверху и сожмет коленями узкую поясницу малыша, жаль, что они не собачки, а то бы можно вывернуть жесткий, длинный, мохнатый хуй назад и загнать его внутрь до упора.
Парнишка обернулся:
– Я замерз. Мне нужно одеться.
Он сказал это шепотом, боясь, что она ответит лапочка дорогуша хуечек иди я тебя согрею, но ей плевать, ее больше не интересовал этот девственник, больно смотреть он такой милашка сложен на загляденье сладенький точно драже но у него совсем нет сил еле-еле стоит садишься на него будто на ночной горшок всего-навсего легкий перекусон теперь бы побольше
Я приоткрыл дверь, и девка крикнула:
– Скорей, он уже одевается!
Я набросился на парнишку, он, конечно, орал, отбивался. Девка сидела рядом и держала его за руку, словно у изголовья ребенка, которому делают укол, врач быстро все закончил, теперь это в твоих кишках выкручивайся сам, спасибо мадам, я заскочу вечерком, присмотрите за ним
нет прежде чем я на него накинулся шлюха подготовила парня к тому что я буду шуровать у него внутри и ее пизда липко целовалась с моим животом пока ее маленький дружок меня натягивал
с парой лишних банкнот он углубится в этот квартал они проведут ночь в гостинице она ляжет снизу будет худой ее устрица не воняет она не позволит ебать его в жопу тебя оприходовали с одного конца покажи-ка другой
паренек не знал как свалить, не хотелось грубить но дать понять что его не ценят, это так трудно, с залихватским видом он выпалил:
– Пока, мадам!
У здания никого не было, лишь парочка задержавшихся рабочих уходили со стройплощадки. Мне приглянулся один подмастерье, и я подрулил к нему.
Да, это правдоподобное, верное развитие событий, все идеально сходится.
Затем я столкнулся на вокзале с блондинчиком и поболтал с ним перед отправлением поезда или, точнее, встретился с матросом. Это случилось в 11:29, а без пяти двенадцать мы уже были в постели.
После этого я потерял счет времени, потому что снял часы. Чем мы занимались? Да тем, чем обычно занимаются в постели. Он взял бритвенное лезвие и нарисовал у меня на животе красную звезду – пупок в центре. Осторожно лег на меня, и звезда отпечаталась на нем.
Матрос не прибегал к насилию, не бил меня, не прикасался лезвием к моему лицу или члену. Он очень ловко рисовал у меня на коже, было щекотно, и я беспрестанно смеялся – впрочем, эти воспоминания выглядят чересчур игриво, ведь я повествую о самоубийстве.
Итак, я купил пачку бритвенных лезвий. Хватило бы одного, но они не продаются поштучно. Я наелся сэндвичей и шоколада. Вскрыл левое запястье. Крови пролилось немножко – порез неглубокий. Я жадно нащупал вздувшуюся вену на локтевом сгибе, но не решился перерезать.
Точнее, обмотал шею поясом от плаща и крепко затянул. Чем дольше я душил себя, тем меньше оставалось для этого сил. Тогда я начал биться головой о стену. Но разбуженный ударами сосед стал возмущаться. Я снова схватил лезвие и для вдохновения накарябал у себя на животе ту звезду.
Наконец появилась дельная мысль: лечь под шкаф, упереться и приподнять одну его сторону, положить голову под ножку и затем отпустить всю махину.
На мессе мне взгрустнулось. Ему было лет пятнадцать с небольшим: он никогда мне не нравился, но покойников все равно жалко, это повод, достойный предлог. Церковь была красива, если только церковь может быть красивой. Зрелище настолько увлекло моего блондинчика, что он забыл свой детектив на скамейке. Я толкнул его локтем. Он не соизволил ответить. Я задумался, что же я здесь делаю, раз не интересую его. Я приподнял крышку гроба и тайком сбежал со своих похорон. Никто не заметил.
Пора было уходить: у меня свидание с белокурым мальчишкой. Весь вымытый и причесанный, он волновал запахами лаванды, зубной пасты, брильянтина, наверняка мечтая, чтобы его поскорее растлили. Я не люблю чистоту, доведенную до этих ароматных крайностей. Мне пришлось бы удерживать мальчика пятнадцать часов без мытья; тогда бы его тело вновь заблагоухало тухлыми выделениями, отличающими всех миловидных и целомудренных подростков.
Досадно, что в тот день я еще не встретил его. Мы познакомились лишь позднее, и ему вовсе не хотелось, чтобы я целовал, ласкал, буравил его, ну и прочих неясностей, коими преисполнялся мой взор.
Но, хотя ребенок и присутствовал на моих похоронах, они были преждевременными: вероятно, мне так и не удалось покончить с собой. К счастью, я без малейшего труда выстрою иную версию событий.
Мальчонка у реки без единого слова позволил до себя дотронуться. Когда я пришел, он купался нагишом; затем, по взмаху руки, вышел из воды вместе со своими товарищами.
Они обступили меня, гадая, есть ли у меня бабки. Паренек пощупал мой член, и они рассмеялись, но едва я велел раздвинуть ему ягодицы, пришлось показать деньги. Слишком много не потребовалось. Они мигом оттаяли; Старший трахал меня, пока я ебал его маленького дружка.
В былые времена я коротал жизнь в столицах нищеты, где ребята достаются задешево, так как обнаружил, что крайняя бедность и исключительное богатство смягчают нравы. Мальчик-проститутка занимает привилегированное положение среди бедняков: он обладает красотой, которую продает и перепродает, отсрочивая свою кончину.
Меня могут упрекнуть в оппортунизме. Но это не помешает мне покупать на свою маленькую зарплату сказочные оргии, рискуя тем, что меня публично унизят, ограбят или обдерут. Я полагаю, что у этой откровенности есть хорошие стороны, и, смирившись с репрессиями, буду высасывать брюхо у тех, кто высасывает кости и даже лишается приятных поводов для ненависти, если рядом нет педерастов, которым они продают потоки своих чресл, а также свои мордашки, в них я узнаю собственную скорбь, ведь голодающие так похожи друг на друга, хотя некоторых и презирают больше прочих.
Ах, если б мы стали на одно лицо, подцепив у них какую-нибудь болячку! Тогда я поселился бы там, жил с ними их жизнью, и продажные тела связались бы братскими узами. Я тоже торговал бы собой или, скорее, мой инстинкт жителя Запада и христианина пробудил во мне талант сутенера, что обеспечило бы комфортное воспитание и сексуальные льготы.
Я бы устроил для себя гарем из детей, подростков и юношей, состарился там, обрюзгший и красномордый, и перецеловал столько губ, отдуплил столько жоп, принял в себя столько спермы, что превратился бы в огромного жирного будду со сморщенным хуйком, спрятавшимся под пузом. Когда же, наконец, не останется ни одного ребенка, которого я не осквернил, и ни одного мужчины, чей член не засунул в свои глубинные складки, я умру, и изо всей этой протухшей спермы на моей могиле вырастут огромные лилии, в которых приютятся лобковые вши.
Так я достигну еще на этом свете нашей главной цели: презираемый, эксплуатируемый и унижаемый по примеру других, я пройду через весь тот ад, ничтожной причиной которого был.
Он взял сдачу, пачку сигарет и вошел в зал ожидания. Никого.
Он снял защитную пленку, открыл пачку, вытащил сигарету и вставил в правый угол рта, поискал спички, нащупал коробок в левом кармане брюк, расстегнул плащ, слегка вытянул ноги, чтобы ткань отлипла от кожи, и засунул правую руку в соответствующий карман, достал какой-то предмет, снова застегнул плащ, оставив нижнюю пуговицу расстегнутой, провернул колесико зажигалки, вдохнул огонь с первой затяжкой, выдохнул дым через ноздри, экономно расходуя топливо, хоть это было незаметно на расстоянии, убрал спичечный коробок в левый карман плаща, сорвал самую нижнюю пуговицу, скрестил ноги
увидел, как вошел блондинчик четырнадцати с половиной лет, с необычайно заурядным лицом, который сел перед ним и посмотрел в упор
торопливо затянулся несколько раз сигаретой
заметил, что бесцветный подросток встал, еще раз посмотрел в упор и толкнул дверь зала ожидания
пошел за ним
приблизился к бесцветному подростку вплотную
страшно захотелось объяснить ему свои противоестественные наклонности и пригласить в туалет
беспричинно чихнул
испепелил мальчика взглядом
подождал, пока на этом необычайно заурядном лице, находящемся в двадцати шести сантиметрах, не появятся гримаса, улыбка либо намек, которые помогут отважиться на предосудительный шаг
внимательно рассмотрел того, кто в стянутом на талии плаще, с погонами, украшенными металлическими застежками
того, кто с белой кожей, румяными щеками и лоснящимися губами, напоминавшими закругленный плод
того, кто с красивыми, не слишком короткими ножками
того, кто с хулиганистым видом
того, кто, стройный и прямой, с по-детски выгнутыми чреслами – в тайне надеялся все же удовлетворить свои противоестественные наклонности
подумал, что они будут верными, страстными любовниками, супругами, изменниками, наподобие тех, что должны вызывать просвещенный восторг современной публики
вспомнил, что у пятнадцатилетних подростков обычно принято завязывать непорочную школьную дружбу, каковую омрачит лихорадочное взаимное изучение их полнокровных юношеских тел в безрассудных и пламенных объятьях
признался себе, что слишком любит мальчиков и не ограничится тем, чтобы снять штаны лишь с одного, пусть даже бесцветного подростка
решил убедить ребенка, что их любовь будет вечной, воспользоваться завоеванным доверием, дабы насладиться мальчиком и, как подлый совратитель, бросить его, раздувшегося от этих действий, в течение двух часов
удивился, что ребенок направился к метро, поскольку это означало, что они в Париже, тогда как мы представляли их в другом месте
рассудил, что следует сейчас же вернуться назад, ведь туалеты в метро не такие удобные, как на вокзалах, и насквозь провоняли дезодорантами зажиточных пидоров
рассердился, что множество медлительных прохожих мешают обратиться к малышу
снова чихнул без видимой причины
последовал за малышом до подземного перехода на станцию
прочитал на лице блондинчика внезапное изумление и обратил взор туда, куда смотрел бесцветный отрок
и тоже удивился, но ничем этого не выдал.
Дело в том, что перед каждым составом люди прыгали на пути и ложились на рельсы.
Люди орали, а проносящийся поезд оставлял от них мокрое место. Другие пассажиры отпихивали трупы, укладывались сами, и новый состав разрубал их на куски. Иди ко мне белокурая моя лапушка, сказала ребенку толстая дама. В этот знаменательный день своей кончины она натянула красные шерстяные чулки, дабы скрыть варикозные вены, так как хотела умереть весело – юное и современное самоубийство, последний писк моды. Иди ко мнее моя лапууля идиже зоолотце дай мне свои гууубки, умоляла взопревшая толстая дама.
– Они с ума сошли! – Шепнул мне мальчуган. Я обрадовался, что наконец-то завязался разговор.
Прибыл состав. Толстую даму разорвало прямо у нас перед носом. Открылись двери. Мы сели. Двери закрылись. Поезд тронулся и затрясся. Затем он долго и плавно катился.
На каждой станции слышался гул голосов, сквозь который доносились бульканье и хрипы выживших.
– Их нужно прикончить, – сказал ребенок.
– Скверно все организовано.
Кровь, хлеставшая из раздавленных тел, мало-помалу поднималась. Она затапливала самоубийц и уже добралась до перрона. Кверху всплывали пузыри – синие, опаловые, розовые. Мы увлеченно рассматривали их в окно. Когда мы соприкоснулись щеками, я воспользовался этим, чтобы поцеловать его, но он не отреагировал. Теперь пассажиры не решались спускаться на рельсы, боясь утонуть или подхватить заразу. На поверхности плавали туфли и булавки для галстука. Состав наконец тронулся.
Афиши. Выход наружу. Свежий воздух. Они выбрались на бульварное кольцо. Поблизости лес.
Листва оттягивала ветви. Солнце пускало желтые лучи. Весна.
Осень. Высились голые деревья. Стояла ночь. Земля отяжелела, точно губка.
Малыш повел меня в здание, предназначенное под снос. Он хорошо его знал и жил там, невзирая на антисанитарию. Он показал мне лестницу в подвал.
Мы прошли первый полуподвальный этаж и остановились на уровне земляного потолка, там воняло помойной ямой. Лабиринт коридоров привел нас в самый дальний, самый темный закуток – какую-то келью. Его укрытие. Там лежали свечи, матрас, одеяло, жратва.
Он сообщил, что это последний вечер: завтра здание окончательно снесут. Он заночует здесь.
Он снял плащ, туфли, брюки, трусы и улегся на матрас. Показал пальцем на ржавый стальной прут полутора метров длиной. Слегка повернулся на животе и задрал верхнюю одежду.
Не хотелось орудовать стальным прутом. Жалко было увечить столь нежную плоть. Но я смущенно представил, с каким удовольствием улегся бы здесь, если бы она кровоточила.
На его коже не было синяков, а на пруте – крови: значит, его еще ни разу не били. Я не стал ругать его за эти фантазий, просто сказал, что хочу заняться сегодня ночью другим. Он расстроился. Но мои крепкие зубы и сильные кулаки его утешат.
Словно трущаяся о ноги кошка, он ластился лицом к моему члену, шлифовал шею, затылок, прижимался ушами. Неясное тепло его глаз над моей головкой и ресницы моргающих век.
Показался его закругленный язык. Свеча померкла. Если я не смогу видеть его лицо, удовольствия поубавится. Я зажег другую свечу.
Его волосы отливали в моей шерсти звездным блеском. Я спутывал пальцами широкие локоны и курчавое руно.
В паху у меня висела голова: я бы мог выйти на улицу лишь с нею вместо одежды, и все бы завидовали этому золотому затылку.
Затем я повалил его, укусил между ляжками и почувствовал на языке кровь. Он не вскрикнул и не стал сопротивляться. Я отпустил его. Он весь покраснел. В глазах стояли слезы – слезы мальчиков, которым в древности расплющивали камнями мошонку, чтобы сделать их евнухами.
Я рассматривал его смятую рубашку, засаленный воротник, вырванные пуговицы; его волосы, которые он убирал с глаз. Но тело его гордилось.
Он полностью разделся.
Он развернул на матрасе моток колючей проволоки, узкой и длинной. Я догадался, что он замыслил; не буду ему мешать. Меня душил смех – таким комичным казалось орудие пытки. Но потом я вспомнил про вес собственного тела и представил, как эти острия впиваются в кожу малыша и сдирают ее при каждом движении моего живота.
Он приблизился – и тут же подпрыгнул: порезал пятку об осколок стекла. Не вытирая кровь, присел на корточки у кровати.
Он осторожно лег. Лицо его сильно побледнело. Проволока исчезла под мальчиком. Особенно жестким было первое соприкосновение: щека, ляжки, живот. Едва колючки уперлись и закрепились, стало не важно, царапают ли они или протыкают: я начал ебать. Мое поразительно мягкое ложе заставило забыть о скрывавшихся под ним шипах.
Он не хрипел, не пыхтел. Лишь побелел. Он выгибался, чтобы не ободрать член, изредка приподнимался на локтях и опускался вновь.
Мы бились головами, он поранил щеку о металлические острия: наконец закричал.
Я отступил. Мальчик неподвижно лежал на матрасе, не дыша и не стеная.
Я ухаживал за больным, за разбойником, снятым с креста перед положением во гроб. Я усадил его. Забросил колючую проволоку подальше. Жалкая полоска синеватых точек, кровянистых угрей, протянувшаяся от грудной клетки до ляжек. Эти мелкие следы несопоставимы с той пыткой, которой он себя подверг. Сильно кровоточила только правая щека: кровь скрывала очертания ран.
Глаза его впали и погрустнели, рот закрылся, плечи опустились. Но гладкий и белоснежный член напрягся.
Я уложил ребенка на спину и облизал его кровоточащую щеку. Мне понравились его страдания; и мне также нравилось ласкать отметины.
Я отсосал ему. Он почти сразу кончил быстрыми струями, которые я постепенно глотал. Я держал во рту его член, тот потихоньку обмяк, слегка брызнул, но не уменьшился, а лишь уснул.
Нас окружал запах подвала – грязного одеяла, матраса, катакомб, нечистот, отработанной смазки, мочи; мы будто ночевали в корзине старьевщика. От всего его тела – пальцев, лица, живота – исходили приторные испарения; они улетучивались, смешиваясь с пресным запахом спермы, который смягчался густым потом под мышками и в складках кожи.
Хотелось ли ему говорить? Я забыл, что завтра подвал разрушат. То был прощальный вечер.
Я лишний. В пригородах он отыщет другие заброшенные дома с глубокими подвалами; под развалинами, травой, пылью он будет по-прежнему зажигать свечу и смотреть на огонь. Я знал все о его жизни, любовных связях, одиноких играх в этой норе; о ночи, к которой он прислушивался, безразличный к моему присутствию, погруженный в собственное тело.
Он не спал. Его грудь медленно и равномерно вздымалась. Когда я встал, он даже не шевельнул головой.
Он встретит рассвет в одиночестве. Я оставлял идеальный белый труп.
Уличные фонари горели тускло. Ехали машины, автобусы; ни одного прохожего. Я замешкался на минуту перед зданием, вспомнив о раненом, лежавшем на втором подвальном этаже, но тут же поспешил прочь.
Я повернул обратно, спустился по лестнице, нашел ребенка. Он согласился выйти со мной.
Улицы были пустынны. Светила только луна. Жалюзи на витринах опущены. Малыш заметил:
– Все в метро. Там удобнее кончать с собой.
– Да, по дешевке.
Я решил понести его на руках. Он был измотан и заснул.
Я поправил его свесившуюся на грудь голову. По пути я снова возжелал это хрупкое тело.
Мало-помалу зажегся свет, мимо проезжали машины, встречались пешеходы.
Мы вошли в гостиницу.
Я уложил его на свою кровать; он отвернулся и насупился на подушке.
Я прижался к нему. Закрыл глаза, и в мозгу всплыл образ: свернувшийся клубком парнишка, сжатый у головы кулак, пухлые и лоснящиеся плечи, приоткрытые губы, за резцами острый язык. Я долго думал об этом, но затем сонные волны, исходившие от его теплого тела, затопили и меня.
Когда я проснулся, влажный рот касался моей шеи, а легчайшие волосы щекотали мне лицо. Прежде чем разлепить веки, я понюхал эту шевелюру и напряг мышцы под изгибами и округлостями другого тела. Заключив меня в объятья, ребенок прижался к моему животу и груди.
Я не смел шелохнуться.
Он спал спокойно и неподвижно; лишь слегка подрагивали губы.
Наконец он зашевелился и проснулся. Едва заметив меня, резко встал, оделся и хлопнул дверью.
Я вернулся на вокзал. В вышине напротив касс висело табло с информацией об отправлении поездов; внизу – зеркальная стена. Я увидел в ней долговязого, опасливого парня с непроницаемым лицом. С трудом узнал самого себя. Я отвернулся и взял билет для выхода на перрон, чтобы отправиться в зал ожидания.
Хотя лил дождь, когда он вышел с завода, в нос ударила пыль. Он повел свой мопед за руль.
На багажник поставил спортивную сумку с рабочей одеждой и прислонил мопед к стене у дороги.
Он причесался. Лило как из ведра. Но он все же закурил, ведь он два часа промечтал о том, как затянется на улице сигаретой, подумав тогда еще блядский ливень носа наружу не высунешь, а потом увидел отражение своего красивого лица в жирном кафеле цеха, и стало не по себе.
Он сел на мопед, мы выставили руки под дождь, помедлили.
– Ну что, поехали?
Он быстро покатил вниз.
– Мы же решили. Плевать!
Я приволок мотоцикл, вывел его на дорогу.
Он поехал впереди, понесся стремглав, он разобьется, как пить дать у этой блондиночки шило в жопе. Он живет в деревушке в пяти километрах от завода, в каком-то пригороде. Город опоясан заводом. Между ними захолустье, купы невзрачных халуп, картофельные поля, мусоросжигатель и лесок, где летом встречаются пидорки. Они зарабатывают на этом немного бабла. Их не щемят. Я тебе, а ты мне, баш на баш: если зажопят, они платят. Есть такие, что просят о пустяке: потрогать за ширинку, пощупать яйца, полизать сраку – эти-то платят больше всех.
Возможно, он понял, что его пасут, если очертя голову помчался на мопеде.
Пыль. Затвердевая и спрессовываясь, она превращается в стены и дорогу, стволы деревьев и влажную траву. Рассыпаясь и блуждая, несется по тротуарам, лижет вам ноги, обметает окна, помалу поднимается, чернит небо, улетучивается и снова падает на землю. Запыленные люди, глаза, ступни, лохмы, белье, еда, супруги и покойники. После каждого дождя она выступает кругляшами, мокротой, прыщами, стекающей накипью на стенах, угольными лужами во дворах. Весь город выстроен из этой подавляющей грязи, без пыли не было бы ни домов, ни жителей, ни колымаг. Как полновластная хозяйка, она осыпается с высоты соборов, дремлет на трамваях, чахнет в пригородных палисадниках, и четвероногие пенсионеры сажают в пыли хилые примулы. Ею намазывают пузо, подтираются, харкают во время секса, это не земля, а толченое стекло, металлолом, лысые шины, опилки, шнурки, гнилые зубы, стертый в порошок помет, растоптанные пластмасски, сажа, зола, рассыпавшиеся книжки, разложившиеся собачьи и раздробленные птичьи тушки, стариковские кости; когда в пыли есть земля, у нее бархатистый, привлекательный вид, ее кладут в суп вместо масла, и после того как суп доедят, на дне остается вкусный глинистый осадок.
Но дождь промывает глаза, и все кажется чистым.
Теперь с обеих сторон проносились платаны. Ливень слегка поутих. Мне не хотелось слишком скоро догонять мопед, мы отыскали местечко получше, перед самым лесом, у старого музыкального киоска, там есть погребок, мы влезли через люк сбоку, ни лестницы, ни света, прыгнули в темноту, летом они здесь делали нам минет.
Он скрылся за двумя поворотами. Я прибавил газ, сгорбился, наклонился, сжал ляжки, и вот снова мопед, мы сразу притормозили, сохраняем дистанцию, он не должен нас узнать, он курил, выпуская голубые облачка, клубы табачного дыма то слева, то справа – куда ветер подует, после него в воздухе еще висели клочья, белесый табачный дым напомнил, как хвастливо он уселся на своего железного коня, его смазливую мордашку мы подправим ножичком, сто пудов он слышал нас за спиной.
Мы были в раздевалке, я нес всякую ахинею, как мы зашибали в лесу бабки с тапетками, он обозвал нас педрилами, а я не стерпел, даже если так, это наше личное дело, мы еще подсунем тебе за «бабские хари».
Я затаил эту мысль, чтобы он не догадался, потом мы поболтали, он рассказал, что какие-то типы все время к нему пристают, он бы мог заработать сколько угодно бабла, но только не с нами и не таким способом, еще вчера вечером на вокзале, и это был не мерзкий старикан, а такой же чувак, как мы, блондиночка вассала что мы тут же вскочим ей на спину знаю я его когда ему страшно он разевает пасть белеет выпучивает венки как жертва аборта весь обмякает и слабеет пидорасы наводят на них ужас когда он в таком состоянии самое время завалить его на землю и от души выебать в жопу чтоб он потом дня три не мог нащупать очко, но он вдруг начал выделываться сказал какого рожна вам нужно отвалите от меня я не из вашей пидорской шатии, так вот он изысканно выражается, детективов обчитался.
Дождь вступил в зрелую фазу. Удовольствие кончилось, пора было прятаться. Я повернул обратно.
Длинные железные створки заводских ворот закрыты. Я пошел вдоль стены. Домá жались друг к дружке, в сыром воздухе витали ароматы капусты и шмурдяка.
Пойти к вокзалу или найти укрытие и заночевать здесь? Увязаться за каким-нибудь сорванцом или довериться судьбе в зале ожидания? Если ливень не прекратится, я сделаю мгновенный выбор.
На листве деревьев лежали бесчисленные капли дождя. Мальчик показал мне одну: его глаза и щеки отражались в ней, точно в выпуклом зеркале. Он передвинулся; лицо уменьшилось, быстро скользнуло по прозрачной округлости и остановилось у водной кромки. Веки моргнули. Затем зеркало опустело.
Паренек пошевелился, его лицо показалось вновь, искаженное и увеличенное. Вскоре я видел лишь светящийся кружок под коромыслом брови, похожий на светлую точку в глубине колодца, где тонет полуденный луч.
Не обращая внимания на мальчика, я взял каплю двумя пальцами и раздавил.
Желтый солнечный свет вдруг покраснел, затем посерел: луна в вышине налилась голубой кровью и поплыла.
Сад расцвел. В сумерках я различал узкие аллеи со склоненными ветвями. Я прошел через сад и добрался до фруктовых деревьев; стволы отбрасывали на траву тени, я их пересекал.
Я уткнулся в высоченную стену, но сумел влезть на нее и спрыгнул с той стороны. Скатился в заросли крапивы. Затем двинулся дальше. Кусты стали гуще. Я продолжал путь, раздвигая ветки. Колючки доходили до плеч, трава – до бедер.
Растительность поредела. Я спустился широким, цветущим склоном в долину, где текла река с ивами по берегам. Светило утреннее солнце. Я уселся на погруженный в воду корень.
Его лицо проступало сквозь рябь, и, наклонившись, я мог бы до него дотронуться. Но отпрянул. Тело мальчика опустилось на самое дно, стало крошечным и блестящим, как ракушка в стеклянном шаре. Затем его отражение размножилось во столько же раз, сколько дождевых капель на моем оконном стекле; переливаясь справа налево, отражение исчезло; я услышал, как парнишка сел в вагон. Я вышел из своего купе, чтобы встретиться с ним. В металлических стенках коридора не было никаких отверстий – ни окон, ни дверей: пропала даже дверь купе, откуда я только что вышел. Поезд тронулся. Мне захотелось сойти. Передо мной тотчас возникла дверь. Я спрыгнул. Паренек, разумеется, уже стоял на перроне.
Я рассеянно взглянул на раздатчиков поцелуев (сплошь дряблые, щекастые рожи с толстыми обвисшими губами) и в последний раз отправился в погоню за мальчиком. Я должен был окликнуть его, объясниться, но он удалился, исчез и
Мотоцикл внезапно газанул и обогнал мопед; обе машины пару секунд ехали наравне. Возможно, все трое переговорили.
Затем мотоцикл занесло на скользком шоссе, или же он умышленно врезался в другую машину, и та перевернулась вместе с водителем. Послышался краткий вскрик.
Мотоцикл затормозил. Пассажиры слезли, положили машину на обочине, подбежали к жертве, вытащили ее из-под мопеда и загнали его в заросли.
Пострадавшим оказался невысокий белокурый мальчик с тонким лицом, лет четырнадцати-пятнадцати. Двое подростков на мотоцикле подняли его за руки и ноги и отнесли в лес.
Миновав завод, я пошел по длинному проспекту, с деревьев капало после дождя. Вскоре они сменились зданиями, витринами, автомобилями. Еще немного, и показался вокзал.
По вестибюлю разгуливали холодные сквозняки. Я взглянул на табло отправлений и узнал, что до ближайшего поезда еще много времени. В зале ожидания никого не было – не считая молодого матроса, совсем еще мальчишки, дремавшего поодаль.
У него шла носом кровь, одежда порвалась, кожа местами содралась, но, похоже, никаких серьезных увечий. Нападавшие открыли рядом с киоском люк, и один туда проник. Второй, оставаясь наверху, помог ему спустить пострадавшего, а затем тоже спрыгнул. Люк закрылся.
Они принесли с собой электрический фонарик. В этом подвале округлой формы, с низким потолком и бетонным полом хранились железные стулья, кабели, приставные лестницы, канистры с бензином, метлы, лопаты и прочий дорожный инвентарь.
Они выдвинули стул и усадили пострадавшего.
Размотали несколько метров кабеля и привязали ступни мальчика к стулу; также обмотали его грудь и связали ему за спинкой руки.
Оглушенный падением мальчик стал приходить в себя, но глаза не открывал. Запекшаяся в ноздрях кровь мешала дышать, и он распахнул рот. Губы и подбородок покрывала корочка из кровяных сгустков, смешанных со слюной.
Двое других решили заткнуть ему рот носовым платком. Мальчик не мог дышать носом и тотчас начал задыхаться. Он громко пыхтел, мычал, отбивался, получил оплеуху и захрипел громче. После удара кулаком в челюсть он свесил голову и отключился.
Он вышел из вокзала вместе с матросом. Они углубились в лабиринт улочек и шагали довольно долго. Простая вывеска на подоконнике гласила: «Гостиница».
Они растерялись. Мальчик по-прежнему был без сознания, вызывал жалость; носом снова шла кровь. Похоже, они утолили свой гнев. Возможно, им захотелось развязать парнишку, уложить, поухаживать за ним, отвести домой.
Один из подростков потрепал ребенка за волосы, потрогал затылок, пощупал предплечье.
В уголке они заметили канистры с бензином. Опрокинули пару на бетонный пол вокруг стула и открыли остальные.
Выбравшись из подвала, они швырнули в люк спичку – на специально пролитую дорожку бензина, соединенную с большой лужей и канистрами. Захлопнули люк и бросились наутек.
Выйдя на обочину, они обождали под деревьями, пока проедут машины, подняли мотоцикл и сели на него. За спиной у них прогремел взрыв.
На рассвете матрос встал. Он перевернул паренька на спину и ласково сложил его руки и ноги, как на надгробии.
Убрал постель, снял простыню, встряхнул и накрыл ею товарища. Пропитавшие простыню запахи испарились.
Улегся не покрытую белым фигуру. Он был голый и слегка дрожал.
Он лежал на животе мальчугана, свесив голову и расслабившись. Разомлевшему от этого тепла пареньку померещилось, будто его похоронили заживо.
Матрос начал легкими движениями ластиться к фигуре, его хуй затвердел. Он просунул руки под спину мальчика.
Сжал его в объятьях, словно четыре стены камеры пыток. Руки малыша должны были выпростаться из-под савана и обнять матроса, который, возможно, потом сбежит.
Он искусал полотно, пытаясь отыскать плечо мертвеца. Упершись головой, приподнялся и задрал простыню до пупка.
В предрассветных сумерках он сотворил чудо. Раздвинул ноги малыша, встал между ними на колени, быстро смочил плевком анус, надавил хуем и вошел.
Он застыл, оцепенел, словно боялся порвать мертвую плоть. Его твердый хуй был соединявшей два тела артерией.
Ему нужно было представить эту смерть, чтобы целиком зарыться в теплых внутренностях – одиночество, отвергнутое живым. Затем он сможет уйти.
Он долго оставался в этой позе, с закрытыми глазами и отяжелевшим членом. Наконец отвалился. Поправил ноги паренька и откинул саван до ступней. Затем, повернувшись к кровати, он довел себя до оргазма рукой, словно бросив первую горсть земли на гроб.
1965–66. 1974, вторая редакция
ПЕРЕПИСЫВАЯ И ПЕРЕЧИТЫВАЯ «РЕЦИДИВ»
Занятно, что любовь к мальчикам ассоциируется с насилием.
Габриэль Мацнефф, «Шестнадцатилетние монахи»
Всякое новое произведение […] это, в конечном счете, разрушение предыдущего.
Ален Роб-Грийе, «От нового романа к новой автобиографии»
Тони Дювер, автор десятка гомоэротических художественных произведений, лауреат премии Медичи 1973 года[2] , опубликовал свой первый роман «Рецидив» в 1967 году. Семь лет спустя он переписал его, и сокращенный вариант книги вышел в 1976 году. Аллен Тайер сравнил «Рецидив» с прозой Жана Жене, какой она могла бы стать, перепиши ее Ален Роб-Грийе. Первая книга одного из самых агрессивных французских писателей-гомосексуалов, провозгласившего себя «педогомофилом», была обойдена вниманием критики. В единственном на сегодняшний день исследовании, посвященном «Рецидиву», Джон Филлипс[3] опирается на работу Оуэна Хиткота о непрерывном конструировании и деконструировании гомосексуальности и гомосексуальной среды. Филлипс называет роман Дювера «гомотекстуальным». Отсутствие интереса критиков к этому произведению, беззастенчиво пропагандирующему педерастию, а порой и сексуальное насилие, Филлипс объясняет тремя причинами: скромные продажи – всего 2000 экземпляров первого опубликованного варианта и меньше 3000 второго; затворничество Дювера – пересылая по почте свои рукописи Жерому Лендону, он избегал прямых контактов с ним и другими сотрудниками редакции «Минюи»; а также общая маргинализация гомосексуальной литературы во Франции.








