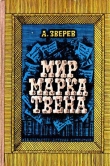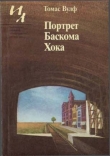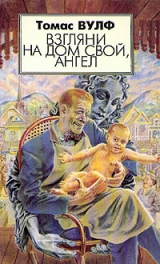
Текст книги "Взгляни на дом свой, ангел"
Автор книги: Томас Вулф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
XIV
Сливовое дерево, черное и ломкое, жестко покачивается на зимнем ветру. Тысячи его веточек замерзли и обледенели. Но весной, гибкое и отяжелевшее, оно согнется под бременем плодов и цветов. Оно снова помолодеет. Красные сливы созреют и будут отчаянно приплясывать на коротких черешках. Они будут лопаться и падать на жирную, теплую, влажную землю; когда в саду подует ветер, в воздухе замелькают падающие сливы; ночь будет полна перестуком их падения, а огромное птичье дерево будет петь, давать новые ростки, пышно расцветать и наполнять воздух еще и звонкими, стряхивающими сливы птичьими трелями.
Грубая горная земля оттаяла, увлажнилась, стала мягкой, идут обильные дожди, юная нежная травка, точно редко растущие волосы, полосками покрывает землю.
Лицо моего брата Бена, думал Юджин, похоже на чуть пожелтевший обломок слоновой кости; его высокий белый лоб покрыт узлами ярости, потому что он хмурится, как старик; его рот похож на нож, его улыбка – отблеск, пробегающий по лезвию ножа. Его лицо как лезвие, и как нож, и как отблеск света; тонкое, и яростное, и навеки прекрасно нахмуренное, а когда его твердые белые пальцы и хмурые глаза впиваются в вещь, которую он хочет починить, он резко и сосредоточенно дышит длинным острым носом. Вот почему женщины, взглянув на него, проникаются глубокой нежностью к его заостренному, шишковатому, всегда хмурому лицу; волосы у него блестят, как у маленького мальчика, они курчавятся и скрипят, как листья салата.
Бен выходит в апрельскую предутреннюю тьму улиц. Ночь вся в ярких проколах прохладных и нежных звезд. Под порывистым ветром шумит листва сада. Бен неслышно выходит из спящего дома. Его худое светлое лицо темно в пределах сада. Под распускающимися цветками пахнет табаком и кожаной обувью. Его коричневые тупоносые башмаки музыкально позванивают в пустых улицах. Лениво плещет вода в фонтане на площади; все пожарные спят, но Большой Билл Меррик, доблестный полицейский с кабаньими багровыми щеками, жадно чавкает мясными пирожками, запивая их кофе в закусочной «Юнида». На улицу мощными волнами льется теплый приятный запах типографской краски, поезд, гудя и завывая, уносится на весенний Юг.
Разносчики газет проходят в сумраке мимо фруктовых садов. Медно-коричневые ноги негритянок в темных лачугах сонно сгибаются на постелях. Звонко ворчит и бормочет ручей.
Новенький, номер шестой, услышал, что ребята обсуждают Рыжего.
– Кто этот Рыжий? – спросил номер шестой.
– Рыжий – сволочь, номер шестой. Смотри не попадайся ему.
– Сукин сын изловил меня на прошлой неделе три раза. У грека. Хоть бы давали поесть спокойно.
Номер третий вспомнил утро пятницы – его маршрут включал Негритянский квартал.
– Сколько, номер третий?
– Сто шестьдесят два.
– Сколько у тебя мертвых душ, сынок? – цинично спросил мистер Рэндолл. – Ты когда-нибудь пробовал собирать с них задолженность? – добавил он, листая книгу.
– Он с них берет натурой, – сказал Рыжий, ухмыляясь. – Недельную подписку даром за порцию.
– Ты-то чего лезешь? – воинственно спросил номер третий. – Ты сам-то шесть лет с ними путался.
– Спи хоть со всеми подряд, – сказал Рэндолл, – только приноси деньги. Бен, сходи-ка ты с ним в субботу.
Бен беззвучно и цинично усмехнулся в пустоту.
– Бог мой! – сказал он. – Вы хотите, чтобы я схватил этого жулика за руку? Он уже полгода вас обкрадывает.
– Ну, ладно, ладно! – с досадой сказал Рэндолл. – Вот ты и найди доказательства.
– Бога ради, Рэндолл, – презрительно сказал Бен. – У него в книге значатся черномазые, которые уже пять лет как умерли. Вольно же вам брать любого малолетнего мошенника, который попросит работы.
– Если, номер третий, ты не наладишь дела, я отдам твой маршрут другому, – заявил Рэндолл.
– И пожалуйста, отдавайте. Плевать я хотел, – грубо ответил номер третий.
– Бога ради! Нет, только послушать, – сказал Бен, усмехаясь, кивая своему ангелу и хмурым движением головы указывая на номера третьего.
– Да, только послушать! И я то же говорю! – задиристо объявил номер третий.
– Ну ладно, мальчик. Беги-ка разноси свои газеты, пока цел, – сказал Бен, спокойно меряя его хмурыми глазами. – Ах ты, сопляк! – добавил он с глубоким отвращением. – У меня есть младший брат, который стоит шестерых таких, как ты.
Весна легко окутывала землю, точно душистый газовый шарф; ночь была прохладной чашей сиреневой мглы, полной свежих запахов сада.
Гант спал тяжелым сном, и оконная рама сотрясалась от его глубокого скрипучего храпа; коротко, взрывчато грохоча, вспарывая сиреневую ночь, поезд номер Тридцать шесть начал подъем на Салуду. Паровоз беспомощно топтался на месте, как козел, его колеса бешено вращались на рельсах. Том Клайн внимательно смотрел вниз на молочно клубящуюся речку и ждал. Паровоз заскользил, завертел колесами, удержался и медленно, как напрягшийся мул, двинулся наверх, в темноту. Том удовлетворенно высунулся из окна и посмотрел вперед – звездный свет тускло поблескивал на рельсах. Он принялся за толстый бутерброд с маслом и холодным жареным мясом, отхватывая большие куски и оставляя на хлебе клейкие следы больших черных пальцев. Прохладный, медленно скользящий мимо мир пахнул шиповником и лавром. Вагоны горбато залязгали на гребне; у стрелки угрюмо стоял стрелочник в смутном желтом свете будки, опасно примостившейся над обрывом.
Расставив локти на краю окна и задумчиво пережевывая мясо, Том выпучился на стрелочника. Они в жизни не обменялись ни единым словом. Потом он молча повернулся и взял бутылку из-под молока, до половины наполненную холодным кофе, которую протянул ему кочегар. Он запил еду большими спокойными булькающими глотками, точно епископ.
Подгнившее красное крыльцо дома номер восемнадцать по Вэлли-стрит, скользкое от желтой грязи, задрожало. Сложенная вчетверо свежая газета, которую швырнул номер третий, шмякнулась о дверь и жестко упала на ребро, точно небольшой брусок из легкого дерева. В комнате за дверью Мей Корпенинг заворочалась во всей своей наготе, что-то одурманенно бормоча, и ее тяжелые медно-коричневые ноги медленным шелком зашуршали в спертом тепле постели.
Гарри Тагмен закурил «Кэмел» и глубоко втянул дым в свои мощные, пропитанные типографской краской легкие, наблюдая, как опускается талер печатной машины. Его обнаженные по плечо руки были такими же мускулистыми, как его машины. Он с удовольствием опустился в свое покорное скрипучее кресло и, откинувшись, небрежно просмотрел теплый, душно пахнущий лист. Пышный голубой дым медленно струился из его ноздрей. Он отшвырнул лист.
– Черт! – сказал он. – Ну и макет!
Бен, угрюмо хмурясь, спустился по лестнице и побрел к холодильнику.
– Бога ради, Мак! – раздраженно крикнул он верстальщику, хмурясь под приподнятой крышкой. – Неужто у вас никогда ничего не бывает, кроме лимонада и кислого молока?
– А чего вам надо, черт подери?
– Я бы иногда не прочь выпить кока-колы. Знаете, – добавил он язвительно, – старик Кэндлер все еще изготовляет ее в Атланте.
Гарри Тагмен бросил сигарету.
– Это известие еще не дошло до них сюда, Бен, – сказал он. – Придется тебе подождать, пока не уляжется волнение по поводу капитуляции Ли. Идем! – вдруг скомандовал он, вставая. – Заглянем в «Жирную ложку».
Он сунул свою большую голову в глубокую чашу умывальника и подставил под теплую струю широкую шею и синевато-бледное нездоровое лицо человека, работающего по ночам, – сильное, суровое и насмешливое лицо. Он намылил руки густой пузырчатой пеной – его мышцы медленно извивались, точно большие змеи.
Могучим баритоном участника квартета он запел:
Берегись! Берегись! Берегись!
Много смелых сердец глубина поглотила!
Так берегись! Береги-ись!
Они со вкусом отдыхали в теплой беспредельной усталости затихшей типографии; на втором этаже комнаты редакции, залитые зеленовато-желтым светом, раскинулись, точно расслабившиеся после работы люди. Мальчишки-разносчики разошлись по своим маршрутам. Помещение, казалось, дышало медленно и утомленно. Напоенный зарей воздух овевал прохладой их лица. Небо на горизонте становилось жемчужным.
Жизнь в сиреневом мраке пробуждалась странными резкими обломками. Наполняя стуком копыт звонкую улицу, могучая гнедая кобыла миссис Гулдербилт тащила и тащила вперед позвякивающий кремово-желтый фургон, уставленный по самый верх бутылками с густым, особо жирным дорогим молоком. Возница, молодой деревенский парень со свежим цветом лица, благоухал запахом свежего пота и молока. Восемь миль по росистым, звездным полям и лесам Билтберна, высокие кирпичные ворота с английской сторожкой и – город.
В отеле «Писга» напротив вокзала негромко скрипнула последняя дверь; крадущиеся шаги ночи смолкли; мисс Бернис Редмонд дала негру-швейцару восемь долларовых бумажек и решительно отправилась спать, распорядившись, чтобы ее не будили до часу дня; маневровый паровоз стучал вагонами на путях; за билтбернским разъездом Том Клайн дал гудок, размеренный и печальный. К этому времени номер третий разнес сто сорок две из своих газет, – чтобы обойти остальные восемь домов Орлиного тупика, ему нужно было только подняться по скрипучим деревянным ступенькам на обрыве. Он с тревогой поглядел на восток через раскинувшийся по горам и долам Негритянский квартал – за перевалом Бердсай небо было жемчужно-серым, и звезды словно тонули в нем. Времени осталось маловато, подумал он. У него было мясистое лицо блондина – бледное, густо заросшее золотистым пушком. Подбородок у него был длинный и толстый, срезанный к шее. Он провел языком по растрескавшейся выпяченной нижней губе.
Четырехцилиндровый семиместный «хадсон» модели 1910 года с нарастающим ревом пьяно рванулся от тротуара перед вокзалом, вылетел на ровное протяжение Саут-Энд-авеню, где негры еще спали, – тут обычно проводили состязания пожарные, – и помчался к городу со скоростью почти пятьдесят миль в час. Вокзал тихо заворочался во сне: под пустыми навесами прокатывалось негромкое эхо, деловито стучали молотки по вагонным колесам, по каменному полу зала ожидания металлически пощелкивали каблуки. Негритянка сонно выплеснула воду на каменные плиты и начала лениво и сумрачно водить по полу серой набухшей тряпкой.
Теперь была половина шестого. Бен вышел из дома в сад в двадцать пять минут четвертого. Еще через сорок минут проснется Гант, оденется и разведет утренний огонь в камине и плите.
– Бен, – сказал Гарри Тагмен, когда они вышли из расслабившейся редакции, – если Джимми Дин еще раз начнет командовать в типографии, пусть ищут для своего поганого листка другого печатника. Какого черта! Я могу получить работу в «Атланта конститьюшен», как только захочу.
– А сегодня он приходил? – спросил Бен.
– Да, – ответил Гарри Тагмен. – И тут же ушел. Я сказал ему, чтобы он убирался наверх.
– Бога ради! – отозвался Бен. – А что он сказал?
– Он сказал: «Я же редактор! Я редактор этой газеты». – «А мне плевать, – сказал я, – будь вы хоть соплей президента. Если хотите, чтобы газета сегодня вышла, держитесь подальше от типографии». И будьте покойны, он убрался!
В прохладном жемчужно-голубом сумраке они обогнули угол почтамта и пошли наискосок через улицу к закусочной «Юнида» № 3. Это был узкий зал, в двенадцать футов шириной, втиснутый между оптическим магазином и сапожной мастерской, которую содержал грек.
Внутри на табурете сидел доктор Хью Макгайр и терпеливо, по одному, насаживал большие бобы на зубцы своей вилки. В воздухе вокруг него плавал густой запах кукурузного виски. Его плотные искусные руки мясника, обросшие волосами по самые пальцы, крепко сжимали вилку. Лицо с обвислыми щеками было покрыто большими коричневыми пятнами. Когда Бен вошел, он обернулся, по-совиному заморгал и в конце концов сфокусировал на нем взгляд выпученных, налитых кровью глаз.
– Здорово, сынок, – сказал он своим лающим добродушным голосом. – Чем могу помочь?
– О, бога ради! – сказал Бен, презрительно усмехаясь и дернув головой в сторону Тагмена. – Нет, только послушать!
Они сели у ближнего конца стойки. В эту минуту в закусочную вошел «Конь» Хайнс, гробовщик, похожий – хотя он вовсе не был худым – на скелет, облаченный в черный сюртук. Его длинный выпяченный рот по-лошадиному раскрылся в профессиональной улыбке, открыв крупные лошадиные зубы на белом, густо накрахмаленном лице.
– Господа, господа, – сказал он без всякой видимой причины, энергично потирая узкие руки, словно было холодно. Его ладони постукивали друг о дружку, как высохшие кости.
Коукер, специалист по легким, который с сардоническим интересом следил за тем, как Макгайр гарпунит бобы, теперь извлек длинную сигару из своего черепа и, зажав ее в темных пальцах, похлопал соседа по плечу.
– Нам лучше уйти, – слегка ухмыльнулся он, кивнув в сторону «Коня» Хайнса. – Если нас увидят вместе, это могут дурно истолковать.
– Доброе утро, Бен, – сказал «Конь» Хайнс, присаживаясь справа от него. – Ну как, все у вас здоровы? – прибавил он негромко.
Бен искоса хмуро поглядел на него, затем рывком повернул голову к раздатчику, и по его губам пробежал горький отблеск.
– Доктор, – сказал Гарри Тагмен с заискивающей почтительностью, обращенной ко всему врачебному сословию, – сколько вы берете за операцию?
– Какую операцию? – секунду спустя рявкнул Макгайр, пронзив еще один боб.
– Ну… аппендицита, – сказал Гарри Тагмен, потому что ничего другого ему в голову не пришло.
– Триста долларов после того, как вскроем брюшную полость, – сказал Макгайр и, закашлявшись, отвернулся.
– Вы тонете в своих выделениях, – сказал Коукер с желтой усмешкой. – Как старуха Слейден.
– Господи! – воскликнул Гарри Тагмен, ревниво подумав об упущенной новости. – Когда она преставилась?
– Сегодня ночью, – ответил Коукер.
– Черт, очень грустно, – сказал Гарри Тагмен с большим облегчением.
– Я только что кончил ее обряжать, – мягко сказал «Конь» Хайнс. – Одна кожа да кости. – Он с сожалением вздохнул, и на мгновение его вареные глаза увлажнились.
Бен отвернул хмурое лицо, как будто его тошнило.
– Джо! – сказал «Конь» Хайнс с профессиональной шутливостью. – Налейте-ка мне кружечку этой бальзамировочной жидкости. – Он мотнул своей лошадиной головой в сторону кофеварки.
– О, бога ради! – с отвращением пробормотал Бен. – Вы хоть руки моете перед тем, как пойти сюда? – раздраженно воскликнул он.
Бену было двадцать лет. Мужчины не замечали его возраста.
– Не хотите ли холодной свинины, сынок? – спросил Коукер со своей злокозненной желтой усмешкой.
Бен поперхнулся и прижал руку к животу.
– Что случилось, Бен? – тяжело засмеялся Гарри Тагмен и хлопнул его по спине.
Бен встал с табурета, взял свой кофе и кусок коричневого мясного пирога и сел с другого бока Гарри Тагмена. Все засмеялись. Тогда он, еще больше нахмурившись, мотнул головой в сторону Макгайра.
– Черт побери, Таг, – сказал он. – Они нас взяли в тиски.
– Вы только его послушайте, – сказал Макгайр Коукеру. – Одна порода. Я принимал этого мальчика, выходил его от тифа, помог его старику выкарабкаться из семисот запоев, и за все мои хлопоты меня с тех пор на восемнадцать ладов обозвали сукиным сыном. Но пусть у кого-нибудь из них заболит живот, – добавил он с гордостью, – и вы увидите, как быстро они ко мне прискачут. Верно, Бен? – спросил он, поворачиваясь к нему.
– Нет, только послушать! – сказал Бен, раздраженно смеясь, и погрузил в кружку острое лицо. Его горечь наполнила закусочную жизнью, нежностью, красотой.
Они смотрели на него пьяными добрыми глазами – на его серое презрительное лицо и на отблеск улыбки одинокого демона.
– И я вам еще кое-что скажу, – объявил Макгайр, тяжело поворачиваясь к Коукеру. – Если кого-нибудь из них придется резать, вы увидите, кто этим займется. А как по-твоему, Бен? – спросил он.
– Черт побери, Макгайр, – сказал Бен. – Если вы когда-нибудь соберетесь меня резать, уж я позабочусь, чтобы вы перед этим перестали выписывать кренделя.
– Идемте, Хью, – сказал Коукер, толкая Макгайра под лопатку. – Перестаньте гонять бобы по тарелке. Ну-ка, сползайте или валитесь с этого проклятого табурета, мне все равно.
Макгайр, погрузившись в пьяную задумчивость, бессмысленно уставился на свои бобы и вздохнул.
– Да идемте же, дурень! – сказал Коукер, вставая. – У вас через сорок пять минут операция.
– О, бога ради! – сказал Бен, отрывая лицо от коричневой кружки. – Кто жертва? Я пришлю цветы.
– …все мы рано или поздно, – пыхтел Макгайр сквозь припухшие губы. – Богатые и бедные равно. Сегодня жив, а завтра умер. Не имеет значения… никакого значения.
– Ради всего святого! – раздраженно крикнул Бен Коукеру. – Неужели вы позволите ему оперировать в таком виде? Почему бы вам их просто не перестрелять?
Коукер оторвал сигару от длинного, малярийно усмехающегося лица.
– Но ведь он только немного разогрелся, сынок, – сказал он.
Перламутрово-жемчужный свет омывал край сиреневой темноты; границы света и темноты стежками ложились на горы. Утро, как жемчужно-серый прилив, катилось по полям и склонам, быстро вливаясь в растворимую тьму.
Молодой доктор Джефферсон Спо остановил свой «бьюик» у тротуара и вылез, щегольски стягивая перчатки и отряхивая шелковые лацканы смокинга. Его раскрасневшееся от виски лицо с высокими скулами было красиво; прямогубый рот был жестоким и чувственным. Его окружал ореол наследственного пота кукурузных полей – лишенный запаха, но телепатически явный; это был принаряженный горец, отполированный клубами и Пенсильванским университетом. Четыре года, проведенные в Филадельфии, меняют человека.
Небрежно сунув перчатки в карман, он вошел. Макгайр по-медвежьи соскользнул с табурета и сфокусировал на нем непослушные глаза. После чего махнул им всем толстой рукой.
– Поглядите, пожалуйста, – сказал он. – Может быть, кто-нибудь знает, что это такое?
– Это Перси, – сказал Коукер. – Вы же знаете Перси Ван дер Гульда?
– Я всю ночь протанцевал у Хильярдов, – изящно сообщил Спо. – Черт побери! Эти новые лакированные туфли совсем изуродовали мне ноги.
Он сел на табурет и изящно выставил свои большие деревенские ноги, непристойно широкие и угловатые в бальных туфлях.
– Что он делал? – недоуменно переспросил Макгайр, обращаясь за пояснением к Коукеру.
– Он всю ночь протанцевал у Хильярдов, – жеманно сказал Коукер.
Макгайр пугливо заслонил ладонью опухшее лицо.
– Раздавите меня! – воскликнул он. – Я виноградная гроздь. Всю ночь танцевал у Хильярдов, ах ты, проклятая горная свинья! Развлекался с девочками в Негритянском квартале, вот что ты делал. Нас не проведешь!
Их бычий хохот слился с перламутровой зарей.
– Лакированные туфли! – сказал Макгайр. – Изуродовали ему ноги! Черт побери, Коукер, когда он десять лет назад явился в город, на нем и штанов-то не было. Его пришлось повалить на спину, чтобы натянуть на него башмаки.
Бен сухо усмехнулся своему ангелу.
– Пару ломтиков поджаренного хлеба с маслом, и, пожалуйста, не слишком пересушенных, – вежливо сказал Спо раздатчику.
– Ты хотел сказать – свиных шкварок с просом, сукин ты сын. Ты же вырос на солонине и кукурузных лепешках.
– Мы для него уже слишком вульгарны и грубы, Хью, – сказал Коукер. – Теперь, когда он начал напиваться в избранном обществе, его засыпают приглашениями. О нем все такого высокого мнения, что он стал официальной повитухой всех беременных девственниц.
– Да, – сказал Макгайр. – Он их лучший друг. Он помогает им опростаться. И не только опростаться, но и снова забрюхатеть.
– Ну и что тут плохого? – спросил Спо. – Мы ведь должны сохранять все это в тесном семейном кругу, верно?
Их смех воем ворвался в нежную зарю.
– Разговор становится для меня слишком соленым, – сказал шутливо «Конь» Хайнс, вставая с табурета.
– Пожми-ка руку Коукеру прежде, чем ты уйдешь, «Конь», – сказал Макгайр. – Такого хорошего друга у тебя еще никогда не было. По-честному, ты должен был бы выплачивать ему авторские.
Свет, наполнивший теперь мир, был мягким и потусторонним, как свет, который наполняет подводные просторы Каталины, где плавают большие рыбы. Полицейский Лесли Робертс в расстегнутом мундире косолапо возник из подводного жемчужного света и остановился, горбя спину с ноющими почками. Тихонько помахивая позади себя дубинкой, он всунул исхудалое, налитое желчью лицо в открытую дверь.
– Вот вам и пациент, – шепотом сказал Коукер. – Полицейский, страдающий запорами.
А вслух они все с большой сердечностью осведомились:
– Как поживаете, Лесс?
– Терпимо, терпимо, – меланхолично ответил полицейский и, такой же обвислый, как его усы, пошел дальше, сплюнув в канаву большой комок мокроты.
– Ну, желаю вам доброго утра, господа, – сказал «Конь» Хайнс, собираясь уходить.
– Не забывайте, что я вам сказал, «Конь». Будьте любезны с Коукером, вашим лучшим другом. – Макгайр ткнул большим пальцем в сторону Коукера.
Под тонким слоем добродушия гробовщик затаил обиду.
– Я понимаю это, – сказал он торжественно. – Мы оба принадлежим к благородным профессиям – в час смерти, когда разбитый бурями корабль входит в тихую гавань, Всемогущий возлагает на нас особую миссию.
– «Конь»! – воскликнул Коукер. – Какое красноречие!
– Священный обряд закрытия глаз, благолепного расположения членов и приготовление для погребения безжизненного вместилища отлетевшей души – таков наш высокий долг; нам, живущим, поручено излить бальзам на разбитое сердце Горя, утолить печаль вдовы, отереть слезы сироте; это нам, живым, дано…
– Правительство народа, для народа и именем на рода, – сказал Хью Макгайр.
– Да, «Конь», – сказал Коукер, – вы правы. Я растроган. И более того: мы делаем все это даром. Во всяком случае, – добавил он добродетельно, – я никогда не ставлю в счет утоление печали вдовы.
– А как насчет бальзамирования разбитого сердца Горя? – спросил Макгайр.
– Я сказал – «бальзам», – холодно заметил «Конь» Хайнс.
– Послушайте, «Конь», – сказал Гарри Тагмен, который слушал с большим интересом. – Вы ведь как будто уже произносили эту речь прошлым летом на съезде гробовщиков?
– Что было истиной тогда, остается истиной и теперь, – горько сказал «Конь» Хайнс и вышел из закусочной.
– Черт! – сказал Гарри Тагмен. – Мы его допекли. Я думал, у меня кишка лопнет, доктор, когда вы проехались насчет бальзамирования разбитого сердца Горя.
В эту минуту доктор Рейвнел остановил свой «хадсон» по ту сторону улицы у почтамта и быстро пошел через мостовую, снимая на ходу кожаные перчатки. Он был без шляпы, его серебристые аристократические волосы слегка растрепались; его хирургические серые глаза беспокойно вглядывались в толстые линзы очков. У него было знаменитое, спокойное, глубоко серьезное лицо, чисто выбритое, пепельное, худое, изредка озарявшееся умной улыбкой.
– О, черт! – сказал Коукер. – Вот грядет Наставник.
– Доброе утро, Хью, – сказал Рейвнел, входя. – Вы опять проходите тренировку для сумасшедшего дома?
– Посмотрите, кто здесь! – гостеприимно взревел Макгайр. – Дик Мертвый Глаз. Эрудированный костоправ, владеющий лучшей в мире частной коллекцией желчных камней. Когда ты вернулся, сынок?
– По-видимому, как раз вовремя, – сказал Рейвнел, аккуратно держа сигарету между длинными хирургическими пальцами. Он поглядел на часы. – Если не ошибаюсь, через полчаса вы должны быть в Рейвнеловской больнице. Не так ли?
– Черт побери, Дик, ты никогда не ошибаешься! – в восторге возопил Макгайр. – И что же ты им сказал, мальчик?
– Я сказал им, – ответил Дик Рейвнел, чья привязанность была подобна цветку, выросшему за стеной, – что лучший хирург в Америке, когда он трезв, – это паршивый бездельник Хью Макгайр, который вечно пьян.
– Погоди, погоди! Минуточку! – сказал Макгайр, поднимая толстую ладонь. – Я протестую, Дик. Намерения у тебя были самые лучшие, сынок, но ты все перепутал. Ты же хотел сказать: лучший хирург в Америке, когда он нетрезв.
– Вы прочли какой-нибудь доклад? – спросил Коукер.
– Да, – сказал Дик Рейвнел. – Я прочел доклад о раке печени.
– А доклад о пиоррее ногтей на ногах? – спросил Макгайр. – Его ты им не прочел?
Гарри Тагмен тяжело захохотал, сам толком не зная, почему. В наступившей тишине Макгайр громко рыгнул и на мгновение потерял нить.
– Литература, литература, Дик! – провозгласил он внушительно. – Она погубила не одного прекрасного хирурга. Ты слишком много читаешь, Дик. «А Кассий тощ, в глазах голодный блеск». Ты слишком много знаешь. Буква убивает дух, как тебе известно. А я… Дик, ты когда-нибудь видел, чтобы я вынул то, чего не вложил бы обратно? Во всяком случае, я всегда оставляю им что-то для дальнейшего, ведь так? Я не ученый, Дик. У меня никогда не было твоих возможностей. Я мясник-самоучка. Я плотник, Дик. Обойщик. Я механик, водопроводчик, монтер, мясник, портной, ювелир. Я драгоценный камень, неотполированный алмаз, Дик. Я практический человек. Я вытаскиваю их механизм, поплевываю на него, подчищаю грязные края и посылаю их жить дальше. Я экономничаю, Дик. Я выбрасываю все, чем не могу воспользоваться, и использую все, что выбрасываю. Кто сделал Папе копчик из сустава его же пальца? Кто научил собаку выть? Ага! Вот потому-то губернатор и выглядит так молодо. Мы набиты ненужными механизмами, Дик! Целенаправленность, экономичность, энергия! Есть у вас в доме фея? Ах, нет! Так употребляйте чистоль «Золотые Близнецы»! Вот спросите Бена – он знает!
– Бог мой! – сухо усмехнулся Бен. – Нет, только послушать!
Через две двери, прямо напротив почтамта, Пит Маскари с гофрированным громом поднял железные ставни своей фруктовой лавки. Жемчужный свет прохладно лег на архитектурные сооружения из фруктов, на пирамиды краснобоких зимних яблок, на резкую желтизну флоридских апельсинов, на лиловые гроздья винограда, уложенные в опилках. Из лавки донесся душноватый аромат лежалых фруктов – дозревающих бананов, яблок в ящиках – и кислый запах пороха: витрины были заполнены римскими свечами, букетами ракет, огненными колесами, кургузыми зелеными «Веселыми озорниками», членовредительскими «Джеками Джонсонами», красными шутихами и крохотными, едко пахнущими пакетами бенгальских огней. Свет на мгновение озарил пепельную трупность его лица, жидкий сицилийский яд его глаз.
– Не трогай виноград. Бери бананы!
В сторону площади проехал трамвай, выкрашенный к весне в игрушечную зеленую краску.
– Дик, – сказал Макгайр, немного трезвея, – сделайте сами, если хотите.
Рейвнел покачал головой.
– Я буду ассистировать, – сказал он. – Оперировать я не буду. Таких операций я боюсь. Это ваша работа, трезвы вы или пьяны.
– Убираете опухоль из женщины, а? – спросил Коукер.
– Нет, – сказал Дик Рейвнел. – Убираем женщину из опухоли.
– Держу пари, она весит ровно пятьдесят фунтов, – внезапно сказал Макгайр с профессиональным интересом.
Дик Рейвнел еле заметно поморщился. Прохладный порыв юного ветра, чистого, как козленок, обдул его лицо. Толстые плечи Макгайра тяжело всколыхнулись, как под ударом холодной воды. Он словно проснулся.
– Я хотел бы принять ванну, – сказал он Дику Рейвнелу. – И побриться. – Он потер ладонью заросшее пятнистое лицо.
– Хью, вы можете воспользоваться моей ванной в отеле, – сказал Джефф Спо, заискивающе поглядев на Рейвнела.
– Я воспользуюсь больничной ванной, – сказал Макгайр.
– Времени у вас как раз, – сказал Рейвнел. – Ну так идемте же! – нетерпеливо воскликнул он.
– Вы видели, как Келли делал такую операцию в больнице Гопкинса? – спросил Макгайр.
– Да, – сказал Дик Рейвнел. – Но сначала он долго молился. Чтобы его локтю была ниспослана крепость. Пациент умер.
– А, к черту молитвы! – сказал Макгайр. – Этой бабе они пользы не принесут. Вчера она сказала, что я – подлый сукин сын, налакавшийся виски. Если это на строение у нее не прошло, она выкарабкается.
– Женщину с гор убить не так-то просто, – назидательно заметил Джефф Спо.
– Вы с нами? – спросил Макгайр у Коукера.
– Нет, спасибо. Надо и поспать, – ответил тот. – Старушка тянула черт знает сколько времени. Я думал, она никогда не кончит умирать.
Они пошли к двери.
– Бен, – сказал Макгайр прежним тоном, – передай своему старику, что я ему все бока обломаю, если он не даст Хелен передохнуть. Он не пьет?
– Ради всего святого, Макгайр, откуда я знаю? – взорвался Бен. – Или, по-вашему, у меня только и дела, что следить за вашими алкоголиками?
– Чудесная она девушка, малыш, – сентиментально сказал Макгайр. – Одна на миллион.
– Хью, ради бога, да идите же! – воскликнул Дик Рейвнел.
Четверо медиков вышли в жемчужный свет. Город выступил из сиреневой темноты, обмытый и чистый. Весь мир казался юным, как весна. Макгайр пошел через улицу к автомобилю Рейвнела и с удовольствием утонул в кожаном сиденье, взбодренный его прохладой. Джефф Спо рванулся от тротуара под гром выхлопов, приветственно махнув рукой.
Гарри Тагмен восхищенно поглядел на обмякшую грузную фигуру Хью Макгайра.
– Разрази меня бог! – хвастливо сказал он. – Бьюсь об заклад, он делает самые дьявольские операции.
– Ну, – убежденно сказал раздатчик, – он ни черта не стоит, пока не заложит за воротник кварту кукурузного виски. Дайте ему выпить, и он отчикает вам голову напрочь, а потом приставит на место, а вы ничего и не заметите.
Когда Джефф Спо с ревом умчался прочь, Гарри Тагмен сказал завистливо:
– Поглядите-ка на этого сукиного сына. Мистер Вандербильт, да и только. Черт знает что воображает о себе, верно? И врет без остановки. Бен, как по-твоему, он действительно был у Хильярдов?
– О, бога ради! – раздраженно сказал Бен. – Откуда я знаю? Ну, был, не был – какая разница? – в ярости добавил он.
– Крошка Моди наверняка выдаст завтра колонку своей лабуды, – сказал Гарри Тагмен. – «Золотая молодежь», как она выражается. Черт! Это у нее все – от молоденьких сучек, которые только-только надели панталончики, до старика Редмонта. Ну, если Сол Гаджер принадлежит к золотой молодежи, Бен, то мы с тобой еще учимся в начальной школе. Еще бы, черт подери! – убежденно сказал он ухмыляющемуся раздатчику. – Он был уже лыс, как свиной хрящик, еще когда началась испано-американская война.
Раздатчик засмеялся.
Пенясь блистательным вдохновением, Гарри Тагмен начал импровизировать:
– «Вчера золотая молодежь провела очаровательный вечер на балу-банкете, данном в Сопельвуде, прелестной резиденции мистера и миссис Кларенс Фыркинс, в честь их младшей дочери Глэдис, которая начала выезжать в этом сезоне. Мистер и миссис Фыркинс в сопровождении своей дочери приветствовали каждого прибывающего гостя на пороге, воскрешая лучшие старинные традиции южной аристократии, а тем временем одаренная сестра миссис Фыркинс – мисс Кэтрин Хипесс, известная в местном кругу золотой молодежи как Лихая Кэт, наблюдала за сдачей в гардероб пальто, накидок, подпруг и драгоценностей.