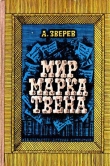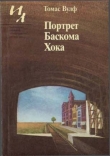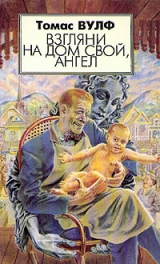
Текст книги "Взгляни на дом свой, ангел"
Автор книги: Томас Вулф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Это выкорчевывание прежних корней, этот рискованный переезд в новые края, чтобы нажить состояние и завоевать более солидное положение в обществе, были его свадебным подарком жене, смелым, но наперед уже испорченным неуверенностью, опасениями и его крестьянским недоверием к новым местам, к новым лицам, к новым разлукам – ко всему, что было непохоже на жизнь его деревни.
– Другого такого места, как Гендерсон, не найти, – говорил он с самодовольной и раздражающей преданностью этому приюту расслабляющего безделья, красной глины, невежества, сплетен и суеверий, в сиянии которого он вырос.
Но он уехал в Огасту и начал свою новую жизнь с Дейзи в меблированных комнатах. Ей исполнился двадцать один год, она была тоненькой краснеющей девушкой, которая прекрасно играла на рояле – без ошибок, академически, с бойким туше и без всякого воображения. Юджину она всегда вспоминалась как-то смутно.
Ранней осенью в год ее свадьбы Гант поехал в Огасту и взял с собой Юджина. Оба они были возбуждены до крайности; ожидание под палящим солнцем на сонной узловой станции Спартанберг, поездка в ветхом дачном вагоне, которые тогда еще ходили по ветке к Огасте, горячая спекшаяся осенняя земля, пологие холмы предгорий и сосновые леса – оба впивали каждую подробность ландшафта жадными глазами, полными жажды приключений. Бродяжнический дух Ганта истомился без путешествий; для Юджина Сент-Луис был далекой нереальностью, но в нем пылало видение изобильного Юга, даже еще более странное, чем его страстная зимняя тоска по закутанному в снега Северу, которую глубокие, но недолговечные снега Алтамонта, непривычное катание на коньках и санках с крутых склонов вдруг пробуждали в нем вместе с северной жаждой – жаждой мрака, бури, ветров, ревущих над землей, и торжествующего уюта теплых стен, понятной, пожалуй, только южанину.
И город Огасту он увидел не в серых скучных тонах реальности, но как человек, разбивающий окно, чтобы приобщиться к сказочному празднику мира, как человек, который жил в тюрьме и обретает жизнь и землю на розовой заре, как человек, который жил среди невероятных книжных образов и обретает в путешествии только расширение и подтверждение их – вот так он увидел Огасту: свежеомытыми глазами ребенка, в блеске и волшебстве.
Они пробыли там две недели. Ему в основном запомнились бурые пятна, оставшиеся после недавнего наводнения, которое захлестнуло город и затопило его подвалы, широкая главная улица, душистая сверкающая аптека, которая, казалось ему, пахла всеми специями его фантазий, холмы и поля Айкена в Южной Каролине, где он тщетно высматривал Джона Рокфеллера (легендарного принца, который, как он слышал, приезжал туда охотиться) и дивился тому, что два штата соединяются совсем незаметно, без видимых признаков, и еще – хлопкоочистительная фабрика, где он видел, как гигантский пресс сдавливал большие растрепанные кипы хлопка-сырца в тугие аккуратные тюки вдвое меньшего размера.
Однажды какие-то дети на улице принялись дразнить его из-за его длинных волос, и он впал в бешенство и начал яростно ругаться; однажды после какой-то ссоры с сестрой он, разозлившись, отправился искать приключений по белу свету и несколько часов сердито шагал по проселочной дороге между рекой и хлопковыми плантациями, пока наконец его не изловил Гант, который отправился разыскивать его в наемной бричке.
Они побывали в театре – это был чуть ли не первый спектакль в его жизни. В основу пьесы был положен библейский сюжет – история Саула и Ионафана, и от сцены к сцене он шептал Ганту, что будет дальше: отец был чрезвычайно доволен такой его осведомленностью и вспоминал про нее много месяцев спустя.
Перед их отъездом Джо Гэмбелл в припадке долго подогреваемого раздражения отказался от места и объявил, что намерен вернуться в Гендерсон. Его великое приключение длилось три месяца.
XIII
Все следующие годы – вплоть до тех пор, пока ему не исполнилось двенадцати лет и он уже не мог ездить по детскому билету, – Юджин ежегодно уезжал на богатый таинственный Юг. У Элизы в первый же год ее водворения в «Диксиленде» начался сильный ревматизм, вызванный отчасти заболеванием почек, из-за которого она постоянно опухала, – болезнью Брайта, по диагнозу врача, – и теперь она отправлялась в длительные, хотя и экономные поездки по Флориде и Арканзасу в поисках здоровья и, несколько неопределенно, в поисках богатства.
Она постоянно поговаривала о том, что следовало бы открыть пансион на каком-нибудь тропическом зимнем курорте на время тамошнего сезона. Теперь она сдавала зимой «Диксиленд» на несколько месяцев, а иногда и на год, хотя вовсе не собиралась отказываться от него на весь доходный летний сезон – обычно она более или менее сознательно сдавала дом какой-нибудь не слишком щепетильной авантюристке из меблированных комнат, готовой уплатить арендную плату за месяц-другой, но неспособной к систематическим усилиям, без которых невозможно было сохранить право на аренду. Когда Элиза возвращалась из своего путешествия, арендная плата обычно бывала просрочена или обнаруживались какие-нибудь нарушения контракта, и она с торжеством кидалась в битву, врывалась в «Диксиленд» с помощью полицейских, сыщиков в штатском, судебных повесток, предписаний, ордеров и прочих орудий юридической войны и со злорадным удовольствием вновь насильственно вступала во владение своей собственностью.
Однако уезжала она всегда на Юг; хотя она часто грозилась исследовать Север, но в глубине души относилась к нему с подозрением: это не была вражда, хранимая со времен Гражданской войны, а просто страх, недоверие, отчужденность; «янки», о которых она всегда говорила с легкой насмешкой, казались непонятными и далекими. А потому она всегда уезжала на Юг, на Юг, который пылал в крови Юджина, как Смуглая Елена, и всегда брала его с собой. Они все еще спали в одной постели.
Его чувство к Югу было не столько традиционным, сколько эссенцией и порождением темного романтизма – этого безграничного и необъяснимого опьянения, этого магнетизма в крови некоторых людей, который увлекает их в самое сердце зноя, и дальше, в полярный и изумрудный холод Юга, с такой же быстротой, с какой он овладел сердцем несравненного романтика, написавшего «Старого моряка», – а за этим пределом уже нет ничего. Но его чувство к Югу, несомненно, усугублялось всем, что он читал и воображал, романтическим ореолом, которым его школьная история одевала эти края, фантастически неверным изображением того периода, когда люди жили в «господских домах», а рабство было благодетельным институтом, слагавшимся из незатихающего бренчания на банджо, милостей полковника и плясок его счастливых подданных, когда все женщины были там чистыми, кроткими и прекрасными, все мужчины – доблестными рыцарями, а орды мятежников – войском отчаянных, презирающих смерть героев. Много лет спустя, когда ему уже была невыносима мысль об их духовном убожестве, об ожесточенной убийственной вражде ко всякой новой жизни, когда их дешевая мифология, их легенды о пленительности их манер, об аристократической культуре их жизни, о непередаваемом очаровании их манеры говорить с неторопливой оттяжкой уже приводили его в исступление, когда уже он не мог без скуки и ужаса думать о возвращении к их жизни и к ее бесчисленным предрассудкам, его страх перед их легендой, перед их враждебностью был так велик, что он по-прежнему изображал величайшую преданность им и объяснял, что живет на Севере не потому, что хочет этого, а потому, что вынужден там жить.
В конце концов ему пришло в голову, что эти люди ничего ему не дали, что ни их любовь, ни их ненависть не могут ему повредить, что он ничем им не обязан, и он решил сказать это прямо и ответить на их наглость проклятием. И ответил.
Вот так его рубежи уходили все дальше в волшебство, в сказочное, одному ему доступное чудо, которое портили только скаредная практичность Элизы, ее невеликолепность в великолепном мире, завтраки из сладких булочек, масла и молока в неопрятных номерах, картонные обувные коробки, из которых в вагонах извлекались съестные припасы после того, как длительное изучение меню завершалось распоряжением подать кофе, бесконечные споры из-за цен и счетов почти всюду, где они останавливались, и ее требование, чтобы он «пригибался» при появлении контролера – он был высоким долговязым мальчишкой, и его право на половинный билет могло быть поставлено под сомнение.
Она увезла его во Флориду в конце зимы, вскоре после возвращения Ганта из Огасты; сначала они поехали в Тампу, а через несколько дней – в Сент-Питерсберг. Он бродил по улицам, где ноги вязли в глубоком песке, удил на конце длинного мола по соседству с веселыми старичками и проглотил полный сундук дешевых романов, оказавшийся в комнате, которую Элиза сняла в частном доме. Они уехали внезапно, после громовой ссоры с хозяином, который решил, что его обсчитали на значительную часть летней платы, и поспешили в Южную Каролину, потому что Дейзи прислала истерическую телеграмму, умоляя мать «немедленно приехать». Они приехали в убогий, полный липкой грязи и дождевой сырости городишко в конце марта, – первый ребенок Дейзи, мальчик, родился накануне. Элиза, рассерженная этим неоправданным, как ей казалось, нарушением ее отдыха, дня через два после приезда жестоко поссорилась с дочерью и отбыла в Алтамонт, объявив, к иронической радости Дейзи, что это ее последний визит сюда. Но он не был последним.
Следующей зимой она поехала в Новый Орлеан на масленицу, взяв с собой младшего сына. Юджин запомнил огромные цистерны для сбора дождевой воды на заднем дворе тети Мэри, густой громовый храп Мэри, от которого содрогались окна, и пеструю суету карнавала на Канал-стрит – изукрашенные повозки, смеющихся красавиц, марширующих солдат, нелепые и жуткие маски. И снова он увидел корабли на якоре в конце Канал-стрит – их высокие форштевни вставали за дамбой над улицей; а на кладбищах все могилы были подняты выше уровня земли, «потому что, – сказал Олл, племянник Ганта, – от воды они гниют».
И он запомнил запахи французского рынка, густой аромат кофе, который он пил там, и иностранное воскресное веселье города: открытые театры, стук молотков, лязг пил, веселую праздничность толпы на улицах. Он гостил у Бойлов, старых постояльцев «Диксиленда», – они жили в старинном французском квартале, и ночью он спал с Фрэнком Бойлом в огромной темной комнате, тускло освещенной маленькими восковыми свечками; их кухарка, старуха негритянка, говорила только по-французски и рано поутру возвращалась с рынка с большой корзиной, нагруженной овощами, тропическими фруктами, битой птицей, говядиной. Она готовила непривычные восхитительные блюда, каких ему никогда прежде не доводилось пробовать: густое гомбо, бифштексы с гарнирами, кур под соусом.
И он глядел на гигантскую желтую змею реки и грезил о ее дальнем береге, о бесчисленных протоках, заросших пышной зеленью, о романтической жизни плантаций и полей сахарного тростника, которые тянулись по ее берегам, о лунном свете, о неграх, танцующих на дамбах, о медленных огнях раззолоченного речного парохода и о надушенной плоти черноволосых женщин, сотканных из музыки под клонящимися ветвями призрачных деревьев.
Вскоре после их возвращения из Нового Орлеана, в воющую зимнюю ночь, когда Юджин спал в доме Ганта, он был разбужен ужасными воплями отца. Гант последнее время много пил – один страшный день за другим. К вечеру Юджина посылали за ним в мастерскую, и с помощью Жаннадо он на закате отвозил его на разбитой негритянской кляче домой, мертвецки пьяного. Затем происходил обычный ритуал кормления супом, раздевания и усмирения, пока не являлся доктор Макгайр – он глубоко всаживал иглу своего шприца в жилистую руку Ганта, оставлял снотворное и уходил. Хелен была измучена, Гант же совсем истощил свои силы, и раза два его сваливали мучительные припадки ревматизма.
И вот теперь он проснулся в темноте во власти ужаса и муки, потому что вся правая сторона его тела была парализована свирепой болью – он даже не подозревал, что такая боль вообще возможна. Он то проклинал бога, то начинал молиться, вне себя от ужаса и боли. Много дней доктор и сиделка возились с ним, надеясь, что воспаление не затронет сердца. Его всего согнул, сломал, скрутил сильнейший ревматизм. Едва он оправился настолько, что мог передвигаться, он уехал под присмотром Хелен в Хот-Спрингс на теплые источники. Она яростно ограждала его от всякой посторонней помощи и без отдыха ухаживала за ним днем и ночью; они пробыли в отсутствии полтора месяца, изредка присылая открытки и письма, в которых рассказывали об отелях, минеральных ваннах, болезнях и хромоте – и развлечения больных богачей расцветили горизонт Юджина новыми красками. Когда они возвратились, Гант мог ходить самостоятельно, горячие ванны изгнали ревматизм из его ног, однако его правая рука, искривленная и неподвижная, осталась искалеченной. Больше уже никогда он не мог сомкнуть ее пальцев, и в его манере держаться появилась какая-то странная тихость, а в глазах просвечивал страх.
Но союз между Гантом и его дочерью окончательно стал неразрывным, Перед Гантом простиралась предсказанная этими неделями дорога ужаса и боли, которая вела к смерти, однако, по мере того как на этой дороге его громадная сила уменьшалась, парализовалась, сходила на нет, дочь проходила рядом с ним весь его путь дюйм за дюймом, спаивая крепче жизни, крепче смерти, крепче памяти звенья связавших их уз.
– Я бы умер, если бы не эта девочка, – снова и снова повторял Гант. – Она спасла мне жизнь. Без нее я бы не выдержал. – И он снова и снова хвастался ее преданностью и верностью, расходами на его поездку, отелями, богатством, жизнью, которую они там видели.
И по мере того, как росла легенда о доброте и преданности Хелен, для которой его зависимость от девушки постоянно давала новую пищу, Элиза все более и более задумчиво поджимала губы, иногда плакала в плюющую жиром сковородку и под широким красным носом улыбалась дрожащей улыбкой, горькой, нестерпимо обиженной.
– Я им покажу! – плакала она. – Я им покажу!
И она задумчиво потирала красное зудящее пятно, которое в этом году появилось на ее левом запястье.
На следующую зиму она сама поехала в Хот-Спрингс. Они на день-два остановились в Мемфисе – там в москательной лавке работал Стив. Показывая Юджину город, он то и дело забегал в пивные, оставляя мальчика дожидаться снаружи, пока он «поговорит с одним парнем», – Юджин заметил про себя, что после каждого разговора с этим «парнем» его походка становилась все развязнее.
Они пронеслись над рекой на головокружительной высоте, а вечером он увидел унылые арканзасские лачуги, ютящиеся на малярийных равнинах.
В Хот-Спрингс Элиза отдала его в школу, и он очертя голову нырнул в непонятный новый мир – учился он блестяще и завоевал симпатию молодой учительницы, но сполна заплатил за то, что был чужим всем враждебным сплоченным зверенышам, из которых состоял его класс. Еще до конца первого месяца он горько поплатился за то, что не знал их обычаев.
Элиза каждый день до изнеможения парилась в ваннах; иногда он ходил с ней и, одурманенный ощущением независимости, отправлялся в мужское отделение, раздевался в прохладном предбаннике, переходил в парильню, где по стенам стояли кожаные кушетки, запирался в кабинке и чувствовал, что расплывается в лужицу пота у собственных ног, а потом выходил, пошатываясь, и могучий ухмыляющийся негр мял и массировал его в огромной лохани. Позже, истомленный, но испытывая чувство глубокого очищения, он лежал на кушетке – победно сознавая себя самостоятельным мужчиной в мире мужчин. Его соседи переговаривались, лежа на кушетках, или, колыхая животами, расхаживали по парильне со стыдливым полотенцем на чреслах – больные малярией южане с малярийно-медлительной речью, алкоголики с мешками под глазами, игроки с лиловатой кожей и опустившиеся боксеры. Ему нравился запах пара и потеющих мужчин.
Элиза немедленно послала его на улицы с «Сатердей ивнинг пост».
– Тебе не повредит, если после школы ты немного поработаешь, – сказала она.
А когда он трусил прочь с сумкой, оттягивавшей ему шею, Элиза кричала ему вслед:
– Подтянись, милый, подтянись! Расправь плечи! Пусть все видят, что ты не кто-нибудь.
И она вручила ему пачку карточек, гласивших:
ПРОВОДИТЕ ЛЕТО В «ДИКСИЛЕНДЕ»
в прекрасном Алтамонте, в Стране Небес.
Цены умеренные – как для постоянных гостей, так и для транзитных. Обращаться к Элизе Е. Гант, влад.)
– Ты должен помогать мне подыскивать клиентуру, милый, не то нам не на что будет жить, – повторяла она, шутливо поджимая дрожащие губы, и эта шутливость глубоко его задевала, потому что была очевидной маской для еще более очевидной неискренности.
Его всего передергивало, когда он представлял себе, как в конце концов станет закаленным толстокожим в мире Элизы – подтянутый, гордо расправляющий плечи, показывающий всем, что он «не кто-нибудь», благодушно вручающий при знакомстве карточку с описанием прелестей жизни в Алтамонте и в «Диксиленде», использующий каждый случай, чтобы «подыскивать клиентуру». Он ненавидел профессиональный жаргон, который она давно где-то усвоила и постоянно с удовольствием пускала в ход – причмокивая губами, она говорила о «транзитных гостях» или о «подыскивании клиентуры». Он, как и Гант, питал безмолвный ужас к продаже за деньги своего хлеба, своего крова гостю, чужаку, неведомому другу из широкого мира – больным, усталым, одиноким, разбитым жизнью, плуту, блуднице и глупцу.
Вот так, затерянный среди далеких плоскогорий Озарка, он бродил по Сентрал-авеню, окаймленной по сторонам крутыми склонами холмов, которые для него были рубежами волшебства, порталами извечной и бесконечной страны фей. Он без конца пил воду, которая, курясь паром, вырывалась из земли, – пил в надежде смыть с себя всю скверну, вновь и вновь сплетая фантазии о чудесном источнике или ванне целительной грязи, в которую человек погружается по горло, и она исторгает из его жил всю испорченную кровь, иссушает в нем раковую опухоль, размягчает и всасывает кисту, снимает все цинготные пятна и рубцы, выскребывает, растворяет и поглощает фиброзную слизь всех болезней, возвращая ему безупречную плоть животного.
И он часами стоял у подъездов фешенебельных отелей, глазея на дамские ножки на веранде, следя за тем, как развлекаются великие мира сего, с изумлением думая, что вот перед ним герои Чэмберса, Филиппса и всех прочих певцов высшего света ведут во плоти свое богоподобное существование, претворяя в жизнь эти романы. Он питал благоговейное почтение к величественной манере таких книг и в особенности английских книг – эти люди любили, но не как все прочие, а элегантно, их речь была изящной, любезной и изысканной; даже в их страстях не было ничего грубо плотского и жадного, они не были способны на сальные мысли и грубые желания простолюдинов. Он глядел на красивые бедра молодых всадниц, завороженный зрелищем их стройных ножек, прикидывал, приятно ли им теплое упругое колыхание огромной лошадиной спины, и старался представить себе, какой может быть их любовь. Ни с чем не сообразное изящество их манер в романах внушало ему почтительный трепет – он видел, как соблазнение завершается в лайковых перчатках под аккомпанемент тонкого остроумия. Эти мысли наполняли его стыдом перед собственной низменностью: он придумывал для этих людей любовь, не подчиненную законам природы, заменяющую наслаждение животных или простых людей электрическим прикосновением кончиков пальцев, дрожанием ресниц, интонацией – изысканно и незапачканно.
А они, глядя на его далекое сказочное лицо, ставшее еще более необычным теперь, когда густые кудри были острижены, покупали у него журналы и платили вдвое и втрое больше – эпитимья, лениво налагаемая на себя расточителями.
В окнах ресторана плавали в стеклянных колодцах большие рыбы – угри свивались в змеиные кольца, белобрюхая форель металась вверх и вниз, а он мечтал о неведомых яствах там, внутри.
А иногда мужчины возвращались в экипажах с дальней реки, нагруженные крупной рыбой, и он начинал думать о том, доведется ли ему когда-нибудь увидеть эту реку. Все, что лежало вокруг него, такое близкое, но неведомое, наполняло его томительным желанием.
А потом, позднее, на песчаном побережье Флориды, тоже с Элизой, он бродил по узким переулкам Сент-Огастина, стремглав мчался по людному пляжу Дейтоны, искал на зеленых газонах перед отелями Палм-Бича кокосовые орехи, которые Элиза собирала как сувениры, и, набив орехами коричневую сумку, шел с сумкой за плечами по бесконечным аллеям «Ройал-Пойнсианы» или «Брейкерс», мишень для насмешек, возмущения и веселых улыбок всех встречных от князя до раба. Или же по одной из широких затененных пальмами дорожек, пересекающих полуостров поперек, отправлялся посмотреть на шелковые женские ноги, раскинутые на чувственном сыпучем песке, на коричневые худощавые тела мужчин, на прыжки в бесконечные свитки изумрудного бескрайнего моря, которое гремело в его мозгу, когда он прижимал к уху отцовские раковины, которое владело его горным сердцем, но которое он только теперь впервые увидел собственными глазами. По ровным аллеям в разбрызганном пальмами солнечном свете проезжали принцессы и лорды; в барах за жалюзи, где неутомимо жужжали вентиляторы, мужчины пили из высоких запотевших бокалов.
Как-то они поехали в Джексонвилл и прожили там несколько недель по соседству с Петт и Грили; он учился у маленького горбуна из Гарварда и ходил завтракать со своим учителем в буфет, где тот пил пиво, заедая его солеными крендельками. Перед отъездом Элиза объявила, что учитель запросил слишком много; горбун пожал плечами и взял столько, сколько она дала. Юджин вывернул шею и оторвал ногу от земли.
Так, привыкший к замкнутым горизонтам под плитой неба, где его хозяевами были горы, он впервые увидел сказочный Юг. Эта картина мелькающих полей, лесов и холмов навеки осталась в его сердце, – затерянный в темном краю, он лежал всю ночь напролет на вагонной полке и смотрел, как мимо проносится призрачный Юг, потом наконец засыпал, а проснувшись, видел прохладные флоридские озера на заре, такие спокойные, словно они всю вечность ждали этой встречи; или, когда поезд в предутренней тьме въезжал в Саванну, он слышал странные приглушенные голоса на платформе, бормочущие звуки ночного вокзала; или же в бледном свете зари он видел туманный лес, изрытый колеями проселок, корову, мальчишку, грязнуху, сонно возникшую в дверях хижины, – чтобы в этот краткий миг стремительно мчащегося времени, к которому вела вся предыдущая жизнь, мелькнуть за окном и исчезнуть.
Он со странным ощущением чего-то давно знакомого вспомнил про общность всего земного, – он грезил о тихих дорогах, о лесах, купающихся в лунном свете, и думал, что когда-нибудь он вернется к ним пешком, найдет их неизменившимися, и свершится чудо узнавания. Для него они существовали извечно и навеки.