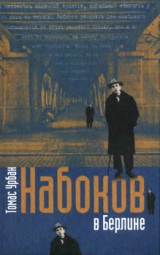
Текст книги "Набоков в Берлине"
Автор книги: Томас Урбан
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Томас Урбан
НАБОКОВ В БЕРЛИНЕ
Предисловие
Владимир Набоков и немцы – их отношения можно описать очень просто: у немцев он своего рода культовый автор, причем не только из-за романа «Лолита», который благодаря намеку на эротическое содержание стал мировым бестселлером. Ни на один другой язык его произведения не переводились больше, чем на немецкий. Но любовь эта и почитание весьма односторонни. Ведь Набоков относился к Германии и немцам неприязненно и всячески выражал это в своих произведениях. 15 лет с 1922 по 1937 год прожил он в столице этих немцев. На берлинский период приходятся решающие моменты его биографии: смерть отца во время политического покушения (1922), женитьба (1925), рождение сына (1934). В Берлине же был арестован и один из его братьев как противник нацистского режима, он погиб в одном из концлагерей.
Как литератор Набоков считается представителем «искусства для искусства». Это верно в том смысле, что какие-либо политические или социальные устремления никогда не становились главным содержанием его произведений. Социально-критическую литературу он презирал, по отношению к авторам, которые стремились обратить читателя в свою веру, он находил только ироничные или уничижительные слова. Политика в его литературных произведениях играет лишь периферийную роль и то в весьма мягких тонах.
И все же политически он занимал четкие позиции – и как публицист и в частной жизни. Он был в лучшем смысле слова либералом и демократом, отвергал как национал-социализм, так и советский социализм. То, что он в своей частной переписке ставил эти две системы на одну ступень, приводило в смущение многих его партнеров. Ведь Набоков за несколько десятилетий до того, как теория тоталитаризма вызвала ожесточенную полемику (она известна как спор историков), по сути дела стоял именно на этой позиции, которая еще недавно считалась на Западе реакционной. То, что сегодня многие интеллектуалы, в том числе и у него на родине в России, придерживаются точно такой же точки зрения, можно считать запоздалым признанием правоты политического наблюдателя Набокова.
Набоков и политика – к этой теме литературоведение до сих пор относилось как мачеха. В предлагаемой книге эта тема занимает центральное место. Ведь именно в Берлине Набокову пришлось вопреки собственной воле все больше и больше заниматься политикой. Будучи женатым на русской еврейке, он не мог не уделять особого внимания национал-социалистам. В конечном счете ему дважды пришлось вместе с семьей спасаться от них бегством: в 1937 году из Германии, в 1940 – из стоявшей на грани разгрома Франции.
В то же время он постоянно держал в поле зрения и развитие событий на родине, ставшей советской. В противоположность многим западным интеллектуалам у него с самого начала не было никаких иллюзий по поводу введенной Лениным и усовершенствованной Сталиным системы подавления. То, что он в свою очередь тоже подвергался на протяжении берлинского периода наблюдению со стороны представителей Москвы, до сих пор остается почти неизвестным. В настоящей книге предпринимается первая попытка показать это, насколько позволяют имеющиеся материалы, а их совсем не много.
Несомненно, в московских архивах лежит еще множество папок с материалами о Набокове, в том числе и о его берлинском периоде, которые ждут своего исследователя. Когда я в 1992 году приехал в Москву, где мне предстояло в течение четырех лет работать корреспондентом газеты, я решил попутно поискать соответствующие материалы. Однако в первые два года моего пребывания журналистская информация о борьбе за власть на берегах Москвы-реки не оставляла для этого ни времени, ни физической возможности. Когда к 1994 году положение стабилизировалось, мне пришлось убедиться, что архивы, открытые в начале 90-х годов для западных исследователей, снова закрыты. Московские набоковцы тоже не смогли мне помочь. Статья о Набокове на целую газетную полосу, опубликованная в «Литературной газете» от 29 марта 1995 года под заголовком «Сенсационные материалы из архивов КГБ» вселила в меня при первом чтении надежду. Но уже при повторном чтении стало ясно, что это первоапрельская шутка (на этой странице «Литературки» за 29 марта стояла дата 1 апреля).
Точно так же мне не удалось получить в Москве информацию ни о берлинском периоде писателя, ни о подозревавшемся в принадлежности к разведывательной службе Марке Леви. Было в высшей степени вероятно, что Леви является автором возникшего в Берлине и вызвавшего скандал «Романа с кокаином», автор которого скрылся за псевдонимом «М. Агеев». Однако некоторыми литературными критиками этот роман приписывается Набокову. В завершающем эту книгу протоколе поиска следов впервые дается совокупное изложение «дела» Агеев/Леви/Набоков. Не исключено, что в Москве еще всплывут документы, которые окончательно прольют свет на это дело.
За исключением дела Агеева предлагаемая книга не касается ни одного спорного вопроса относительно Набокова. В ней не играет никакой роли то, что два биографа Набокова – Брайан Бойд и Эндрю Филд – оспаривают друг друга, что семья Набокова одного биографа благословила, а против другого возбудила судебный процесс, что сын писателя Дмитрий Набоков называет второго биографа «самозванцем» и резко критикует его работу. Я поставил перед собой более скромную задачу пройти по следам Набокова в Берлине. При этом каждая глава представляет законченное целое. Какие-то повторения были при этом неизбежны, более того, они совершенно преднамеренны.
Пользуясь случаем, я благодарю Дитера Е. Циммера, который двукратно расставил акценты в главе «Набоков и немцы». Он как переводчик и издатель сделал произведения и взгляды Набокова доступными для немцев. Но он в своих разговорах с писателем в немалой степени способствовал также тому, что тот в конце своей жизни стал смотреть на немцев более дифференцированно. Будучи знатоком жизни и произведений Набокова, Дитер Е. Циммер терпеливо отвечал на все мои вопросы и критически просмотрел черновик этой книги.
Я посвящаю книгу моей первой учительнице русского языка Ольге Степанской, с которой я, будучи гимназистом, выучил первые русские фразы, которая и в студенческие годы давала мне много ценных советов. Ей выпала та же участь, что и Набокову, – горькое одиночество на чужбине.
Москва/Берлин, январь 1999 г.
Глава I
БЕРЛИН – «МАЧЕХА РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ»
Жди – резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина —
И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов.
Владислав Ходасевич
Зал ожидания НЭПского проспекта
«Жизнь в этих поселениях была настолько полной и напряженной, что эти русские „интеллигенты“ не имели ни времени, ни причин обзаводиться какими-то связями вне своего круга»[1]1
ВН (АП), т. 5, стр. 555.
Сокращения в примечаниях:
ВН (АП) – Владимир Набоков. Собрание сочинений американского периода в пяти томах. Санкт-Петербург, 1997–1999.
ВН (РП) – Владимир Набоков. Собрание сочинений русского периода в пяти томах. Санкт-Петербург, 1999–2000.
[Закрыть]. Такими словами коротко и метко описал Владимир Набоков существование рядом друг с другом немцев и русских в немецкой столице, в которой в начале 20-х годов после неурядиц революции и гражданской войны прибило к берегу сотни тысяч эмигрантов из канувшей в пучину небытия царской империи. Ровно два года – с 1921 по 1923 годы – Берлин играл выдающуюся роль в русской культурной и духовной жизни, пока масса эмигрантов не потянулась дальше, и прежде всего в Париж. Несколько десятков тысяч отправилось в Прагу, где правительство щедро поддерживало эмигрантов. Многие тысячи русских все-таки возвратились на свою ставшую советской родину. Лирический поэт Владислав Ходасевич, с которым позже подружится Набоков, в одном из стихотворений назвал тогда Берлин «мачехой городов русских»[2]2
Владислав Ходасевич. Собр. соч. в двух томах, т. 2. Париж, 1982–1983, стр. 23.
[Закрыть].
Писательская колония
Какое-то время в немецкой столице жили самые крупные и известные русские писатели, имена которых вошли в мировую литературу нынешнего столетия. Один за другим селились они на берегах Хавеля и Шпрее.
Максим Горький (Пешков, 1868–1936), имевший большое влияние и как публицист, появился здесь в ноябре 1921 года. До июля 1924 года он с несколькими перерывами жил в Берлине и его окрестностях. Потом он переселился в Италию. В 1933 году он, окруженный энергичными ухаживаниями Иосифа Сталина, вернулся в Москву. Он позволил злоупотреблять собой как вывеской социализма. Возможно, ослабленный ядом, подсыпанным ему по приказу Сталина, он умер от воспаления легких.
Алексей Ремизов (1877–1957), прозаик, признанный рассказчик сказок и легенд, живописец и каллиграф, приехал в августе 1921 года. В декабре 1923 года он переселился в Париж, где и умер, совершенно забытый и обнищавший.
Андрей Белый (Борис Бугаев, 1880–1934), один из значительнейших философов, теоретиков литературы, прозаиков и лириков символизма, появился в ноябре 1921 года. В ноябре 1923 года он возвратился в Москву, где подвергся все возраставшему давлению со стороны коммунистов, и в конце концов ему было запрещено публиковаться.
Илья Эренбург (1891–1967), прозаик, лирик, публицист, предположительно неофициальный сотрудник советской «тайной полиции», оказался здесь в октябре 1921 года. В декабре 1923 года, видимо, по заданию Москвы переехал в Париж. В начале Второй мировой войны он вернулся в Москву. Во время войны получил мировую известность благодаря распространенной в миллионах экземпляров листовке «Убей немца!».
Алексей Толстой (1883–1945), приемный сын одного из родственников знаменитого писателя Льва Толстого, поселился здесь в октябре 1921 года. В результате заигрываний советского руководства он возвратился в мае 1923 года в Москву. Будучи фаворитом Сталина («красный граф»), он сумел благодаря неограниченному кредиту накопить несметные богатства.
Владимир Ходасевич (1886–1939), лирик и литературный критик, приехал в июне 1922 года. По приглашению Горького он переехал в октябре 1924 года в Италию. Затем он подался в Париж, где жил в бедности, работая в эмигрантских газетах.
Виктор Шкловский (1893–1984), прозаик, теоретик кино и литературы появился в апреле 1922 года. Послав прошение партийному руководству в Москве, он в июне 1923 года вернулся в советскую Россию.
Борис Пастернак (1890–1960), лирик и прозаик, приехал в августе 1922 года. В феврале 1923 года он возвратился в Москву. Опекаемый из прихоти Сталиным, несмотря на то что не принимал существующую власть, он пережил великий террор 30-х годов. В 1958 году он под давлением партийного руководства был вынужден отказаться от Нобелевской премии (за роман «Доктор Живаго», ставший бестселлером).
В Берлине неделями гостили лирическая поэтесса Марина Цветаева (с мая по июль 1922 года) и поэт-скандалист Сергей Есенин (тоже с мая по июль 1922 года и с февраля по апрель 1923 года). Неоднократно наезжал из Москвы поэт революции Владимир Маяковский, из Парижа – будущий Нобелевский лауреат, эмигрант Иван Бунин.
Немецкая столица стала прибежищем для всех эмигрантов, которые надеялись на скорый крах большевистского господства и тем самым на скорое возвращение домой. Кроме того, в Берлине жилось легче, чем в других столицах: стремительное падение рейхсмарки позволяло обладателям валюты и драгоценных металлов производить обмен их в обе стороны с многократной выгодой. Маяковский, который тогда ездил по Западу как глашатай мировой революции, возмущался аморальностью своих земляков, которые очень любили ездить в финансово слабую Германию, чтобы пополнить свою мошну[3]3
Известия ВЦИК (Москва), 05.02.1923, стр.3.
[Закрыть].
И Белый тоже огорчался в Берлине по поводу русских, которые стояли в очередях перед конторами менял и благодаря своим финансовым манипуляциям жили лучше, чем большинство немцев. По его словам, они с шиком делали свои покупки в дорогом универмаге KDW и устраивали один праздник за другим. В воспоминаниях о берлинском времени Белый пародирует своих глупо заносчивых земляков: «Здесь Русью пахнет! И изумляешься, изредка слыша немецкую речь. Как? Немцы? Что нужно им в „нашем“ городе?»[4]4
Андрей Белый. Одна из обитателей царства теней. Ленинград, 1924, стр. 30.
[Закрыть]. Один немецкий наблюдатель пришел тогда к выводу, что причина описанной Белым надменности коренится в социальной структуре эмиграции: «Русская колония эмигрантов в Берлине была пирамидой, от которой осталась одна верхушка. Недоставало нижних и средних социальных слоев, рабочих и крестьян, ремесленников и мелких торговцев. Вместо этого понаехали офицеры, чиновники, художники, финансисты, политики и представители старой придворной знати»[5]5
Ср.: Karl Schlögel. Berlin: «Stiermutter unter den russischen Städten» // Der grosse Exodus. Die russische Emigration und ihre Zentren, 1917 bis 1941. München, 1994, S. 340.
[Закрыть].
Возмущение Белого относилось лишь к определенному меньшинству русских. Большинство находилось скорее в плачевном состоянии. Они были отданы на произвол хозяев, у которых находили жилье, были вынуждены преодолевать сопротивление тупых чиновников и с величайшими трудностями могли найти работу, ибо их как лиц без гражданства не ставили на учет на биржах труда[6]6
J. Rabinowitsch. Die Rechtslage der staatenlosen russischen Emigranten in Deutschland // Osteuropa (Berlin), 3 Jg. 1927–1928, S. 617–625.
[Закрыть]. Хозяева требовали уплаты совершенно устрашающих задатков, часто в валюте, и тем самым лишали большинство эмигрантов остатков их имущества к великой радости ювелиров и ростовщиков. Мать Набокова тоже раз за разом продавала свои спасенные при бегстве из России украшения.
Набоков описал в «Машеньке», первом из семи романов, в которых действие развивается в берлинской среде, мучительную тесноту сдаваемых внаем квартир и пансионов, причем русские домовладельцы по своей жадности и хватке головорезов ни в чем не уступали немецким. Герой романа «Дар», действие которого также происходит среди русских в Берлине 20-х годов, жалуется на заносчивое поведение дворников, жаждущих в полной мере насладиться теми крохами власти, которые даны им. И в своих воспоминаниях Набоков тоже пишет о беззащитности эмигрантов перед лицом государственной бюрократии:
«Наша безнадежная физическая зависимость от того или другого государства становилась особенно очевидной, когда приходилось добывать или продлевать какую-нибудь дурацкую визу, какую-нибудь шутовскую карт д'идантите, ибо тогда немедленно жадный бюрократический ад норовил засосать просителя, и он изнывал и чах, пока пухли его досье на полках у всяких консулов и полицейских чиновников»[7]7
ВН (АП), т. 5, стр. 554.
[Закрыть].
Ремизов в автобиографическом рассказе «Esprit» описал свои мытарства ради «желтой карточки», выдаваемого всего на три месяца временного паспорта, – поездку на трамвае в полицейское управление, в окружной полицейский участок и в канцелярию по регистрации проживающих. О том, что у Ремизова, как и других эмигрантов, возникают большие проблемы из-за немецкой бюрократии, узнал даже Томас Манн, к тому времени уже известный писатель. Он написал своему русскому коллеге, произведения которого знал по переводам: «Мне хочется Вас уверить, что мне было бы очень больно, если бы с Вами в Германии случилось что-нибудь неприятное. По-моему, Берлин может гордиться тем, что приютил в своих стенах одного из первых русских писателей сегодняшней России»[8]8
Fritz Mierau (Hrsg.). Russen in Berlin. Literatur Malerei Theater Film 1918–1933. Leipzig, 1987, S. 2.
[Закрыть].
Либеральный политик и публицист Иосиф Гессен, друг Набокова, тоже жалуется в своих мемуарах на узколобость представителей власти и квартирных хозяев. Он вспоминает одного эмигранта, у которого на одном из берлинских вокзалов незадолго до отправления его поезда произошел сердечный приступ, и он умер тут же на месте. Его родным были возвращены деньги за неиспользованный проездной билет, за вычетом стоимости перронного билета, ибо на перрон умерший все-таки уже вышел[9]9
Иосиф Гессен. Годы изгнания. Жизненный отчет. Париж, 1979, стр. 53.
[Закрыть].
За один только 1923 год в Берлине подавали прошение о предоставлении убежища 360 000 бывших подданных царя. Лига Наций насчитала на территории рейха в этом же году 600 000 беженцев[10]10
Hans Erich Volkmann. Die russische Emigration in Deutschland 1919–1929. Würzburg, 1966, S. 5.
[Закрыть]. В столице большинство из них селилось в административных округах Шенеберг, Вильмерсдорф и Тиргартен. В округе Тиргартен жили, как и до войны, более состоятельные эмигранты. Немцы говорили о Берлине как о «второй столице России» и по аналогии с Невским проспектом в Петербурге с намеком на ленинскую «новую экономическую политику» (НЭП) называли Курфюрстендамм НЭПским проспектом.
Десятки профессиональных объединений представляли в Берлине русских врачей, журналистов, писателей, учителей, юристов, маклеров, квартировладельцев, банкиров, торговцев и художников. По соседству с ними старались быть услышанными многочисленные комитеты. Казалось, что многие русские старались своей организационной яростью вытеснить из сознания свое отчаянное положение. В одном циничном романе об эмигрантах, вышедшем из-под пера просоветского автора, вполне логично описывается некая «организационная комиссия организационного центра общественных организаций»[11]11
В рассеяньи сущие – повесть из эмигрантской жизни. Берлин, 1923, стр. 37.
[Закрыть].
Два события привели к тому, что эмигрантская колония в Берлине так же быстро распалась, как она до этого возникла буквально из ничего: денежная реформа и Рапалльский договор. Введение рентной марки в 1923 году положило конец диким спекуляциям на валюте. Жизнь в Берлине стала для эмигрантов слишком дорогой. По Рапалльскому договору, который в то время явился сенсацией, ибо менял политическую карту Европы, Москва отказывалась от репараций по итогам мировой войны, а Берлин – от участия в экономической блокаде советской России западом. Маяковский рисовал тогда своими заклинаниями призрак вечного союза немецких трудящихся с русскими коммунистами и предсказывал новый этап мировой революции, которая начнется в Берлине, как это возвещали вожди революции Ленин и Троцкий. Многие русские, напуганные этим призраком, покинули страну. В 1928 году во всей Германии их осталось всего 180 000, а десятилетие спустя их число сократилось до 45 000[12]12
John Hope Simpson. The Refugee Problem. London, 1939, р. 111.
[Закрыть].
Русский микрокосмос
Но до денежной реформы русский Берлин процветал. Мелкие русские предприятия вырастали как грибы. Особенно оживленно шли дела в прессе и издательском деле. В 1920 году в Берлине выходило уже девять русскоязычных журналов, три года спустя число их выросло до 39. В одном из каталогов за 1923 год перечислено не менее 86 русских издательств и книжных лавок. Многие советские издательства также открыли в Берлине свои отделения с типографиями, так как финансовые условия здесь были для них более выгодными, чем в советской России. Некоторые из них издавали также произведения писателей-эмигрантов, хотя продавать их потом в России не разрешалось. В 1922 и 1923 годах в Берлине было издано больше книг на русском языке, чем в это же время в Москве и Петрограде. Еще до Первой мировой войны в имперской столице печаталось много изданий на русском языке, прежде всего книги и сборники находившихся в эмиграции противников царя[13]13
Gottfried Kratz. Russische Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg // Russische Autoren und Verlage in Berlin. Hrsg. T. R. Beyer. Berlin, 1987, S. 39–150.
[Закрыть].
Вспоминая о деятельности русских издательств в эмиграции, Набоков писал:
«Разумеется, хорошие читатели имелись среди эмигрантов в числе, достаточном для того, чтобы оправдать издание русских книг в Берлине, Париже и других городах, причем в относительно широких масштабах; но поскольку ни одно из этих сочинений не могло иметь хождение в Советском Союзе, вся затея приобретала вид хрупкой нереальности. Число названий впечатляло куда сильнее числа проданных экземпляров, а в названиях издательств – „Орион“, „Космос“, „Логос“ и тому подобных – чуялось нечто лихорадочное, непрочное, немного противозаконное, как у фирм, издающих астрологическую литературу или руководства по элементарным основам половой жизни»[14]14
ВН (АП), т. 5, стр. 558.
[Закрыть].
В 20-е годы издательства печатали все: классиков, отцов церкви, поваренные книги, технические руководства, политические памфлеты и беллетристику. Так как издание книг было предельно дешево, многие писатели переиздавали свои старые произведения или чувствовали прилив вдохновения быстро одну за другой выбрасывать свои новинки на рынок. Так, Алексей Толстой одновременно со своей работой в качестве редактора отдела культуры просоветской ежедневной газеты «Накануне» опубликовал в Берлине десять книг. Белый, который сотрудничал в газете социал-демократического направления «Дни», осуществил семь частично переработанных переизданий и девять новых публикаций. Эренбург, у которого была советская виза и который не чувствовал себя эмигрантом, тоже опубликовал девять книг. Но самым усердным был одержимый Ремизов. За один 1922 год в Берлине вышло 17 его книг, преимущественно новые издания.
Только тиражи оставались маленькими. Набоков констатирует:
«Вследствие ограниченного обращения их произведений за границей, даже эмигрантским писателям старшего поколения, слава которых твердо установилась в дореволюционной России, невозможно было надеяться, что книги доставят им средства к существованию. Писания еженедельной колонки в эмигрантской газете никогда не хватало на то, чтобы сводить концы с концами. По временам нежданный куш приносил перевод на иностранный язык, в основном же продление жизни пожилого писателя зависело от подношений разнообразных эмигрантских организаций, заработков, доставляемых публичными чтениями, да от щедрости частных благотворителей»[15]15
ВН (АП), т. 5, стр. 560–561.
[Закрыть].
От конъюнктуры издательского дела зависели и настроения и активность поселившихся в Берлине русских писателей, к которым постоянно присоединялись визитеры из советской России или из других центров эмиграции. Так, Горький, всемирно признанный патриарх социально-критической литературы, в течение многих месяцев снимал большую квартиру на Курфюрстендамм, а также виллу в Бад Сааров под Берлином, откуда он пытался повлиять на происходившее в немецкой столице.
Летом 1922 года в Берлине на десять недель останавливалась Марина Цветаева, которую опекал Эренбург, даже временно предоставивший ей и ее дочери свою комнату в одном из пансионов Вильмерсдорфа. Эренбург ввел ее в круг берлинских поэтов как восходящую звезду на небосклоне лирики. Позже она отмежевалась от него и говорила о нем: «Циник не может быть лириком!»[16]16
Марина Цветаева. Письмо Ю. Иваску // Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956, стр. 209.
[Закрыть]
Но именно Эренбург в 1956 году, во времена оттепели после смерти Сталина, своей статьей о ее лирике решающим образом повлиял на ее реабилитацию после трех десятилетий полного замалчивания в Советском Союзе. Сегодня Марина Цветаева, в 1941 году покончившая жизнь самоубийством, признается поэтессой, имя которой окружено настоящим культом.
И еще один поэт, подвергавшийся гонениям, тоже сквитавший свои счеты с жизнью самоубийством, а в наше время давно признанный культовым божеством, в течение нескольких недель в 1922 году пробушевал как смерч над берлинской колонией эмигрантов. Он ходил по городу, прежде всего по его ресторанам и ночным клубам, в сопровождении своей жены Айседоры Дункан, знаменитой американской исполнительницы выразительных танцев. Парень от земли, который говорил только по-русски, и театральная звезда, которая была на 19 лет старше него и за исключением нескольких слов совершенно не говорила по-русски, незадолго до этого поженились в Москве. Попойки Есенина, его размолвки с ревнивой женой, происходившие на глазах всей публики, и его чреватые скандалами поэтические вечера давали желанный материал не только трем ежедневным русским газетам в Берлине, но и немецким газетам, промышлявшим сплетнями.
Вместе с всегда громогласно выступавшим Маяковским приехала целая группа поэтов, которые через несколько недель или месяцев снова возвратились домой. Среди них был молодой Борис Пастернак, который после долгих настояний получил от советских властей туристическую визу. Он хотел навестить своих эмигрировавших в Германию родителей и встретиться с Мариной Цветаевой, с которой незадолго до этого начал переписываться. Но поэтесса уехала за несколько дней до его приезда, им не суждено было встретиться. Молодой лирик во время своего краткого добровольного изгнания уединился от литературных дел. За время своего семимесячного пребывания он опубликовал лишь несколько стихотворений. Говорят, что он часто ходил по ночным улицами, громко разговаривая с самим собой, обсуждал все за и против своего возвращения в Москву[17]17
Роман Гуль. Я унес Россию. Апология эмиграции, т. I. – Россия в Германии. Нью-Йорк, 1981, стр. 76.
[Закрыть]. В одном из писем в начале 1923 года, за несколько дней до своего отъезда в Москву, он резюмирует: «Берлин мне не нужен!»[18]18
Лазарь Флейшман. Борис Пастернак в 20-е годы. Мюнхен, 1980, стр. 25.
[Закрыть] Шкловский писал тогда: «В Берлине Пастернак тревожен. Человек он западной культуры, по крайней мере, ее понимает, жил и раньше в Германии. (…) Мне кажется, что он чувствует среди нас отсутствие тяги»[19]19
Виктор Шкловский. Zoo, или письма не о любви. Берлин, 1923, стр. 65.
[Закрыть].
Шкловский тоже станет возвращенцем, так же как Белый и Толстой, этот «красный граф», который еще во время гражданской войны сочинял пропагандистские памфлеты для белых генералов. Будучи противником большевиков, Толстой эмигрировал сначала в Париж, а уже оттуда перебрался в Берлин, где снял шикарную квартиру на Курфюрстендамм. В одном из писем он называет совершенно простую причину своего переселения в Германию: «В Париже мы умерли бы с голоду». Кроме того, у него, видимо, были там очень большие долги. То есть его переселение было одновременно и бегством от своих заимодавцев[20]20
Иван Бунин. Воспоминания. Париж, 1950, стр. 234.
[Закрыть]. И в Берлине, по слухам, он тоже наделал долгов, это одна из причин его возвращения в Москву.
Возвращение на Родину
Споры о признании Октябрьской революции на рубеже 1922–23 годов раскололи эмигрантскую колонию. Разногласия выявились прежде всего в двух самых больших русских литературных объединениях, существовавших тогда в Берлине, – в «Доме искусств» и «Клубе писателей». Эти объединения не имели постоянного местопребывания. Встречались чаще всего в кафе, которые становились местами стихийно возникавших декламаций, горячих диспутов. Самым замечательным было кафе «Леон» на Ноллендорфплац. Его помещения на втором этаже именовались русскими попросту «наш клуб», так как там еженедельно встречались члены «Клуба писателей».
И другие кофейни на Ноллендорфплац с ее русскими лавками, цирюльнями и конторами тоже часто посещались литераторами с востока, так что в начале двадцатых годов не было чего-то необычного в том, что буквально в двух шагах друг от друга проходило несколько поэтических выступлений. Особой популярностью пользовалось кафе «Прагер Диле». Оно стало местом встреч вновь прибывших из России. Белый даже придумал слово «прагердильствовать», что для него означало проводить время в философствовании, полемике в голубой дымке и с коньяком. Мучимый всевозможными несчастьями и депрессиями Ходасевич тоже часто бывал в этом кафе. Он посвятил этому кафе «Прагер Диле» свое очень мрачное стихотворение «Берлинское». У Эренбурга там было свое постоянное место, где он на разбитой пишущей машинке, казалось, не обращая внимания на хождение вокруг него, строчил свои тексты. Там же он давал советы желавшим возвратиться. Не удивительно поэтому, что Эренбург очень быстро попал под подозрение в работе на советскую разведку.
Один из современников вспоминал: «Мы ведь знали, что он часто прямо из нашего кафе направлялся в советское посольство, где подолгу задерживался в великолепно обставленном кабинете „культурного атташе“»[21]21
З. Арбатов. Ноллендорфплацкафе – литературная мозаика // Грани (Франкфурт) 41 (1959), стр. 106–122.
[Закрыть].
И другим посетителям кафе приписывалось, что они имеют задание размягчить эмигрантские круги и углубить существовавший в них раскол. Так, Есенин в феврале 1923 года жаловался, что до него дошел слух о подобных подозрениях. «Все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или агитатор… Ну да черт с ними, ибо все они здесь прогнили за пять лет эмиграции. Живущий в склепе всегда пахнет мертвечиной»[22]22
Сергей Есенин. Собр. соч. в 6 томах. Москва, 1980, т. 6, стр. 126.
[Закрыть]. Эмигрантская пресса окрестила Есенина «красным Распутиным». Эренбург стал защищать его, но этим дела не улучшил[23]23
Ewa Bérard. Ilja Erenburgs Berliher Zeit (1921–1923) // Russische Emigration in Deutschland 1919–1941. Hrsg. K. Schlögel. Münchcn, 1955, S. 323–333.
[Закрыть].
Писатели и художники, заигрывавшие с Москвой, встречались преимущественно в кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе. Там первоначально проходили и мероприятия «Дома искусств», организации, которую поддерживало советское посольство. Эти мероприятия находили большой отклик в русской общине Берлина. В один из вечеров среди зрителей оказался член советского политбюро Алексей Рыков. Рыков якобы проходил под Берлином курс лечения от алкоголизма. Здесь он, видимо, встречался с Максимом Горьким, колебавшимся между эмиграцией и возвращением в Москву[24]24
Нина Берберова. Курсив мой. Автобиография. Москва, 1996, стр. 216 (перепечатка издания: Мюнхен, 1972).
[Закрыть].
Эренбург описал в своих мемуарах собрания в «Доме искусств» до образования фронтов в колонии эмигрантов, до споров относительно признания советской власти:
«В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели… Выступал Маяковский, читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич… Года два или три спустя поэт Ходасевич никогда не пришел бы в помещение, где находился Маяковский»[25]25
Илья Эренбург. Люди годы жизнь. Кн. 3 и 4. Москва, 1963, стр. 31.
[Закрыть].
Организаторы «Дома искусств» старались также перекинуть мостки к немецкой культуре. Так, в марте 1922 года им удалось провести выступление Томаса Манна. Белый приветствовал его на отличном немецком языке и благодарил за то, что тот особенно активно выступил за поддержку голодающих в России[26]26
John Malmstad. Andrej Belyj at Home and Abroad (1917–1923) // Europa Orientalis (Roma) 8 (1989), S. 466.
[Закрыть]. В этот вечер проводился сбор средств для оказания помощи голодающим. Однако подобные встречи между русскими и немцами были редкостью. Замечание Набокова о том, что русские интеллигенты были настолько заняты собой, что не искали контактов вне своего круга, было совершенно справедливо. Даже очень хорошо говорившая по-немецки Марина Цветаева, которая во время своих прежних приездов в Берлин с воодушевлением ходила по театрам и музеям и встречалась с деятелями искусств, за время своего десятинедельного пребывания в русской колонии эмигрантов даже не искала контактов с немецкими представителями духовной жизни. Эта изоляция сказалась и на литературе: немцы изображались в ней схематично и расхожими штампами.
Не был исключением и Виктор Шкловский со своей книгой «Zoo, или письма не о любви». По сути дела это подборка писем, по крайней мере, автор старается создать такое впечатление, – писем, которые он слал тогда почитаемой и вожделенной Эле Триоле, младшей сестре любимой Маяковским Лили Брик. Но Эля Триоле, у которой к тому времени за плечами был неудачный брак с каким-то французом, не ответила на его чувства. Позже она вышла замуж за французского писателя Луи Арагона, который до 50-х годов оставался большим другом советской системы и почитателем Сталина. Во Франции она под именем Эльзы Триоле стала одной из самых признанных писательниц страны и особенно пеклась о распространении русской советской литературы.
Первая часть названия книги Шкловского указывала на район Тиргартен, где проходили многочисленные литературные встречи, но одновременно в ней сквозила ирония по поводу образа жизни эмигрантов. Кроме того, она подразумевала «Обезьянью Великую и Вольную Палату», шутливую идею вечно фантазирующего, но сохраняющего ясность ума сказочника, собирателя старинных сказаний и «царя обезьян» Ремизова. Этот орден рассматривал себя как элитарное самоиронизирующее братство, возвышающееся над банальными раздорами и выступающее за улаживание всех разногласий. Шкловский, как Эренбург и другие литераторы, с гордостью относил себя к членам ордена обезьян. Вторая часть заглавия проистекала из письма Эли, в котором она запрещала ему любые объяснения в любви. Поэтому влюбленный поэт вынужден был обращаться к другим темам, например, к литературно-теоретическим размышлениям. Кроме того, он постоянно задавал ей и себе вопрос, оставаться ли ему в русском Берлине или вернуться на родину. В конце концов он понял, что встречи с Белым, Эренбургом, Пастернаком или художником Марком Шагалом не могут заполнить его пустоту. «Я не могу жить в Берлине. Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Горька, как пыль карбита, берлинская тоска. Я поднимаю руки и сдаюсь»[27]27
Виктор Шкловский. Собр. соч. в трех томах. Москва, 1973, т. 1, стр. 230.
[Закрыть]. Маяковский и Горький обратились к советским властям с ходатайством о возвращении Шкловского, который, по его собственному признанию, во время гражданской войны подпольно работал против большевиков. Он был амнистирован и смог вернуться на родину.








