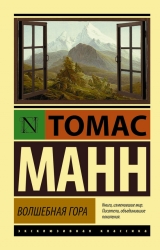
Текст книги "Волшебная гора. Часть II"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Чтобы добиться желаемой и заранее тревожившей консула беседы с гофратом Беренсом, были предприняты надлежащие официальные шаги: Ганс Касторп передал просьбу массажисту, тот довел ее до сведения старшей, с которой консул Тинапель и завязал довольно своеобразное знакомство. Она явилась к нему на балкон, где застала его в шезлонге, и непривычными повадками подвергла немалому испытанию всегдашнюю благовоспитанность спеленатого наподобие младенца и совершенно беспомощного джентльмена. Уважаемый, услышал он, соблаговолит потерпеть денька два или три, гофрат занят, операции, общие обследования – ведь христианский долг повелевает прежде всего облегчать страждущих, а поскольку он, Тинапель, числится здоровым, то ему следует привыкнуть к тому, что он здесь не главная персона, претендовать ни на что здесь не может и должен подождать. Другое дело, если он просит себя обследовать, – чему она, Адриатика, нисколько бы не удивилась, – пусть-ка он посмотрит ей в лицо, ну конечно, глаза мутные и слегка воспаленные, и если приглядеться к нему хорошенько, когда он вот так лежит перед ней, очень похоже на то, что и с ним дело обстоит не совсем благополучно, не совсем ладно, пусть он не поймет ее превратно… Так для чего же он желает видеть главного врача: для обследования или для частной беседы? «Для частной беседы, бес-спорно!» – заверил лежащий. Тогда ему придется подождать, пока его не известят. Для частных бесед у гофрата редко находится время.
Короче говоря, все шло совсем не так, как представлял себе Джемс, а разговор со старшей еще больше вывел его из равновесия. Слишком учтивый, чтобы без стеснения сказать племяннику, чье нерушимое спокойствие прямо свидетельствовало о полном его единодушии с окружающей средой, какое отвратительное впечатление произвела на него эта ужасная особа, он робко постучал и осведомился, не находит ли тот, что старшая весьма оригинальная дама, с чем Ганс Касторп, на миг испытующе устремив взгляд в пространство, отчасти согласился, в свою очередь задав ему вопрос, не продала ли ему Милендонк градусника. «Мне? Нет, разве она ими торгует?» – ответил дядя… Но хуже всего было то, что, судя по лицу племянника, он нисколько не удивился бы и в том случае, если бы это на самом деле произошло. «Мы не зябнем» – было написано на его физиономии. Зато консул ужасно зяб, его постоянно тряс озноб, а голова пылала, и у него даже мелькнула мысль, что если бы старшая в самом деле предложила ему градусник, он, разумеется, от него бы отказался, но, пожалуй, поступил бы опрометчиво, поскольку человеку культурному пользоваться чужим градусником, например племянника, никак не подобает.
Так прошло несколько дней, четыре или пять. Жизнь посланца равнины катилась по рельсам – тем рельсам, которые были для него проложены, и казалось немыслимым, чтобы она шла иными путями. У консула были свои переживания, свои впечатления – мы не собираемся далее в них вникать. Однажды, находясь в комнате Ганса Касторпа, он взял с комода черную стеклянную пластинку, стоявшую там на миниатюрном резном мольберте среди других мелочей, которыми тот украсил свое опрятное жилье, и, подняв против света, обнаружил, что это негатив.
– Что это такое? – спросил дядя, рассматривая снимок.
Законный вопрос. Портрет был без головы и представлял собой скелет человеческого торса в призрачно-бледной оболочке плоти – к тому же женского торса…
– Это? Сувенир, – ответил Ганс Касторп. На что дядюшка сказал «пардон», поставил снимок на мольберт и поспешно отошел от комода. Мы привели этот эпизод лишь как пример его переживаний и впечатлений за эти четыре-пять дней. Присутствовал он и на одной из лекций доктора Кроковского, поскольку не присутствовать на ней казалось немыслимым. Что же касается личной беседы с гофратом Беренсом, которой добивался консул, то на шестой день он все же своего достиг. Его вызвали к главному врачу, и после завтрака, исполненный решимости серьезно переговорить с этим типом по поводу племянника и его времяпрепровождения, он бодро спустился в светлый полуподвал.
Но, вернувшись оттуда, спросил упавшим голосом:
– Ты когда-нибудь слышал что-либо подобное?
Однако поскольку было совершенно ясно, что Ганс Касторп, наверное, уже слышал нечто подобное и что его от этого не прошибет озноб, он ничего больше не добавил и на довольно вялые расспросы племянника отвечал только: «Да так, ничего, ничего». Зато у него тогда же появилась новая привычка: сдвинув брови и сложив губы трубочкой, он сосредоточенно глядел куда-то по диагонали вверх, затем резко поворачивал голову и устремлял такой же точно взгляд в прямо противоположную сторону… Не приняла ли беседа с Беренсом совершенно неожиданного для консула оборота? Об одном ли Гансе Касторпе шла речь, или также о нем, Джемсе Тинапеле, так что свидание все же утратило характер личной беседы? Поведение его указывало на то. Консул был очень оживлен, много говорил, беспричинно смеялся и, тыча племянника кулаком в живот, восклицал: «Ну как, старина!» Но время от времени у него появлялся этот странный взгляд, сначала туда, а потом сюда. Однако глаза его устремлялись и на более определенные предметы – за столом, на обязательных прогулках, в гостиной.
Вначале консул не обращал особого внимания на некую фрау Редиш, жену польского промышленника, сидевшую за столом отсутствующей фрау Заломон и прожорливого гимназиста в круглых очках; да она и вправду ничем особенно не выделялась по сравнению с другими больными женского пола в общей галерее для лежания, дама как дама, впрочем низенькая полная брюнетка, уже не первой молодости, даже чуть-чуть седая, но с миловидным двойным подбородком и живыми карими глазами. Ни осанкой, ни умением держаться, ни разговором она, разумеется, не шла ни в какое сравнение с консульшей Тинапель там, внизу на равнине. Но воскресным вечером, после ужина, в гостиной, консул благодаря сильно декольтированному черному с блестками платью, в которое фрау Редиш нарядилась, сделал важное открытие, а именно, что у нее имеются груди, матово-белые, туго стиснутые корсажем женские груди, разделенные довольно-таки далеко видной ложбинкой, – открытие, до глубины души потрясшее и восхитившее этого зрелого и утонченного джентльмена, словно речь шла о чем-то совершенно новом, доселе невиданном и неслыханном. Он захотел познакомиться и познакомился с фрау Редиш, долго с ней беседовал, сперва стоя, потом сидя, и отправился спать, напевая. На следующий день фрау Редиш была уже не в черном платье с блестками, а в наглухо закрытом, но консул что видал, то видал и остался верен первому своему впечатлению. Он старался перехватить свою даму на обязательных прогулках и, оживленно болтая, шел рядом, по-особенному настойчиво и обаятельно повернувшись и наклонившись к ней, за столом пил за ее здоровье, а она, улыбаясь в ответ, сверкала коллекцией золотых коронок, и в разговоре с племянником называл ее «божественной женщиной», после чего снова принимался что-то напевать. Все это Ганс Касторп спокойно терпел с таким видом, словно так оно и должно быть. Но это никак не могло поднять авторитет старшего родственника в глазах племянника и плохо вязалось с миссией консула…
Случилось так, что во время обеда, за которым Джемс Тинапель подымал бокал в честь фрау Редиш, подымал дважды: за рыбным рагу и под конец, когда подали шербет, – за столом Ганса Касторпа и его гостя сидел гофрат Беренс – он, как известно, столовался поочередно за всеми семью столами и во главе каждого для него ставился прибор. Сложив перед тарелкой свои огромные ручищи, он сидел между господином Везалем и горбуном-мексиканцем, с которым говорил по-испански – он владел всеми языками, в том числе турецким и венгерским, – и, топорща скошенные шрамом усики, выпученными, налитыми кровью синими глазами наблюдал, как консул Тинапель приветствует фрау Редиш фужером бордо. Несколько позже гофрат за трапезой прочел даже небольшой доклад, на что его вдохновил Джемс: он с противоположного конца стола неожиданно задал ему вопрос, как это человек обращается в прах. Гофрат ведь посвятил себя изучению телесной сущности человека, тело, так сказать, его профессия, он, если можно так выразиться, властелин над телами, так пусть же расскажет, что происходит, когда тело разлагается.
– Прежде всего у вас лопается живот! – провозгласил гофрат, положив локти на стол и почти касаясь подбородком сложенных рук. – Вы покоитесь себе на своих опилках и стружках, а газы, понимаете ли, вас пучат, раздувают, как лягушку, когда шалуны мальчишки надувают ее воздухом, – под конец вы превращаетесь в настоящий воздушный шар, и тогда кожный покров у вас на животе не выдерживает давления и лопается. Трах-тарарах! Какое облегчение, вы поступаете, как Иуда Искариот, когда он упал с дерева и у него расселась утроба, вы все из себя вытряхиваете. Н-да, а засим вы снова можете показаться в обществе. Получи вы с того света увольнительную, вы могли бы даже проведать оставшихся родственников, никого не шокируя. Вы, что называется, высмердились. Если выйдешь на воздух, опять будешь стройным красавцем, как граждане Палермо, висящие в подземельях монастыря капуцинов у Порта-Нуова. Они висят там, элегантно-поджарые, и пользуются всеобщим уважением. Все дело только в том, чтобы высмердиться.
– Бес-спорно! – сказал консул. – Весьма вам признателен! – И на следующее утро исчез.
Он удрал, уехал с самым ранним утренним поездом вниз на равнину – конечно, предварительно рассчитавшись за все: кто бы мог в этом усомниться! Он уплатил по счету, внес положенный гонорар за произведенное врачебное обследование, потихоньку, не сказав племяннику ни слова, уложил оба чемодана, – по всей вероятности, еще с вечера или ранним утром, когда все в доме спали, – и Ганс Касторп, зайдя перед первым завтраком за дядюшкой, обнаружил, что комната его пуста.
Молодой человек подбоченился и сказал:
– Так, так! – И тут-то на лице его и отразилась та самая меланхолическая улыбка. – Н-да, – сказал он и покачал головой. – Значит, дал тягу. Сломя голову, с лихорадочной молчаливой поспешностью. Словно желая воспользоваться мгновенной решимостью и до смерти боясь ее упустить, он побросал свои вещи в чемоданы и был таков: один, а не вдвоем, так и не выполнив почетной миссии, рад-радешенек, что хотя бы сам унес отсюда ноги, человек строгих правил, дядюшка Джемс, дезертировал на равнину. Что ж, счастливого пути!
Ганс Касторп никому и виду не подал, что ничего не знал о предстоящем отъезде гостившего в «Берггофе» родственника, особенно хромому портье, провожавшему консула на станцию. С Боденского озера пришла открытка: Джемс писал, что получил телеграмму, требовавшую его немедленного выезда по делам на равнину. Он не захотел беспокоить племянника. Вежливая отговорка. «Приятного пребывания и в дальнейшем!» Уж не насмешка ли это? В таком случае довольно-таки искусственная, вымученная насмешка, подумал Ганс Касторп, ибо дядюшке вовсе было не до смеху и не до шуток, когда он так скоропалительно укатил, нет, консул осознал, внутренне осознал и с содроганием представил себе, что когда он теперь, после недельного пребывания здесь, вернется на равнину, ему еще долго, очень долго будет казаться невозможным, диким, противоестественным не совершать после завтрака обязательной увеселительной прогулки и не располагаться затем горизонтально на свежем воздухе, завернувшись по всем правилам искусства в одеяла, а вместо того идти к себе в контору. И это леденящее кровь сознание и явилось непосредственной причиной его бегства.
Тем и кончилась попытка равнины вернуть заблудшую овцу, сиречь Ганса Касторпа. Молодой человек не скрывал от себя, что бесславный провал кампании, провал, который он заранее предвидел, имел решающее значение для его взаимоотношений с живущими там внизу. Они, пожимая плечами, окончательно махнут на него рукой, а он обретет полнейшую свободу, мысль о которой уже не заставляла учащенно биться его сердце.
Operationes spirituales
[67]67
Духовные упражнения (лат.)
[Закрыть]
Лео Нафта родился в глухом местечке, где-то на границе Галиции и Волыни. Отец его, о котором он говорил с уважением, – очевидно считая, что уже перерос свою прежнюю среду и может отзываться о ней благосклонно, – был там шохетом, резником, но занятие его, как небо от земли, отличалось от занятия какого-нибудь христианского мясника – всего только ремесленника и лавочника. Другое дело – отец Лео. Он был должностным лицом, и даже как бы духовным должностным лицом. Проверенный раввином в благочестивом своем искусстве и уполномоченный им умерщвлять согласно с предписаниями талмуда скот, предназначенный по закону Моисея к убою, Элия Нафта, голубые глаза которого, по рассказам сына, лучились, как звезды, тихой одухотворенностью, сам проникся какою-то торжественностью и святостью, напоминавшими о том, что в первобытные времена заклание животных и в самом деле составляло привилегию жрецов. Когда Лейбе, – так звали Лео в детстве, – разрешали смотреть, как отец во дворе исправляет свою ритуальную должность с помощью дюжего подручного, молодого человека атлетического еврейского сложения и вида, возле которого тщедушный Элия с белокурой круглой бородкой казался еще миниатюрнее и хрупче, – как он заносит над связанным и стреноженным, но не оглушенным быком свой большой нож шохета и перерезает ему глотку до самого шейного позвонка, а подручный едва успевает подставлять под хлещущую фонтаном дымящуюся кровь большие бадьи, – он воспринимал это зрелище, как воспринимают дети, способные иногда чувством схватывать самую суть явлений, что, быть может, особенно было свойственно сыну лучистоглазого Элии. Он знал, что христианских мясников обязывали оглушать скот ударом дубинки или топора перед тем как убивать его и что предписание это давалось им, дабы избежать жестокости и не мучить животных; а отец его, хоть и несравненно более хрупкий и умный, чем те балбесы, и с лучистыми, как звезды, глазами, каких он не видел ни у кого из них, следуя закону, резал живую тварь неоглушенной и давал ей истечь кровью. Способ неотесанных гоев казался мальчику Лейбе выражением легковесного и нечестивого благодушия. Им не воздашь таких почестей божеству, как при исполненном торжественной жестокости отцовском обряде: так представление о благочестии навсегда соединилось у него с жестокостью, подобно тому как в детской его фантазии запах и вид бьющей фонтаном крови переплелись с мыслью о святости и одухотворенности. Ведь он хорошо понимал, что отец при хрупкости телосложения избрал свое кровавое ремесло не потому, что ему нравилась грубая жестокость, возможно и доставлявшая удовольствие христианским мужланам и даже его собственному еврею-подручному, а по внутреннему убеждению, как бы изливавшемуся из его лучистых глаз.
Элия Нафта и в самом деле был мечтателем и философом, не только начетчиком, но и толкователем торы; он обсуждал с раввином отдельные места писания и нередко даже вступал с ним в спор. В своей округе, притом не только среди единоверцев, для одних он слыл, отчасти благодаря своей набожности, человеком особенным, которому было открыто больше, чем иным-прочим, у других он вызывал своего рода суеверный страх или во всяком случае мысль, что с ним – дело нечисто. Что-то в нем было смущающе-сектантское, что-то от пророка, баал-шема или цадика[68]68
Что-то в нем было… от пророка, баал-шема или цадика… – Баал-шем (древнеевр. букв. «знающий имя») – чудотворец; цадик – праведник, святой. Баал-шемом звали также Израиля Бешта (около 1700—1760), основателя и главу еврейской религиозно-мистической секты хасидов, возникшей в первой половине XVIII в. на Волыни, в Подолии и Галиции как оппозиция беднейших слоев еврейства против официального иудаизма.
[Закрыть], то есть чудотворца, тем паче что он однажды и вправду исцелил – при посредстве крови и заговора – женщину от злокачественной коросты, а в другой раз – мальчика от падучей. Но именно этот-то ореол несколько крамольной святости, при котором немалую роль играл присущий его ремеслу запах крови, и погубил Элию Нафту. Во время беспорядков и погромов, вызванных загадочной смертью двух христианских детей, Элия страшным образом поплатился жизнью: его распяли, пригвоздили к двери собственного дома, который погромщики подожгли, а чахоточная жена его, долгое время прикованная к постели, с детьми, – мальчиком Лейбой и четырьмя другими ребятишками, все мал мала меньше, – воздев руки, плача и причитая, бежала с насиженного места. Благодаря предусмотрительности Элии не оставшись целиком без средств, сраженная горем семья погибшего нашла прибежище в одном из городков Форарльберга[69]69
Форарльберг – горная местность в Альпах, по соседству с Тиролем.
[Закрыть]; там вдова Нафта устроилась на бумагопрядильную фабрику, где работала, сколько и пока хватало сил, а старшие дети ходили в школу. Но если преподносимый этим учебным заведением духовный рацион мог в какой-то мере отвечать складу характера и потребностям младших братьев и сестер, то для старшего, Лейбы, он казался чересчур скудным. От матери мальчик унаследовал предрасположение к чахотке, а от отца, помимо хрупкого телосложения, незаурядный ум и способности, к которым очень рано присовокупились тщеславие, непомерное честолюбие, неутолимая жажда изысканного комфорта, будившие в нем страстное желание подняться над окружавшей его средой. Чтением книг, которые пятнадцатилетний подросток добывал всеми правдами и неправдами, он нетерпеливо и беспорядочно развивал свой ум, поставляя ему таким образом недостававшую ему в школе пищу. Он думал и высказывал вслух такие вещи, от которых его чахнувшая на глазах мать только криво втягивала голову в плечи и всплескивала изможденными руками. Своим поведением и ответами на уроках закона божьего мальчик привлек внимание окружного раввина, набожного и ученого человека, который стал заниматься с ним у себя на дому, утолив его любовь к отточенной форме уроками древнееврейского и классических языков, а склонность к логическому мышлению – математикой. Но за все свои труды добряк ничего не пожал, кроме черной неблагодарности; чем дальше, тем яснее становилось, что он пригрел змею на своей груди. Как некогда Элия Нафта спорил со своим раввином, так спорил теперь его сын: они никак не могли поладить, то это были религиозные, то философские вопросы, из-за которых между учителем и учеником возникали разногласия, и разногласия эти все обострялись; честному книжнику пришлось немало натерпеться от непокорного ума, придирчивых вопросов и сомнений, духа противоречия и разящей диалектики юного Лео. Вдобавок мудрствования и интеллектуальные выверты Нафты приняли напоследок революционную окраску: знакомство с сыном одного социал-демократа, члена рейхсрата[70]70
Рейхсрат – государственный совет в бывшей Австро-Венгрии.
[Закрыть], а затем и с самим этим вожаком масс, заставило Лео размышлять о политике, а его страсть к логике направило на критику общественных порядков; от его речей у дорожившего своей лояльностью честного талмудиста волосы становились дыбом. Все это в конце концов привело к решительному разрыву между учителем и учеником. Короче говоря, дело кончилось тем, что учитель выгнал Нафту, запретив ему переступать порог своего кабинета, как раз в то время, когда мать Лео, Рахиль Нафта, лежала при смерти.
Но тут, непосредственно после кончины матери, Лео познакомился с патером Унтерпертингером. Шестнадцатилетний юноша сидел пригорюнившись на скамейке в парке так называемого Маргаретен-капфа, холма у западной окраины городка, на берегу Иля, откуда открывался великолепный вид на привольную долину Рейна, – сидел там, погруженный в мрачные и горькие мысли о своей участи и о будущем, как вдруг прогуливавшийся по аллеям преподаватель иезуитского пансиона «Утренняя звезда» уселся рядом с ним, положил возле себя шляпу, закинул под сутаной ногу на ногу и, полистав в молитвеннике, что-то у него спросил; слово за слово, они разговорились, и беседа эта решила всю дальнейшую судьбу Лео. Иезуит, образованный человек, много повидавший на своем веку, но педагог по призванию, знаток и ловец человеческих душ, навострил уши при первых же произнесенных с явной иронией фразах, которыми жалкий еврейский юноша отвечал на его расспросы. В них чувствовался острый озлобленный ум, а когда патер решил копнуть поглубже, то натолкнулся на знания и ядовитое изящество мысли, которых никак нельзя было предположить у молодого оборванца.
Они говорили о Марксе, с чьим основным трудом, «Капиталом», Лео познакомился по дешевенькому массовому изданию, а с него перешли на Гегеля, которого или о котором он тоже читал достаточно, чтобы высказать несколько оригинальных суждений. То ли вообще из любви к парадоксам, то ли учтивости ради, он назвал Гегеля «католическим» мыслителем, и на заданный патером с улыбкой вопрос, как же это обосновать, поскольку Гегеля в качестве прусского государственного философа[71]71
…Гегеля в качестве прусского государственного философа… – Имеется в виду деятельность крупнейшего представителя немецкой классической философии, основоположника диалектического метода Георга-Вильгельма-Фридриха Гегеля (1770—1831) в «берлинский период», когда Гегель по приглашению правительства Пруссии занял кафедру философии в Берлинском университете. В этот период им были написаны «Философия права» (1821), обосновывавшая права Пруссии на гегемонию в германском мире, и «Философия истории» (вышедшая посмертно, в 1837 г.), где провозглашалось право Германии на мировое владычество.
[Закрыть], собственно, да и по существу, следовало бы скорее считать протестантом, возразил: именно выражение «государственный философ» доказывает, что в религиозном смысле (разумеется, не в церковно-догматическом) он прав в отношении католицизма Гегеля. Ибо – Нафта питал особое пристрастие к этому союзу, который приобретал в его устах что-то победоносно-неумолимое, и всякий раз, когда ему удавалось ввернуть это словечко, глаза его за стеклами очков вспыхивали холодным блеском, – ибо политика и католицизм – понятия психологически связанные, они принадлежат к одной категории, охватывающей все объективное, созидающее, деятельное, претворяющее в действительность и обращенное к внешнему миру. Ей противостоит пиетистская, идущая от мистики сфера протестантизма[72]72
…пиетистская… сфера протестантизма. – Пиетизм (от лат. pietas – благочестие) – направление в лютеранской церкви, основанное в XVII в. священником Филиппом Якобом Шпенером (1635—1705), резко враждебное науке и просветительской философии.
[Закрыть]. У иезуитов, добавил он, политико-педагогическая сущность католицизма становится особенно очевидной; орден всегда считал своей вотчиной искусство управления государством и педагогику. И он назвал еще Гете, уходящего корнями в пиетизм и несомненного протестанта, человеком, бывшим в некоторой мере католиком – именно благодаря его объективизму и призыву к действию. Он защищал таинство исповеди и как педагог в своих взглядах был чуть ли не иезуитом.
Высказал ли Нафта все эти мысли потому, что они соответствовали его внутреннему убеждению, или потому, что находил их остроумными, или в угоду своему собеседнику, как бедняк, вынужденный льстить и прикидывать, чем можно к себе расположить и чем оттолкнуть нужного человека, – патера занимала не столько правдивость его слов, сколько гибкость ума, о которой они свидетельствовали; разговор продолжался, вскоре иезуиту стали известны личные обстоятельства Лео, и встреча кончилась тем, что Унтерпертингер предложил юноше зайти к нему в пансион.
Так Нафте дозволено было переступить порог «Stella matutina»[73]73
«Утренней звезды» (лат.)
[Закрыть], давно уже манившей его воображение, как некая святая святых учености и аристократизма; больше того, ему посчастливилось найти нового наставника и покровителя, не в пример прежнему способного оценить его дарования и развивать их, учителя, чьи достоинства шли не от сердца, а основывались на знании жизни, и в окружение которого Лео очень хотелось проникнуть. Подобно многим одаренным евреям, Нафта от природы был и революционером и аристократом; этот социалист спал и видел, как бы самому приобщиться к изысканному и замкнутому образу жизни надменных высших кругов. Первое же заявление, на которое его толкнуло присутствие католического священника, хотя и выраженное в сугубо аналитически-сравнительной форме, было объяснение в любви к римско-католической церкви, которую он воспринимал как некую одновременно и аристократическую и духовную, то есть антиматериальную, враждебную действительности и всему мирскому, а стало быть, революционную силу. И это признание было искренним и шло из самых недр его существа; ибо, как сам он разъяснял, иудаизм, в силу своей направленности на все земное и практическое, в силу своего «социализма» и всего политического образа мысли, ближе стоит к католической сфере и более ей сродни, нежели протестантизм с его созерцательностью и мистическим субъективизмом, потому-то и обращение еврея в католичество – процесс духовно куда менее болезненный, чем обращение протестанта.
Рассорившийся с пастырем своей прежней духовной общины, осиротевший и одинокий, Нафта рвался из затхлой атмосферы к достатку и приволью, на которые ему давали право его способности, и сгорал от нетерпения отречься от веры отцов – он давно достиг положенного для этого возраста, – так что «открывшему» его Унтерпертингеру не стоило никакого труда привести эту душу, или, вернее, незаурядный ум, в лоно католической церкви. Еще до того как Лео принял крещение, его по ходатайству патера временно приютили в «Утренней звезде», зачислив на полное телесное и духовное довольствие. Он переселился туда не задумываясь, с величайшим хладнокровием, с невозмутимостью истинного аристократа духа, предоставив младших братьев и сестер заботам благотворительных учреждений и той незавидной доле, на какую обрекала их собственная посредственность.
Принадлежавшие пансиону земельные угодья были не менее обширны, чем жилые его постройки, где размещалось около четырехсот воспитанников; сюда входили леса и пастбища, полдюжины спортивных площадок, всевозможные службы, хлева на несколько сотен голов скота. Пансион «Утренняя звезда» был одновременно интернатом, образцовым поместьем, спортивной академией, лицеем и храмом муз, ибо там процветали театр и музыка. Жизнь здесь была помещичье-монастырской. Строгим своим порядком и внешним лоском, своей благочинной безмятежностью, интеллектуальной атмосферой и материальным благоденствием, четким и разнообразным расписанием дня она как нельзя более потворствовала подспудным наклонностям Лео. Он чувствовал себя на седьмом небе. Обильная и вкусная пища ждала его в большой и светлой трапезной, где, так же как и в коридорах пансиона, строго предписывалось хранить молчание, и молодой префект, сидя за высокой кафедрой, развлекал воспитанников, читая им вслух. Усердие Лео на уроках не знало пределов, и, несмотря на слабую грудь, он напрягал все силы, чтобы в играх и в спорте, которым уделялось время после чая, в грязь лицом не ударить. Благоговение, с которым он ежедневно слушал раннюю обедню и по воскресеньям выстаивал длинную праздничную службу, тоже, надо думать, радовало отцов педагогов. Да и поведением его они не могли нахвалиться. И по праздникам, полакомившись положенным в такие дни пирожным с вином, он в фуражке и серо-зеленом мундирчике со стоячим воротником и брюках с лампасами отправлялся в колонне воспитанников на прогулку.
Никто не напоминал ему о его низком происхождении, о том, что он выкрест и бедняк, и это переполняло юношу восторженной признательностью. По-видимому, никому даже в голову не приходило, что учится он бесплатно. Правила пансиона были таковы, что товарищам не представлялось случая узнать, что он отщепенец без роду и племени. Получать из дома посылки с продуктами и сластями не разрешалось. А если все-таки приходила посылка, ее распределяли между воспитанниками, и Лео тоже получал свою долю. В этом космополитическом учебном заведении его расовая принадлежность в глаза не бросалась. Там училось немало южных чужестранцев из экзотических стран, португальцы из Южной Америки даже больше походили на евреев, чем он, так что само понятие это не могло возникнуть. А эфиопский принц, поступивший в пансион одновременно с Нафтой, несмотря на черный, как у негра, цвет кожи и курчавые волосы, держался даже очень надменно.
Перейдя в класс риторики, Лео выразил желание изучать богословие, чтобы впоследствии, если его найдут достойным, вступить в орден. В итоге бесплатного воспитанника перевели из «второго разряда» пансиона, где плата и содержание были скромней, в «первый». Здесь ему за столом прислуживали лакеи, а спальня его с одной стороны примыкала к покоям силезского графа фон Гарбуваль-и-Шамаре, с другой – к опочивальне отпрыска маркизов ди Рангони-Сантакроче из Модены. Он блестяще закончил курс и, верный своему решению, сменил приволье пансиона на жизнь в доме для испытуемых[74]74
…сменил приволье пансиона на жизнь в доме для испытуемых… – Желающие быть допущенными в члены иезуитского ордена в течение двадцати дней живут в «домах испытаний» (domus probationis), где подвергаются строгому искусу, наблюдениям и расспросам со стороны «испытующего». После этого они принимаются в «испытуемые» и в течение двух лет проходят суровую школу орденской дисциплины.
[Закрыть] в близлежащем Тизисе, жизнь, исполненную смирения и покорности, молчаливого повиновения и религиозных упражнений, которым он, поставив себе в пример средневековых фанатиков, предавался с каким-то даже духовным сладострастием.
Но вскоре, однако, здоровье его пошатнулось, и не столько от монашески-сурового образа жизни, в которой, впрочем, предусматривалось и время на отдых, сколько по причинам внутреннего порядка. Приемы воспитания, предметом которого он стал, своим хитроумием и каверзностью как нельзя больше соответствовали его природным задаткам и способствовали их проявлению. При всех этих духовных упражнениях, в которых он проводил дни и даже часть ночи, всех этих испытаниях совести, размышлениях, самоуглублениях, созерцаниях он с дошлостью заядлого казуиста увязал в сотнях неразрешимых противоречий, трудностей, спорных вопросов. Нафта повергал в отчаяние своего духовного наставника, – что не мешало патеру возлагать на него самые большие надежды, – каждодневно допекая его страстной своей диалектикой и недостатком простодушной веры. «Ad haec quid tir?»[75]75
Что ты на это скажешь? (лат.)
[Закрыть] – вопрошал он, сверкая стеклами очков… И загнанному в тупик патеру не оставалось ничего другого, как призывать его к молитве, дабы он обрел душевный покой – ut in aliquem gradum quietis in anima perveniat. Однако «покой» этот если и достигался, то ценой полного отупения и потери собственного «я», превращения человека в простое орудие, – воистину могильный покой, зловещие внешние признаки которого брат Нафта мог заметить на многих, потерявших всякое выражение, пустоглазых физиономиях своих однокашников, такого покоя ему никогда не достичь, как бы он ни изнурял постом и молитвой свое тело.
Впрочем, все эти его сомнения и споры не повредили ему в мнении начальников, что свидетельствовало об их, несомненно, высоком интеллектуальном уровне. После двухгодичного искуса Нафту вызвал к себе сам отец-провинциал[76]76
Провинциал – в иезуитском ордене – глава особого района, «провинции», на которые орден разделил весь мир.
[Закрыть], беседовал с ним и дал указание принять его в члены ордена; и юный схоласт, посвященный в четыре низшие степени: привратника, служки, чтеца и заклинателя бесов, а также принесший «простые» обеты[77]77
…принесший «простые» обеты… – Имеются в виду обычные монашеские обеты, обязательные и для членов иезуитского ордена – целомудрие, бедность, послушание.
[Закрыть], уже как член ордена отправился в иезуитскую коллегию голландского города Фалькенбурга, чтобы приступить к изучению богословия.
Ему было тогда двадцать лет, а три года спустя от неблагоприятного климата и напряженной умственной работы наследственный его недуг настолько развился, что дальнейшее пребывание в коллегии могло стоить ему жизни. У Нафты пошла горлом кровь, несколько недель он находился между жизнью и смертью, и встревоженные начальники отослали едва оправившегося больного туда, откуда он прибыл. В том же самом учебном заведении, где Нафта когда-то учился сам, ему предоставили должность префекта, воспитателя и учителя древних языков и философии. Такой перерыв был так или иначе обязательным для всех схоластов, с той разницей, что, проработав несколько лет педагогами, они, как правило, возвращались в коллегии, чтобы продолжить и окончить семилетний курс богословия. Но брату Нафте этого не дано было сделать. Он все прихварывал, и начальство пришло к заключению, что самое для него подходящее пока что – это служба здесь, в здоровых климатических условиях, и физический труд на вольном воздухе с воспитанниками на ферме. Он, правда, был посвящен в первую высшую степень, получил право при торжественной воскресной литургии читать нараспев апостола – право, которым он, впрочем, не пользовался, во-первых, потому, что был совершенно немузыкален, а во-вторых, потому, что болезненная ломкость голоса не позволяла ему петь. Выше иподиакона он так и не пошел, не сподобился звания диакона и тем более священнического сана, и так как кровохаркания возобновились и его по-прежнему лихорадило, то на средства ордена он поселился здесь наверху для длительного лечения и лечился уже шестой год, так что пребывание в разреженном горном воздухе было, собственно, уже не лечением, а единственно для него возможным отныне условием существования, которое он в какой-то мере скрашивал преподаванием латыни в гимназии для туберкулезных детей…






