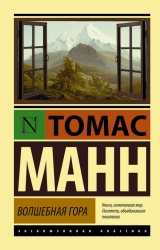
Текст книги "Волшебная гора (Главы 6-7)"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
И все же Ганс Касторп любил эту жизнь в снегах. Ему она очень напоминала жизнь на взморье, общим здесь было извечное однообразие природы: снег, глубокий, рассыпчатый, девственный, с успехом играл роль желто-белого песка там, на равнине. Одинаково чисто было соприкосновение с тем и с другим. Сухой от мороза, белый покров так же легко, не оставляя следов, стряхивался с башмаков и с одежды, как беспыльный порошок из камушков и раковин морских глубин, и так же трудна, как ходьба по дюнам, была ходьба по снегу, если только верхний его слой, подтаяв на солнце, не успел подмерзнуть ночью; тогда ступать по нему было легче, приятнее, чем по паркету, пожалуй, столь же легко и приятно, как по наглаженному, твердому, пропитанному влагой упругому песку у самой кромки моря.
Но в этом году снегопады и гигантские массивы снега досаднейшим образом ограничивали движение на свежем воздухе для всех, кроме лыжников. Снегоочистители работали вовсю, но едва-едва управлялись с расчисткой наиболее людных дорожек и главной улицы курорта; немногие удобопроходимые дороги, очень скоро заканчивавшиеся неприступным снежным полем, были заполнены здоровыми и больными, местными жителями и интернациональной толпой приезжих. Но пешеходов едва не сбивали с ног, санки, на которых катили с горы господа и дамы, откинувшись назад, вытянув вперед ноги, с громким "берегись", по тону которого чувствовалось, насколько они проникнуты важностью своего занятия: на детских вихляющих, подскакивающих салазках мчаться с горы и, едва добравшись до низу, опять тащить наверх свою модную игрушку.
Ганс Касторп был по горло сыт этими прогулками. Им владели два желания: первое и сильнейшее – оставаться наедине со своими мыслями и делами, словом, "править", а оно не в полной мере удовлетворялось лежанием на балконе, и второе, связанное с первым и состоявшее в живом стремлении ближе, непосредственнее соприкоснуться с заснеженными горами, которые так ему полюбились. Это, второе желание было и вовсе невыполнимо, ежели его лелеял беспомощный, неокрыленный пешеход, которому, сверни он с проторенной и расчищенной дорожки, грозила опасность тотчас же по грудь увязнуть в снежной стихии.
Итак, в эту свою вторую зиму "наверху" Ганс Касторп решил приобрести лыжи и научиться пользоваться ими в той мере, в какой это было необходимо для его замыслов. Он не был спортсменом в силу своей физической организации, к спорту никогда не тянулся и даже не притворялся любителем такового – не в пример многим обитателям "Берггофа", в угоду местному духу и моде глупейшим образом рядившихся спортсменами. Женщины в этом не отставали от мужчин, Гермина Клеефельд, например, несмотря на то что от недостаточности дыхания у нее кончик носа и губы всегда были синими, любила выходить ко второму завтраку в брюках и свитере, чтобы иметь возможность после еды, с вызывающим видом раздвинув колени, небрежно развалиться в одном из соломенных кресел вестибюля. Обратись Ганс Касторп к гофрату за разрешением осуществить свое дерзостное намерение, он непременно получил бы отказ. Занятия спортом категорически запрещались пациентам "Берггофа" и других подобных заведений: здешний воздух, казалось бы так легко вдыхаемый, и без того предъявлял немалые требования к сердечной мышце. Что же касается лично Ганса Касторпа, то дерзкое его изречение относительно "привычки не привыкать" по-прежнему оставалось в силе, иными словами, свойственная его температуре склонность к повышению, которую Радамант относил за счет влажного очажка, ничуть не уменьшалась. Да зачем бы он иначе и торчал здесь наверху? Конечно, его желания и намерения были противоречивы и неосуществимы. Но его надо было понять. Тщеславие не подстегивало его к соревнованию с фатоватыми энтузиастами свежего воздуха и "шикарными" спортсменами, которые, будь это моднее, с таким же сосредоточенным усердием уселись бы в душной комнате за карточный стол. Он безусловно чувствовал себя причастным к другому, более чопорному сообществу, нежели этот беспечный туристский народец, и со своей новой, более широкой точки зрения, основанной на отчуждающем чувстве собственного достоинства и долга, полагал, что ему не пристало резвиться здесь и, наподобие этих дураков, валяться в снегу. Ни о каких эскападах он не помышлял и был полон благоразумия. Радамант, конечно, мог бы ему позволить то, что он задумал, но так как в силу установленного здесь порядка все-таки бы не позволил, то Ганс Касторп решил действовать за его спиной.
При случае он посвятил в свое намерение господина Сеттембрини, и господин Сеттембрини от восторга едва не заключил его в объятия: "Ну конечно же, инженер, разумеется, ради бога, сделайте это! Никого не спрашивайте и беритесь за дело – добрый гений внушил вам эту мысль! Торопитесь, покуда не прошла охота. Я иду с вами в магазин, давайте немедленно приобретем эти благословенные штуки. Я бы и в горы помчался с вами, в крылатых башмаках, как Меркурий, но не смею... Э, "сметь"! Меня бы уж ничто не остановило, если б я только "не смел", но я не могу, я конченый человек. Тогда как вы... вам это не повредит, ни капельки не повредит, только бы вы благоразумно соблюдали меру. Ах, да что там, если немножко и повредит, все равно это вам добрый гений... Молчу. Великолепная затея! После двух лет пребывания здесь и такая мысль, – значит, ядро у вас здоровое, ставить крест на вас еще рано. Браво, браво! Вы натянете нос вашему властителю теней, покупайте лыжи и велите прислать их ко мне или к Лукачеку, а еще лучше в лавчонку к бакалейщику. По мере надобности будете брать их для тренировки и затем... уноситесь вдаль..."
Так все и сделалось. На глазах господина Сеттембрини, строившего из себя знатока, хотя он ровно ничего не смыслил в спорте, Ганс Касторп приобрел в магазине на главной улице щегольские лыжи из отличного ясеневого дерева, покрытые коричневым лаком, с великолепными ремнями, красиво загнутые спереди, а также палки с железными наконечниками и кружками и, отказавшись от всякой помощи, взвалил их на плечо и донес до квартиры Сеттембрини, а там уже договорился с бакалейщиком, что лыжи будут стоять у него. Вдоволь наглядевшись на лыжников, он имел некоторое представление, как обращаться с этим спортивным орудием, и начал кое-как ковылять в одиночку у безлесного склона, неподалеку от санатория "Берггоф", в стороне от тех мест, что кишели начинающими спортсменами. Сеттембрини, случалось, стоял тут же, опершись на свою трость, изящно скрестив ноги, и наблюдал за ним, приветствуя первые проявления сноровки громким "браво!". Все обошлось благополучно и в тот раз, когда Ганс Касторп, спускаясь по расчищенной, извилистой дороге в "деревню", чтобы водворить лыжи к бакалейщику, повстречался с гофратом. Беренс его не узнал среди бела дня, хотя новоиспеченный лыжник едва не налетел на него. Гофрат скрылся за облаком сигарного дыма и прошествовал дальше.
Ганс Касторп убедился, что сноровка, в которой испытываешь внутреннюю потребность, приобретается довольно быстро. На то, чтобы стать виртуозом этого спорта, он не претендовал, а того, что ему было нужно, ни разу даже не вспотев и не запыхавшись, добился за несколько дней. Он приучал себя держать ноги вместе, оставляя на снегу параллельно бегущий след, понял наконец, как орудовать палками, трогаясь с места, научился с разбега, распластав руки, брать препятствия – небольшие бугры и возвышенности, взлетая и опускаясь, как корабль в бурю, и с двадцатого раза уже не падал, когда тормозил на полном ходу телемарком, выставив одну ногу вперед, а другую согнув в колене. Мало-помалу он усваивал все большее количество приемов. И в один прекрасный день скрылся в белесой мгле с глаз господина Сеттембрини, который, сложив руки рупором, прокричал ему вслед какие-то предостережения и, вполне удовлетворенный как педагог, отправился восвояси.
Хороши были заснеженные горы. Не то чтобы очень уж мирные и приветливые, они походили на дивные пустынные просторы Северного моря при сильном западном ветре, только вместо оглушающего шума здесь стояла мертвая тишина, которая наполняла сердце почти тем же чувством благоговения. Во все стороны носился Ганс Касторп в своих новых, длинных и гибких, семимильных сапогах: вдоль левого склона в направлении Клаваделя или направо, мимо Фрауэнкирха и Клариса, позади которых грозным призраком вздымался массив Амзельфлю; или в Дишматаль, или же вверх за "Берггоф", к лесистому Зехорну с его заснеженной вершиной, торчавшей там, где кончалась полоса лесов, и дальше к Друзачавальду, за которым виднелся белый силуэт покрытой снегами Ретийской горной цепи. Прихватив лыжи, он поднялся также в вагончике канатной железной дороги на Шацальп и там, на высоте в две тысячи метров, привольно носился по сверкающим, осыпанным снежной пудрой откосам, с которых в ясную погоду открывались величавые дали – арена нынешней его жизни и треволнений.
Ганс Касторп радовался своим успехам, перед лицом которых недоступное стало доступным, а препятствия почти вовсе сгинули. Благодаря им на него дохнуло желанным одиночеством, таким глубоким, что глубже и быть не может, одиночеством, полнившим сердце ощущением чего-то начисто чуждого человеку и его отрицающего. С одной стороны здесь была поросшая елями пропасть, терявшаяся в снежной мгле, с другой – скалистый подъем с чудовищным, циклопическим нагромождением снега, образующим пещеры и своды. Тишина, когда он останавливался и стоял неподвижно, чтобы не слышать себя самого, была предельной и безусловной – беззвучие, подбитое ватой, неведомое, неслыханное, нигде более невозможное. Ветерок не притронется к деревьям, ничто не шелохнется, птица голоса не подаст. В это первозданное безмолвие и вслушивался Ганс Касторп, когда стоял вот так, опершись на палку, склонив голову на плечо, раскрывши рот. А снег все шел в этой немой тишине, неспешно, неустанно и беззвучно ложась на землю.
Нет, этот мир в бездонном своем молчании знать не знал о радушии. Гостя он принимал как незваного пришельца, вернее и вовсе не принимал, не привечивал, только терпел его вторжение, его присутствие, терпел неподобающим образом, ничего доброго не сулящим, и от этой терпимости веяло чем-то стихийным, грозным, не враждебным даже, а безразличным и смертоносным. Дитя цивилизации, с рождения далекое и чуждое дикой стихии, куда острее воспринимает ее величие, нежели угрюмый сын природы, с младых ногтей с нею связанный, привыкший к ее будничной близости. Этому неведома благоговейная робость, с которою тот, высоко вскинув брови, предстает перед ней, робость, собственно, определяющая все его чувства, все отношение к природе и заставляющая его навек сохранить в душе благочестивый трепет и боязливое волнение. Ганс Касторп на своих великолепных лыжах, в свитере из верблюжьей шерсти и в обмотках, казался себе предерзким юнцом, когда подслушивал первозданную тишину, мертвенно безгласную зимнюю пустыню, и чувство облегчения, поднявшееся в нем на обратном пути, едва только первое человеческое жилье вынырнуло из туманной дымки, помогло ему осознать недавнее свое состояние, отдать себе отчет в том, что много часов кряду им владел тайный и священный ужас. На Зильте он стоял в свое время в белых брюках, самоуверенный, элегантный, исполненный уважения, у самых бурунов, точно это клетка со львом, где зверь разевает свою пасть, глубокую, как бездна, обнажая грозные клыки. Затем он купался, а дозорный на берегу трубил в рожок, предупреждая об опасности тех, что дерзко пытались уйти за первую волну, навстречу приближающейся буре, тогда как уже рассыпающийся вал ударял по спине, словно львиная лапа. В тех краях молодой человек познал восторженную радость легкого любовного прикосновения к силам, которые – в более тесном объятии – его неизбежно бы уничтожили. Но тогда ему еще не было дано познать этот соблазн так далеко зайти в этих восторженных прикосновениях к смертоносной природе, чтобы ее объятие стало неминучим. Слабое дитя человеческое, хоть и оснащенное дарами цивилизации, он тогда не стремился проникнуть в глубь наистрашнейшего, не считал еще зазорным обратиться в бегство перед его лицом раньше, чем опасная близость дойдет до критической черты и едва ли будет возможным на ней удержаться. Правда, здесь речь пойдет уже не о пенном всплеске, не о легком ударе львиной лапой, а о валах, о ненасытной пасти, о море.
Короче говоря, Ганс Касторп набрался мужества здесь наверху, если мужество перед стихиями является не тупым рационализмом по отношению к ним, а сознательным самопожертвованием и подавлением в себе, из симпатии, страха смерти. Из симпатии? Да, конечно, в узкой, цивилизованной груди Ганса Касторпа теплилась симпатия к стихиям; и эта симпатия объединялась с новым для него чувством собственного достоинства, которое он осознал при виде господ и дам, катающихся на салазках, и благодаря которому понял, что подобающим и необходимым для него является одиночество более глубокое, более значительное, чем то гостинично комфортабельное одиночество, которым он баловался на своем балконе. С балкона смотрел он на громады затуманенных гор, на пляску метели и в душе стыдился, что глазеет, укрывшись за бруствером уюта. Поэтому-то, а вовсе не из спортивного азарта или врожденной любви к физическим упражнениям, он научился бегать на лыжах. И если ему и было не по себе среди снежной мертвенной тишины, – а не по себе там, конечно же, было этому отпрыску цивилизации, – так что с того: живя наверху, он давно уже приобщился умом и чувством к вещам, от которых становится не по себе. Коллоквиум с Нафтой и Сеттембрини тоже не способствовал благодушному настроению, уводя в бездорожье, в величайшие опасности. И если могла идти речь о симпатии Ганса Касторпа к снежной пустыне, то лишь потому, что, вопреки своему благочестивому ужасу, он рассматривал ее как наилучшую среду для вынашивания всех своих мыслей, как наиболее подобающее местопребывание для того, кто, правда, сам не зная, как это произошло, принял на себя тяготы правления, заботу о назначении Homo Dei и его царства.
Здесь не стоял дозорный и не трубил в рожок, предупреждая смельчаков об опасности, если только им не был господин Сеттембрини в минуту, когда он складывал руки рупором и что-то кричал вслед уносящемуся на лыжах Гансу Касторпу. Но тот был оснащен мужеством и симпатией, а потому обратил на этот окрик не больше внимания, чем на крик, некогда раздавшийся за его спиной в карнавальную ночь после пресловутых шагов, им предпринятых: "Eh Ingegnere, un po di ragione, sa!"* – Эх ты, педагогический сатана с твоими ragione и ribellione, – подумал он. – И все равно ты мне нравишься. Ты, конечно, ветрогон, шарманщик, но намерения у тебя добрые, куда добрее, чем у маленького злючки – иезуита и террориста, да и люблю я тебя больше, чем этого испанского заплечных дел мастера с его блестящими очками, хотя, правда почти всегда на его стороне, когда вы ссоритесь, педагогически единоборствуя за мою бедную душу, как бог и черт в средние века единоборствовали за человека..."
______________
* Эй, инженер, немножко благоразумия, знаете ли! (итал.).
В осыпанных снегом башмаках, усиленно работая палками, он пробирался к белесым высям, полотнища которых уступами шли вверх, все выше, выше – бог весть куда, казалось даже, что никуда, ибо их верхние края сливались с небом, таким же белесым и неведомо где начинавшимся. Ни одной вершины, ни одного контура не было видно. Ганс Касторп подымался в мглистое ничто, и так как мир позади него – населенная людьми долина – тоже вскоре скрылся из глаз и ни один звук оттуда уже до него не доносился, то глубина его одиночества, более того – потерянности, прежде чем он успел об этом подумать, превзошла его мечтания; это было одиночество глубокое до ужаса – непременной предпосылки отваги. Praeterit figura hujus mundi*, сказал он про себя по-латыни, это была отнюдь не гуманистическая латынь, а самое изреченье он слышал однажды от Нафты. Он остановился, чтобы осмотреться. Куда ни глянь, нигде ничего не видно, кроме отдельных малюсеньки" снежных хлопьев, которые появлялись из белой выси и мягко ложились на белую землю, а вокруг неистово молчала тишина. В то время как взгляд его упирался в белую слепящую пустоту, он ощутил усилившееся от подъема биение своего сердца – этого мышечного органа, животный облик которого и то, как оно трепещет, он, быть может дерзко, подглядел под треск и вспышки молний в кабинете для просвечивания, и вдруг его охватило умиление, немудреная, благоговейная симпатия к своему сердцу, к бьющемуся человеческому сердцу, такому одинокому здесь, среди ледяной пустоты, со своим вопросом, со своей загадкой.
______________
* Проходит образ мира сего (лат.).
Он двинулся дальше, еще выше, к небу. Временами он втыкал в снег верхний конец палки и, вынимая ее, смотрел, как из глубины отверстия выплескивается синий свет. Его это забавляло, он подолгу стоял на месте, снова и снова наблюдая маленький оптический феномен. Так странен был этот нежный горно-глубинный свет, зеленовато-голубой, прозрачный, как лед, и в то же время затененный и таинственно влекущий. Он напомнил ему свет и цвет некиих глаз, роковых раскосых глаз, которые господин Сеттембрини, твердо стоявший на гуманистических позициях, презрительно окрестил "татарскими щелками" и "огоньками волчьих глаз в степи", – давно увиденные и неизбежно вновь обретенные глаза Хиппе и Клавдии Шоша. "Охотно, – вполголоса проговорил он среди безмолвия... – Только смотри не сломай: il est a visser, tu sais"*. И внутренним слухом услыхал благозвучные призывы образумиться.
______________
* Его, знаешь ли, надо вывинчивать (франц.).
Справа поодаль из тумана выступил лес. Он двинулся к нему, чтобы иметь перед глазами земную цель вместо белесой трансцендентности, и вдруг, ослепленный белизной, скатился вниз, не успев заметить перед собой откоса, не разобрав рельефа местности. Ничего не было видно, все расплывалось перед глазами. Препятствия возникали совершенно неожиданно. Он вверился откосу, даже не определив глазом его высоты.
Лес, привлекший сюда Ганса Касторпа, находился по другую сторону ущелья, в которое он нечаянно съехал. Двигаясь по его покрытому снегом дну, он заметил, что ближе к горе оно становится покатым, идет книзу. По мере того как он спускался, откосы становились выше, ложбина, точно туннель, врезалась в глубь горы. Затем носы его лыж опять приняли почти вертикальное положение; грунт сделался выше, боковые стены сошли на нет. Бездорожным своим путем Ганс Касторп снова вышел на открытый склон, вздымавшийся к небу.
Хвойный лес был теперь сбоку от него и под ним; он повернул и, быстро съехав вниз, оказался среди заснеженных елей, последних деревьев большого бора, клином врезавшихся в безлесное пространство. Под их сенью он отдохнул, выкурил папиросу, в душе все еще подавленный, взволнованный и угнетенный бездонной тишиной и таинственным одиночеством, но гордый тем, что завоевал их, и полный отваги от сознания своего почетного права на такое окружение.
Было три часа. Он ушел вскоре после обеда, намереваясь пропустить час "главного лежания" и полдник, но вернуться еще засветло. Предстоящие часы блужданья среди величавых просторов наполняли радостью его сердце. Он засунул плитку шоколада в карман бриджей и маленькую фляжку портвейна в жилет под свитером.
Солнце было едва различимо за туманной дымкой. Сзади, там, где кончалась долина, возле угла горного кряжа, невидимого Гансу Касторпу, темные облака и плотная мгла, казалось, двигались ему навстречу. Похоже было, что пойдет снег, и, пожалуй, сильнее, чем это нужно для удовлетворения его мечты о настоящей метели. И правда, маленькие, беззвучные хлопья все гуще падали на горное плато.
Ганс Касторп вышел из-под деревьев, протянул руку и глазами исследователя-дилетанта стал разглядывать хлопья, опустившиеся на его рукав. С виду это были бесформенные клочочки, но он уже не раз смотрел на им подобных через свое увеличительное стекло и отлично знал, из каких изящных, отчетливо сделанных крохотных драгоценностей они составляются – из подвесок, орденских звезд, брильянтовых аграфов; роскошнее и тщательнее их не мог бы сработать самый искусный ювелир. Да, с этими пушинками, бременем ложившимися на деревья и устилавшими просторы, по которым он носился на лыжах, дело все-таки обстояло иначе, чем с детства ему привычным морским песком, который они напоминали: они, как известно, состояли не из мельчайших каменных крупинок, а из мириадов водяных частиц, в процессе замерзания откристаллизовавшихся в симметрическое многообразие, – частиц той неорганической субстанции, которая струится в жизненной плазме, в растениях, в человеческом теле, – и среди мириадов волшебных звездочек, с их недоступной зрению, не предназначенной для глаз человеческих, тайной микророскошью ни одна не была похожа на другую. Здесь наличествовала беспредельная изобретательность, нескончаемое рвение видоизменять, скрупулезно разрабатывать одну и ту же основную схему – равносторонний и равноугольный шестиугольник. Но каждое из этих студеных творений было в себе безусловно пропорционально, холодно симметрично, и в этом-то и заключалось нечто зловещее, антиорганическое, враждебное жизни; слишком они были симметричны, такою не могла быть предназначенная для жизни субстанция, ибо жизнь содрогается перед лицом этой точности, этой абсолютной правильности, воспринимает ее как смертоносное начало, как тайну самой смерти. И Гансу Касторпу показалось, что он понял, отчего древние зодчие, воздвигая храмы, сознательно, хотя и втихомолку, нарушали симметрию в распорядке колонн.
Он оттолкнулся, заскользил на своих деревянных полозьях по толстому снежному настилу лесной опушки, съехал вниз во мглу и помчался дальше вверх, вниз, бесцельно и беспечно, по мертвой земле, которая своими опустелыми волнистыми просторами, своей иссохшей растительностью – там и сям на снегу темнели скрюченные карликовые сосенки, – своими мягко очерченными холмами на горизонте так походила на северные дюны. Останавливаясь, чтобы вдоволь налюбоваться этим сходством, Ганс Касторп удовлетворенно кивал головой; жар в лице и легкое дрожание конечностей – своеобразная, дурманящая смесь возбуждения и усталости – вызывали в нем не досаду, а приятное воспоминание о морском воздухе, будоражащем и одновременно усыпляющем. С не меньшим удовлетворением ощущал он свою окрыленную независимость и привольную подвижность. Перед ним не расстилалась дорога, его связывавшая, позади не пролегал путь, который привел его сюда и должен был отсюда увести. Поначалу ему еще встречались вехи, вбитые в землю колья, отметки на снегу, но он постарался как можно скорее выскользнуть из-под их опеки, так как они ему напомнили дозорного с рожком, а следовательно, были не подобающими для внутреннего его отношения к великой зимней пустыне.
Заснеженные скалы, меж которых он лавировал то в одну, то в другую сторону, сменились крутым откосом, затем ровным плато и наконец горным кряжем, теснины которого, устланные пушистым белым ковром, показались ему доступными и необыкновенно заманчивыми. Да, душа Ганса Касторпа легко поддавалась соблазну высей и далей, соблазну одиночества, всякий раз наново перед ним открывавшегося, и, рискуя опоздать, он все дальше углублялся в молчание, суровое, неприветное, не сулящее ничего доброго, хотя внутреннее его напряжение и тревога и без того уже превратились в откровенный страх перед лицом раньше времени сгущавшейся темноты, все кругом затянувшей серой пеленою. Этот страх открыл ему, что до сих пор он невольно делал все возможное, чтобы потерять ориентировку, позабыть, в каком направлении лежат долина и "деревня", в чем и преуспел в полной мере. Впрочем, он мог бы себе сказать, что если тотчас же повернет и все время будет идти под гору, то очутится в долине, хотя, может быть, и не возле самого "Берггофа", довольно быстро, даже слишком быстро, а значит не использует своего времени; с другой стороны, застигнутый метелью, он едва ли скоро отыщет дорогу домой. Но из-за этого уже сейчас обращаться в бегство он не желал, как бы ни томил его страх перед стихиями. Это было не спортсменское решение, ибо спортсмен якшается со стихиями, лишь покуда он их господин и повелитель, он всегда осторожен и более разумный – идет на уступки. Но то, что творилось в душе Ганса Касторпа, могло быть определено лишь одним словом: вызов. И сколько бы порицания ни заключалось в этом слове, даже если, вернее в особенности, если вытекающее из него своеволие чувств связано с откровенным страхом, то все же, по-человечески рассуждая, можно понять, что в тайниках души молодого человека, мужчины, годами жившего так, как этот здесь, накапливается, или, как сказал бы Ганс Касторп, инженер, "аккумулируется", много такого, что в один прекрасный день неизбежно находит разрядку в виде простейшего, но горько-нетерпеливого: "Ну и пусть!" или "Была не была!" – одним словом, в виде вызова и отказа от разумной осторожности. Итак, он двинулся вперед в своих семимильных сапогах, соскользнул с откоса, пересек следующую поляну, где чуть поодаль стояло деревянное строение, не поймешь: сарай или пастушья хижина, с наваленными камнями на крыше, чтобы не снесло, – держа путь к ближайшей горе с ощетинившимся елями хребтом, позади которого громоздились подернутые облачной дымкой вершины. Стеною вставший перед ним косогор, кое-где поросший деревьями, был неприступен, но, немного подавшись вправо, его можно было с грехом пополам обойти, не утомляя себя крутым подъемом, и увидеть, что там делается дальше. Этим-то исследованием и занялся Ганс Касторп, предварительно съехав с поляны, на которой стояла хижина, в довольно глубокую низину со спадом налево.
Только что он начал выбираться оттуда, как (чего, конечно, и следовало ожидать) повалил снег, налетела пурга, такая, что только держись, давно уже грозившая снежная буря, если можно говорить об "угрозе" применительно к слепым и неведающим стихиям, которые отнюдь не тешат себя намерением нас уничтожить, это бы еще куда ни шло, но которым до ужаса безразлично, если это и случится ненароком. "Честь имею", – подумал Ганс Касторп, когда первый порыв ветра, взвихривший снег, обдал его холодом. "Вот это, я понимаю, дохнул! Так и пробрало до костей". И правда, это был жестокий ветер; сильнейший мороз, около двадцати градусов ниже нуля, был нечувствителен и даже казался мягким, покуда воздух, как обычно, оставался сухим и неподвижным, но стоило подуть ветру, как он словно ножами резал тело. Да, если это было только началом и первый порыв ветра, взметнувший снег, был только предварением пурги, то здесь и семи шуб не хватит защитить человека от ледяного кошмара, а на Гансе Касторпе было не семь шуб, а всего только шерстяной свитер, достаточно его гревший, когда же проглядывало солнце, даже казавшийся слишком теплым. Поскольку ветер сейчас дул в бок и в спину, вряд ли имело смысл поворачиваться к нему грудью. Так как это соображение объединялось с его упорством и с постоянным "ну и пусть!" его души, то безрассудный юнец снова двинулся в путь меж одиноко стоявших елей, чтобы укрыться за горой, которую штурмовал ветер.
Удовольствия он при этом не получал ни малейшего, ибо ничего не видел, кроме пляски снежинок, вихрем круживших в воздухе, словно и не собираясь падать на землю и заполнявших собою все пространство. Порывы ледяного ветра острой болью обжигали уши, парализовали конечности, руки немели так, что не поймешь, держат они еще палки или нет. Снег сыпался ему за воротник, холодными струйками стекал по спине, ложился ему на плечи, примерзал на правом боку, Гансу Касторпу казалось, что он вот-вот превратится в снежное чучело, которому всунули в руки палку; и ведь все эти беды на него навалились в обстоятельствах еще сравнительно благоприятных: повернись он, станет многим хуже. Так или иначе, но обратная дорога превратилась в тяжкий труд, за который надо было приниматься без промедления.
Итак, он остановился, сердито передернул плечами и переставил лыжи. От встречного ветра у него захватило дух, и ему пришлось вторично проделать неприятную процедуру перестановки, дабы собраться с силами и в полном самообладании встретить лобовую атаку равнодушного врага. Опустив голову и строго рассчитывая каждый вдох и выдох, он все-таки двинулся в обратном направлении, пораженный, несмотря на то что ничего доброго не ждал, трудностью этого пути для ослепленного и задыхающегося путника. Ему приходилось то и дело останавливаться, чтобы, отвернувшись от ветра, перевести дыхание, и еще оттого, что, наклоняя голову и жмурясь, он ничего не видел в белесых потемках и боялся напороться на дерево или упасть, споткнувшись о какое-нибудь препятствие. Стаи снежных хлопьев опускались к нему на лицо и таяли, отчего оно превращалось в ледяную маску. Они влетали ему в рот, оставляя слабый водянистый привкус, на лету ударялись о судорожно сжимавшиеся веки, растекались по глазам, не давая им смотреть, что, впрочем, было несущественно, так как густая пелена, заволокшая все поле зрения, и болезненная ослепительная белизна и без того исключали возможность видеть. Ничто, белый круговорот пустоты, вот все, что он видел, когда тщился видеть. Лишь изредка проступали из мглы призраки мира явлений: торчащий куст, сбившиеся в кучку сосны или едва очерченный абрис стога, мимо которого он недавно пробегал.
Он оставил его в стороне и через поляну с хижиной пустился в обратный путь. Но пути-то ведь не было, держать направление, хоть приблизительное направление домой, в долину, можно было лишь с помощью счастливого случая, а не разума, ибо если руку, поднятую до уровня глаз, с грехом пополам еще можно было разглядеть, то носы лыж уже находились вне поля зрения. Впрочем, если б он и лучше видел, природа все равно бы не поскупилась на козни, до крайности затруднявшие продвижение вперед. Лицо, залепленное снегом! Ветер словно лютый враг! Он перехватывал дыхание, вовсе пресекал его, не давая сделать ни вдоха, ни выдоха, так что Гансу Касторпу то и дело приходилось отворачивать лицо, чтобы судорожно глотнуть воздуха. Ну как тут было продвигаться вперед ему или другому, пусть более сильному, когда на каждом шагу надо было останавливаться, усиленно моргать, чтобы стряхнуть воду с ресниц, сбивать с себя плотную снежную броню, сознавая, что идти вперед в этих условиях неразумно и дерзко?




