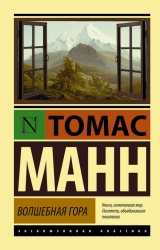
Текст книги "Волшебная гора (Главы 6-7)"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
На почве подобного рода разногласий как-то, незадолго до рождества, во время прогулки по снегу до курорта и обратно, состоялся большой коллоквиум о здоровье и болезни, и все они приняли в нем участие: Сеттембрини, Нафта, Ганс Касторп, Ферге и Везаль, – всех немного лихорадило, от ходьбы и разговоров на сильном морозе все чуть осоловели и вместе с тем были возбуждены, всех бросало в озноб, но независимо от того, участвовал ли кто активно в споре, как Нафта и Сеттембрини, или больше слушал, довольствуясь краткими репликами, – все рассуждали с такой горячностью, что не раз в полном самозабвении, перебивая друг друга, останавливались шумной жестикулирующей ватагой посреди тротуара, загораживая дорогу прохожим, которые вынуждены были их огибать или же замедляли шаг и с изумлением прислушивались к их неистовым препирательствам.
Собственно, диспут возник из-за Карен Карстед, бедной Карен с облепленными пластырем кончиками пальцев, которая недавно умерла. Ганс Касторп не знал, что ей вдруг стало хуже и что она скончалась, иначе при известном его пристрастии к похоронам он не преминул бы по-дружески проводить ее в последний путь. Но, поскольку здесь принято было умалчивать о подобного рода вещах, он слишком поздно узнал о кончине Карен и о том, что она, навсегда уже приняв горизонтальное положение, упокоилась под сенью купидона со снежной шапочкой слегка набекрень. "Requiem aeternam..."* Он посвятил ее памяти несколько дружеских слов, что побудило господина Сеттембрини иронически отозваться о его сердобольной деятельности, посещениях Лейлы Гернгросс, деловитого Ротбейна, передутой Циммерман, высокопарного сына "Tous-les-deux" и злосчастной Натали фон Малинкрод, да еще пройтись по поводу дорогих цветов, коими инженер вздумал почтить всю эту унылую и смешную компанию. Ганс Касторп на это заметил, что те, кому он оказывал внимание, за исключением пока что фрау фон Малинкрод и мальчика Тедди, как-никак не на шутку умерли, на что Сеттембрини спросил, стали ли они оттого более достойными уважения. Но разве христианский долг не повелевает почтительно склоняться перед страданием, возразил Ганс Касторп. Сеттембрини только было собрался его отчитать, но его опередил Нафта, заговорив о набожно-исступленном служении ближнему, которое знало средневековье, удивительных примерах фанатизма и экстаза в уходе за больными: дочери королей лобзали зловонные раны прокаженных, нарочно от них заражались и потом называли полученные язвы своими розами, пили воду, которой омывали гнойники, и клялись затем, что с ней не сравнится никакой нектар.
______________
* "Вечный покой (даруй ей, господи)" (лат.) – начальные слова католической заупокойной мессы.
Сеттембрини сделал вид, что его сейчас вырвет. Его с души воротит не столько от физического отвращения, которое сами по себе вызывают эти рассказы и картины, сказал он, сколько от чудовищной бессмыслицы подобного представления о деятельном человеколюбии. Впрочем, он вскоре повеселел и приосанился, рассказывая о современных, передовых формах служения человечеству, победоносной борьбе с эпидемиями, и противопоставил всем тем мерзостям гигиену, социальные реформы наряду с достижениями медицины.
– Все эти весьма почтенные на буржуазный взгляд блага, – возразил Нафта, – в те времена вряд ли оказали бы большую услугу как больным и несчастным, так и здоровым и счастливым, которые, оказывая помощь ближнему, движимы были не столько состраданием, сколько заботой о собственной душе. Ибо успешные социальные реформы лишили бы одних – главного средства ко спасению, а других – ореола святости. Поэтому длительное сохранение нищеты и болезней было в интересах обеих сторон, и такой взгляд остается правомерным, пока остается в силе чисто религиозная точка зрения.
"Гнусная точка зрения!" – заявил Сеттембрини, – взгляд, вздорность которого он даже считает ниже своего достоинства оспаривать. Ведь "ореол святости", равно как и то, что инженер с чужих слов говорил о "христианском долге, повелевающем склоняться перед страданием", – сплошной обман, основанный на заблуждении, на ложном представлении, на психологической ошибке. Сострадание, которое здоровый испытывает к больному и возводит до благоговения, потому что не представляет себе, как бы сам он на его месте выносил подобные муки, – сострадание это в высшей степени преувеличено, больные его вовсе не заслуживают, оно не более как плод аберрации мысли и фантазии, поскольку здоровый приписывает больному свои собственные чувства и представляет себе больного как здорового, вынужденного переносить страдания больного, что в корне неправильно. Больной есть больной, у него другая, изменившаяся психика, и ощущает он все по-своему; болезнь так приспосабливает к себе свою жертву, что они преотлично друг с другом уживаются: тут вступают в действие понижение чувствительности, провалы сознания, наконец благодатные наркозы, духовные, нравственные средства приспособления и облегчения, о которых заботится сама природа, чего здоровый по наивности в расчет не принимает. Лучшей иллюстрацией тому служит весь этот туберкулезный сброд здесь наверху, с его легкомыслием, глупостью, распущенностью и недостатком доброй воли и желания выздороветь. Словом, если сострадательно-преклоняющийся перед болезнью вдруг сам бы захворал и перестал быть здоровым, то он живо бы убедился, что больные – это в своем роде тоже сословие, хотя не столь уж благородное, и что он принимал их чересчур всерьез.
Но тут возмутился Антон Карлович Ферге, горой встав на защиту плеврального шока от клеветы и поношений. Как? Что? Слишком серьезно принял свой плевральный шок? Нет уж, покорно благодарю и простите! Его большой кадык и благодушные усы заходили ходуном от такого пренебрежительного отношения к перенесенным им страданиям. Он, конечно, всего лишь простой человек, обыкновенный страховой агент, и ничего не смыслит в высоких материях – даже этот разговор выше его разумения. Но если господин Сеттембрини, например, думает отнести и плевральный шок к тому, что он только что наговорил – эту адскую щекотку с запахом сероводорода и трехцветными обмороками, – то простите, пожалуйста, и покорно благодарю! Какое там понижение чувствительности, благодатные наркозы и аберрация фантазии! Это самая страшная пакость, какая только существует на белом свете, и кто этого не пережил, как он, тот не может иметь об этой гнусности ни малейшего...
– Э-э-э! – протянул господин Сеттембрини. – День ото дня коллапс господина Ферге озаряется все большим величием и блеском, так что скоро он станет носить его вокруг головы наподобие нимба. – Он, Сеттембрини, не очень-то уважает больных, которые требуют, чтобы все им изумлялись. Он сам болен, тяжело болен, но, без всякой рисовки, скорее склонен этого стыдиться. Впрочем, он говорил не по чьему-либо адресу, а в чисто философском плане, и его замечания о различии в природе и характере переживаний больных и здоровых достаточно обоснованны, пусть-ка господа вспомнят о душевных болезнях и, в частности, о галлюцинациях. Положим, кто-нибудь из присутствующих, инженер, скажем, или господин Везаль, сегодня вечером, войдя в сумерках к себе в спальню, увидит там в углу покойного своего папашу{155}, который, вперив в него взгляд, заговорит с ним, – это будет для него чем-то из ряда вон выходящим, в высшей степени потрясающим и тяжким переживанием, он глазам своим не поверит, усомнится в своих умственных способностях, выскочит, как ошпаренный, из комнаты и немедля же обратится к психиатру. Разве не так? Но вся штука в том, что этого ни с тем, ни с другим случиться не может, поскольку оба они психически здоровы. А если бы такое с ними все же стряслось, то они были бы не здоровы, а больны, и, следовательно, реагировали бы не как здоровые – то есть не выбежали бы в ужасе из комнаты, а восприняли бы призрак как нечто должное и вступили бы с ним в разговор, как это и делают больные галлюцинациями; полагать же, что галлюцинации вызывают в них здравый страх здорового, и есть та аберрация фантазии, которой подвержены небольные.
Господин Сеттембрини очень забавно и пластично рассказал о папаше в углу. Все невольно рассмеялись, даже Ферге, хотя он и был обижен недостатком уважения к его инфернальным мукам. Гуманист же воспользовался общим весельем, чтобы до конца развенчать и разоблачить всех галлюцинирующих и прочих pazzi:* эти люди, заявил он, слишком много себе позволяют и очень часто вполне способны совладать со своим безумием, как ему не раз представлялся случай убедиться при посещениях больниц для умалишенных. Ведь стоит только в палате появиться врачу или постороннему, и сумасшедший, как правило, тут же перестает гримасничать, разглагольствовать и кривляться, и пока думает, что за ним наблюдают ведет себя вполне пристойно, а затем снова распускается. Ибо безумие, несомненно, во многих случаях не что иное, как именно распущенность, оно служит прибежищем от большого горя, своеобразной мерой защиты натуры слабодушной от сокрушительных ударов судьбы, которые вынести в ясном сознании подобный человек не считает себя способным. Прибежище весьма заманчивое для многих, и ему, Сеттембрини, случалось одним только взглядом, тем, что он противопоставлял фиглярству сумасшедшего свое неумолимое здравомыслие, хотя бы на время заставить его обрести ясность рассудка.
______________
* Одержимых (итал.).
Нафта язвительно рассмеялся, а Ганс Касторп заявил, что охотно верит господину Сеттембрини. Когда он представляет себе, как Сеттембрини, усмехаясь в усы, вонзал в сумасшедшего взгляд, исполненный непоколебимого здравомыслия, ему понятно, что бедняга скрепя сердце вынужден был брать себя в руки и обретал ясность рассудка, хотя, надо думать, воспринимал появление господина Сеттембрини как весьма нежелательную помеху... Но Нафта тоже бывал в домах для умалишенных, в частности он припомнил одно посещение "буйного отделения". Боже ты мой, там ему довелось видеть такие сцены и такие картины, перед которыми даже здравомыслящий взгляд и усмиряющее воздействие господина Сеттембрини, вероятно, пропали бы втуне – поистине дантовские сцены, трагикомические картины ужаса и муки: сумасшедшие, скорчившиеся нагишом под струями холодного душа в самых причудливых позах смертельного страха и тупого отчаяния, один – испуская истошные вопли, другие – воздев руки и широко разинув рты, заливаясь смехом, в котором смешались все атрибуты ада...
– Ага! – обрадовался господин Ферге и позволил себе напомнить о том смехе, что вырвался у него самого перед тем, как он впал в коллапс.
Короче говоря, безжалостная педагогика господина Сеттембрини может убираться куда угодно перед картинами буйного отделения, на которые все же человечнее было бы отозваться дрожью благоговейного ужаса, нежели кичливой рассудочной моралистикой, каковой светлейший рыцарь солнца и наместник Соломона{156} предпочитает врачевать безумие.
Гансу Касторпу некогда было раздумывать над новыми титулами, которыми Нафта наградил господина Сеттембрини. Он наспех решил, что выяснит это при первой возможности. А пока что все его внимание поглощала сама беседа, ибо Нафта как раз не без убедительности разбирал общие причины, побуждавшие гуманиста принципиально превозносить здоровье и по мере сил и возможности поносить и унижать болезнь, в чем он, надо признать, проявил удивительное и даже достохвальное самоуничижение, поскольку ведь господин Сеттембрини сам болен. Однако позиция его, при необыкновенном ее благородстве, все же оставалась в корне ошибочной, так как исходила из уважения и благоговения перед телом, а это было бы лишь тогда оправдано, если бы тело пребывало в своем первозданном божественном состоянии, а не в состоянии униженности – in statu degradationis. Ибо сотворенное бессмертным, оно, вследствие грехопадения, утратило свое совершенство, подпало порче и мерзости, сделалось смертным и тленным, не чем иным, как темницей и застенком души, способным пробуждать лишь чувство стыда и смятения, pudoris et confusionis sensum, как сказал святой Игнатий.
– Эти же чувства, – воскликнул Ганс Касторп, – выразил, как известно, и гуманист Плотин. – Но господин Сеттембрини, вскинув руку над головой, предложил ему не вносить путаницы, а лучше ограничиться восприятием излагаемого.
Нафта тем временем объяснял преклонение христианского средневековья перед телесной немощью тем, что вид страдающей плоти всегда вызывал сочувствие в религиозном сознании человека, ибо язвы телесные не только наглядно свидетельствовали о ничтожестве нашей земной оболочки, но весьма поучительным и доставляющим моральное удовлетворение образом выявляли пагубную испорченность души, тогда как цветущее тело было явлением оскорбительным для религиозного сознания и лишь вводило в заблуждение, и противоборствовать ему, уничижая его перед немощью, было великим благодеянием. Quis me liberabit de corpore mortis hujus? Кто избавит меня от тела смерти сей? Вот глас духа, который всегда был и будет гласом подлинно человеческим.
Нет, то был глас тьмы, по взволнованному заверению господина Сеттембрини, глас мира, над которым не воссияло еще солнце разума и человечности. Пусть тело его поражено пагубной гнилью, но дух свой он сумел сохранить достаточно здравым и невредимым, чтобы достойным образом дать отпор поповским воззрениям Нафты на тело и вволю поиздеваться над так называемой "душой". Итальянец позволил себе даже прославлять человеческое тело, яко истинный храм божий, на что Нафта заявил, что бренная эта ткань не более как завеса между нами и вечностью, после чего Сеттембрини запретил ему когда-либо произносить слова "человек", "человеческое" и так далее.
Без шляп, с онемевшими от мороза лицами, то шагая в резиновых ботах по поскрипывающему и посыпанному золой снежному слою, наросшему на тротуарах, то вспахивая рыхлый снег мостовых, Сеттембрини в зимней куртке с бобровым воротником и обшлагами, будто изъеденными паршой – так на них повытерся мех, – что, впрочем, не мешало ему носить куртку со всегдашней своей элегантностью, – Нафта в длинном до пят и наглухо застегнутом по самый подбородок черном пальто без воротника, но на меху – они спорили об этих принципах, словно дело шло о чем-то сугубо личном, причем часто обращались даже вовсе не друг к другу, а к Гансу Касторпу, которому говоривший, лишь движением головы или большого пальца указывая на оппонента, излагал и доказывал свою мысль. Затиснутый между ними Ганс Касторп, поворачивая голову из стороны в сторону, соглашался то с одним, то с другим или же останавливался и, откинув назад корпус и жестикулируя рукой в теплой шевровой перчатке, принимался доказывать что-то свое, и уж конечно весьма невразумительное, а Ферге и Везаль кружили вокруг этой троицы, держась либо впереди, либо позади или же пристраиваясь с боков, пока попадавшиеся навстречу прохожие вновь не ломали строя.
Именно благодаря их замечаниям дискуссия перекинулась на более конкретные предметы. Так, при все возрастающей активности всех присутствующих, в стремительном темпе, одна за другой, подверглись обсуждению такие проблемы, как кремация, телесные наказания, пытка и смертная казнь. Вопрос об экзекуциях поднял Фердинанд Везаль, что, по мнению Ганса Касторпа, вполне ему пристало. Не удивительно, что господин Сеттембрини в высокопарных выражениях и взывая к человеческому достоинству высказался против применения этой варварской меры как в педагогике, так тем более в правосудии, – и тоже совершенно не удивительно, что Нафта выступил в пользу порки, хотя мрачная дерзость его утверждений всех несколько смутила. По его словам получалось, что болтать о человеческом достоинстве в данном случае просто нелепо, ибо вместилищем истинного достоинства является дух, а не плоть, и так как человек чересчур даже склонен извлекать все радости жизни из тела, то наносимая телу боль весьма подходящее средство, чтобы отбить у него охоту к чувственным наслаждениям и обратить его помыслы, так сказать, от плоти к духу, дабы дух вновь восторжествовал. Усматривать в таком средстве наказания, как побои, что-то особенно постыдное – попросту глупо. Духовный наставник святой Елизаветы Конрад Марбургский высек ее до крови, после чего "душа ее", как говорится в "Житии", "вознеслась до третьего ангельского чина", и сама она наказала розгами бедную старуху, клевавшую носом на исповеди. А самобичевания, которым предавались члены некоторых орденов и сект, да и вообще люди благочестивые, чтобы укрепить в себе духовное начало, – неужели кто-нибудь всерьез осмелится назвать и это варварством и бесчеловечностью? Думать же, что отмена законодательным путем телесных наказаний в некоторых мнящих себя передовыми странах в самом деле является чем-то прогрессивным, просто смешно, и непоколебимость этого представления лишь придает ему еще больший комизм!
Одно во всяком случае следует признать, заметил Ганс Касторп, в противоречии духа и плоти: злое сатанинское начало, несомненно, воплощает собою плоть, ха-ха, значит, все-таки воплощает, так как плоть, естественно, является естественным началом – естественно естественным, это тоже недурно! – а природа, в противоположность духу, разуму бесспорно зла, можно, основываясь на своих знаниях и опыте, даже рискнуть сказать – мистически зла. Если же придерживаться этой точки зрения, то вполне логично соответствующим образом и обходиться с телом, а именно – подвергать его дисциплинирующим мерам воздействия, которые, тоже с некоторым риском, можно бы назвать мистически злыми. Кто знает, быть может, если бы у господина Сеттембрини, когда он, по телесной своей слабости, не смог отправиться на конгресс деятелей прогресса в Барселону, оказалась бы под боком такая вот святая Елизавета{159}...
Все дружно рассмеялись, и поскольку гуманист готов был вспылить, Ганс Касторп поспешно рассказал о том, как его самого однажды в детстве высекли: в низших классах гимназии, когда он учился, это наказание частично еще применялось, там всегда стояла наготове лоза, учитель, правда, не решался поднять на него руку, памятуя об общественном положении его родителей, зато один из его одноклассников, эдакий здоровенный верзила, всыпал ему таки тонким гибким прутом по ягодицам и икрам в одних только чулках, и это было ужасно, чертовски больно, гнусно, незабываемо, просто-таки мистично, от злости и унижения у него из глаз брызнули слезы, и он самым постыдным образом громко всхлипывал, впрочем Ганс Касторп читал где-то, что на каторге даже матерые грабители и убийцы, когда их подвергают телесным наказаниям, хнычут, как малые дети.
Сеттембрини закрыл лицо руками в сильно потрепанных кожаных перчатках, а Нафта, с невозмутимостью государственного деятеля, пожелал узнать, чем же обуздывать закоренелых преступников, как не плетями и батогами, которые, кстати сказать, совершенно в стиле каторжной тюрьмы и вполне там уместны; гуманная каторжная тюрьма – это ублюдок, эстетический компромисс, и господин Сеттембрини, хоть он и поклонник прекрасного слога, по существу ничего не смыслит в прекрасном. А что касается педагогики, то, со слов Нафты, получалось, что представление о человеческом достоинстве тех, кто ратует за уничтожение телесных наказаний, восходит к либеральному идеализму эпохи буржуазного гуманизма, коренится в просвещенном абсолютизме человеческого "я", который в недалеком будущем отомрет и уступит место уже нарождающимся, менее дряблым общественным идеям, идеям общности и подчинения, принуждения и послушания, при которых без священной жестокости никак не обойтись и которые заставят взглянуть иными глазами на наказание человеческого падла.
Отсюда и формула "повиноваться, как падло"{161}, съязвил Сеттембрини, и так как Нафта заметил, что, поскольку господь бог, карая нас за первородный грех, подверг наше тело стыду и сраму тления, в конце концов не такая уж беда, если это же самое тело когда-нибудь и высекут, – подумаешь какое оскорбление величества! – разговор тут же перекинулся на кремацию.
Сеттембрини восхвалял ее на все лады. Этого стыда и срама очень легко избежать, радостно провозгласил он. Человечество, по причинам целесообразности и движимое идеальными побуждениями, вскоре навсегда избавится от них. И он объявил, что участвует в подготовке международного конгресса сторонников кремации, который, очевидно, состоится в Швеции. Там будет демонстрироваться образцовый крематорий, оборудованный по последнему слову техники, а также колумбарий, что, несомненно, вдохновит и привлечет к ним очень многих. Да и то сказать, что за устарелый архаический способ погребение в земле, и до чего же он не созвучен условиям нашего времени. Взять хотя бы рост городов! Оттеснение так называемых кладбищ, занимающих огромную площадь, из центра на окраину! Цены на землю! Прозаизм похорон, которого не избежать, когда приходится пользоваться современными видами транспорта! У господина Сеттембрини многое что нашлось сказать прозаически-верного по этому поводу. Он потешался над согбенной горем фигурой вдовца, каждый божий день совершающего паломничество к могиле дорогой усопшей, чтобы там, на месте, беседовать с нею наедине. У такого идиллика должна быть бездна самого драгоценного на свете блага, а именно свободного времени, не говоря уже о том, что шум и толкучка современного, расположенного в самом центре города кладбища живо отбили бы у него охоту к атавистическому сентиментальничанию. Уничтожение трупа огнем – какая опрятная, гигиеническая, достойная, даже героическая перспектива по сравнению с бесславным саморазложением и ассимиляцией низшими организмами! Да и чувства наши как-то легче мирятся с новым способом, больше отвечающим потребности человека в бессмертии. Ведь огонь поглощает без остатка именно изменчивые, еще при жизни подверженные обмену веществ части тела; те же, что наименее втянуты в общий круговорот и почти без изменения сопутствуют человеку в его зрелые годы, наиболее огнестойки, из них-то и получается пепел, стало быть с пеплом родные и близкие сохраняют то, что в покойном было действительно непреходящим.
– Чудесно! – сказал Нафта. – Нет, это в самом деле очень, очень мило. Непреходящее в человеке – это пепел.
Ну конечно, Нафте любо-дорого, чтобы человечество оставалось при своем иррациональном отношении к биологическим фактам, он хотел бы удержать его на той примитивной ступени религиозности, когда смерть являлась пугалом и была овеяна такой внушающей страх таинственностью, что никто не решался взглянуть на этот феномен ясным оком разума. Что за варварство! Страх смерти возник в эпоху, когда культура стояла на чрезвычайно низком уровне и насильственная смерть была правилом, и вот то ужасное, что в самом деле присуще такого рода кончине, на долгое время связалось в представлении людей с мыслью о смерти вообще. Но теперь, благодаря развитию здравоохранения и укреплению личной безопасности, естественная смерть все больше становится нормой, и современному трудящемуся мысль о вечном покое, после закономерного истощения его сил, не только не кажется ужасной, но скорее нормальной и даже желанной Нет, смерть не пугало и не тайна, это простое, разумное, физиологически необходимое явление, которое можно только приветствовать, и размышлять о ней долее положенного значит обкрадывать жизнь. Потому-то и предполагалось пристроить к образцовому крематорию и прилегающему к нему колумбарию, так сказать, к "залу смерти", еще и "зал жизни", где архитектура, живопись, скульптура, музыка и поэзия совокупными усилиями создадут обстановку, отвлекающую эмоции живых от переживаний смерти, тупой печали и бесплодных сетований к радостям жизни...
– И галопом! – сыронизировал Нафта. – Чтобы только не справлять тризну по усопшему долее положенного, только не впадать в излишнее благоговение перед таким простым фактом, без которого, однако, не существовало бы ни архитектуры, ни живописи, ни скульптуры, ни музыки, ни поэзии.
– Он дезертирует к знамени, – мечтательно произнес Ганс Касторп.
– Невразумительность вашего замечания, инженер, – срезал его Сеттембрини, – уже сама говорит о его порочности. Как ни крути, переживание смерти – это все еще жизненное переживание, либо смерть просто пугало.
– Будут ли в "зале жизни" изображены эротические символы, как на древних саркофагах? – вполне серьезно осведомился Ганс Касторп.
– Во всяком случае, там будет полное раздолье чувственным эмоциям, заверил Нафта. – Устроители, чей вкус явно тяготеет к античности, позаботятся о том, чтобы там и в мраморе и на холсте было возвеличено человеческое тело, то греховное тело, которое спасают от тления, что и не удивительно, ибо от великой к нему нежности даже не разрешают больше его наказывать.
Тут вмешался Везаль, поставив на обсуждение вопрос о пытках, что от него и следовало ожидать. Как относятся господа к допросу с пристрастием? Он, Фердинанд, разъезжая по делам, никогда не упускал случая в старинных культурных центрах посетить те потаенные места, где некогда применяли подобное своеобразное испытание совести. Он побывал в застенках Нюрнберга, Регенсбурга и для пополнения своего образования тщательно с ними ознакомился. Слов нет, там ради спасения души действительно отнюдь не нежничали с телом, придумав для этого немало остроумных способов. И даже крику не было. Запихнут в рот кляп, знаменитую деревянную грушу – само по себе не такое уж лакомство, – и тогда уже спокойно приступают к делу.
– Porcheria*, – пробормотал Сеттембрини.
______________
* Свинство (итал.).
Ферге, отдав должное груше и спокойной деловитости, все же добавил, что, однако, большей пакости, чем ощупывание плевры, и тогда никто не мог бы изобрести.
Да ведь это делалось для его же пользы!
Но закоснелая душа и попранная справедливость не в меньшей мере оправдывали временную жестокость. А кроме того, пытка – плод того же рационалистического прогресса.
Нафта, видимо, не в своем уме.
Нет, в своем более или менее. Господин Сеттембрини – прекраснодушный эстет и, очевидно, мало знаком с историей средневекового судопроизводства. Оно шло на все большие и большие уступки рационализму, так что постепенно, в угоду доводам рассудка, бога окончательно вытеснили из юриспруденции. От суда божьего пришлось отказаться, ибо было замечено, что побеждает сильнейший, хотя бы даже он был и неправ. Люди, подобные господину Сеттембрини, маловеры, критиканы обратили на это внимание и добились того, что место старого, наивного судопроизводства заняла инквизиция, не полагавшаяся более на божье вмешательство в пользу правого и стремившаяся достичь признания истины от обвиняемого. Ни одного осуждения без собственного признания – достаточно прислушаться к тому, что еще сегодня говорят в народе: это инстинктивное убеждение очень крепко засело в головах людей, и как бы ни была последовательна цепь доказательств, без признания обвинительный приговор все же покажется всем незаконным. Как же его добиться? Как помимо одних только улик, одних только подозрений открыть правду? Как заглянуть в сердце, в мозг человека, который эту правду утаивает и все отрицает? Если дух упорствует, то не остается ничего другого, как обратиться к телу – уж оно-то в нашей власти! Применение пытки, как средства добиться нужного до зарезу признания, диктовалось разумом. Но если уж говорить о том, кто требовал и ввел категорию признания в судопроизводство, то сделал это не кто иной, как господин Сеттембрини, а стало быть, он и есть инициатор пыток.
Гуманист умолял своих спутников не верить ни единому слову Нафты. Все это от лукавого. Если бы все было так, как излагает господин Нафта, если бы разум в самом деле оказался изобретателем подобных ужасов, это только доказывало бы, сколь разум во все времена нуждался в поддержке и в просвещении и сколь необоснованны опасения поклонников природного инстинкта, что на земле все станет чересчур уж разумным. Однако предыдущий оратор попал пальцем в небо. Все эти процессуальные ужасы уже потому только нельзя приписать разуму, что в основе их лежала вера в существование ада. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в музеи и застенки: дыба, крючья, огонь, клещи, – все это, совершенно очевидно, плод фантазии людей, в детском ослеплении своем набожно стремившихся воспроизвести вечные муки, которые ждут грешников на том свете. Более того, ведь преступнику искренне желали помочь. Полагали, что бедная его душа жаждет признания и только плоть в качестве злого начала противится благому порыву. Поэтому считали, что, сокрушая плоть, преступнику оказывают истинную услугу. Аскетическое безумие...
– А древние римляне тоже ему были подвержены?
– Римляне? Ma che!*
______________
* Еще чего! (итал.).
– Но ведь и они применяли пытку, как средство дознания.
Общее замешательство. Логика пасовала... Ганс Касторп попытался вывести всех из тупика, самочинно выдвинув проблему смертной казни, словно подобная тема была ему по плечу. Пытки, правда, отменили, но у следователя имелось достаточно средств допечь обвиняемого с тем, чтобы он стал более сговорчив. А вот смертная казнь, по-видимому, бессмертна, без нее не обойтись. Даже самые цивилизованные нации крепко за нее держатся. Французы ничего хорошего не добились, ссылая преступников в колонии. Просто никто толком не знает, как практически поступить с некоторыми человекоподобными особями, разве только укоротить их на голову.
Это вовсе не "человекоподобные", поправил его господин Сеттембрини, а такие же люди, как уважаемый инженер и он сам, только слабовольные и павшие жертвой несовершенного общественного строя. И он рассказал о крупном преступнике, матером убийце, том самом типе "кровожадного зверя" и "скота в человеческом образе", как любят выражаться в обвинительных речах прокуроры, – этот человек исписал стены своей камеры стихами. И совсем не плохими стихами, – намного лучше тех виршей, которые подчас слагают сами столпы правосудия.
– Это несколько неожиданным образом освещает природу искусства, заметил Нафта. В остальном же он не видит тут ничего особенного.
Ганс Касторп ожидал, что господин Нафта выскажется за сохранение смертной казни. Нафта, считал он, вероятно, не менее революционен, чем господин Сеттембрини, но в охранительном смысле, революционер-охранитель.
Мир, самоуверенно усмехнулся господин Сеттембрини, перешагнет через так называемую "революцию" антигуманного регресса и приступит к тем задачам, которые стоят в порядке дня. Господин Нафта скорее готов бросить тень на искусство, чем признать, что оно способно поднять даже самое отверженное создание до высокого звания человека. Таким фанатизмом не завоюешь ищущей светоча молодежи. Недавно основана интернациональная лига, которая ставит себе целью уничтожение законодательным порядком смертной казни во всех цивилизованных странах. Господин Сеттембрини имеет честь быть ее членом. Пока еще неизвестно, где состоится первый конгресс лиги, но человечество может не сомневаться, что ораторы, которые выступят на нем, будут иметь в своем арсенале достаточно веские доводы. И он привел эти доводы, в частности тот, что никогда не исключена возможность судебной ошибки, казни невинного, так же как и тот, что никогда не следует отчаиваться и терять надежду на исправление; даже "мне отмщение" процитировал он, уверяя, что государство, если оно хочет воспитывать, а не карать, не должно платить злом на зло, и отверг понятие "наказания", после того как, основываясь на научном детерминизме, опроверг понятие "вины".




