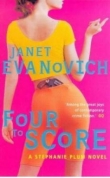Текст книги "Титан"
Автор книги: Теодор Драйзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 44 страниц)
Как-то, промучившись всю ночь горькими думами о Стефани, Каупервуд сказал наутро Кеннеди:
– Я хочу, Фрэнсис, чтобы вы заставили этого лифтера, с которым вы там познакомились, подобрать ключ к студии, и пусть он позаботится, чтобы изнутри не было другого запора. Ключ вы дадите мне. Когда мисс Стефани, будет там вдвоем с этим мистером Герни, известите меня по телефону.
И вот после нескольких недель неустанной слежки наступила развязка. Большая желтая луна висела в небе, дул теплый летний ветерок. Стефани забежала к Каупервуду в контору – предупредить, что она не может поехать с ним за город, как у них было условлено. Она спешит домой, на Западную сторону, так как у Джорджии Тимберлейк в этот вечер устраиваются игры и танцы в саду. Каупервуд слушал ее и понимал, что она лжет. Он был, как всегда, весел, любезен, острил и улыбался, но мысль о том, как бесстыдна эта девица, как нагло играет она свою роль и каким глупцом его считает, не шла у него из головы. Он говорил себе, что Стефани молода, обворожительна, темпераментна и от природы ветрена и непостоянна, но не мог простить ей, что она не любила его так же беззаветно, как любили другие женщины. На Стефани было легкое белое платье в черную полоску и широкополая соломенная шляпа с белой в черную полоску вуалью вокруг тульи и ярко-пунцовым цветком мака, свисающим над левым ухом. Она показалась Каупервуду особенно юной и задорной в этом наряде. «Смесь современной цивилизации и древнего Востока», – невольно подумал он.
– Собираешься повеселиться, малютка? – спросил он, ласково улыбаясь и не сводя с нее своих загадочных, непроницаемых глаз. – Мы сегодня опять намерены блистать в компании наших очаровательных молодых друзей? Вся свита будет в полном сборе, я полагаю? Мистер Блисс Бридж, мистер Ноулз, мистер Кросс – все твои верные пажи и партнеры по танцам?
Он ни словом не обмолвился о Форбсе Герни.
Стефани весело кивнула. Она пребывала в самом безмятежном и праздничном расположении духа.
Каупервуд улыбался, думая о том, что скоро, очень скоро он будет отомщен. Он уличит ее во лжи, поймает на месте преступления – в этой самой студии, быть может, – и с презрением прогонит прочь, навсегда. Случись это в прежние времена, и не здесь, а например, в Турции, он приказал бы удушить ее, зашить в мешок и бросить в Босфор. Теперь в его власти только одно – расстаться с ней. И он все улыбался, поглаживая ее руку.
– Желаю весело провести время, – крикнул он ей вслед, когда она уходила.
Дома, около полуночи, его вызвал к телефону Кеннеди.
– Мистер Каупервуд?
– Да.
– Вы знаете студию во Дворце нового искусства?
– Да.
– Они там сейчас.
Каупервуд позвонил и приказал заложить кабриолет. У него уже давно было заготовлено нечто вроде отмычки, сделанной по его заказу слесарем: металлический стержень, полый на конце и с бороздками – точно по рисунку ключа, доставленного ему Кеннеди. Просунув стержень в замочную скважину и надев его на бородку ключа, вставленного изнутри, можно было без труда отпереть дверь снаружи. Каупервуд нащупал отмычку в кармане, сел в кабриолет и уехал. В вестибюле Дворца нового искусства его ждал Кеннеди. Каупервуд отпустил его домой.
– Благодарю, – коротко сказал он. – Остальным я займусь сам.
Он не воспользовался лифтом и, быстро поднявшись по лестнице, прошел в свободное помещение напротив, потом снова вышел в коридор и приник ухом к двери мастерской. Да, Кеннеди не ошибся, Стефани была там и Герни тоже. Она привела с собой томного молодого поэта, рассчитывая провести с ним восхитительный вечер. В эти часы в здании царила тишина, и Каупервуд отчетливо слышал их приглушенные голоса; потом до него долетел обрывок песенки – пела Стефани. Ярость душила Каупервуда, и он был даже рад, что Стефани взяла на себя труд предупредить его о своем намерении провести этот вечер у Джорджии Тимберлейк. Он улыбнулся мрачно и злорадно, представив себе изумление и испуг Стефани. Достав из кармана отмычку, он бесшумно вставил ее в замочную скважину и надел на бородку ключа. Ключ повернулся мягко, почти беззвучно. Каупервуд нажал на ручку двери и почувствовал, как она подалась. Он неслышно ступил в комнату. Тихий, такой знакомый ему, воркующий смех заглушил его шаги.
При звуке его резкого сухого покашливания они вскочили. Герни сделал попытку найти убежище за гардиной, Стефани тщетно старалась натянуть на себя покрывало с кушетки. От неожиданности она онемела и смотрела на Каупервуда остановившимся взглядом. Герни сначала тоже растерялся, однако вскоре овладел собой и проговорил даже несколько вызывающе:
– Кто вы такой? Что вам здесь надо?
Каупервуд ответил очень спокойно, с улыбкой»
– Ничего особенного. Мисс Плейто, вероятно, объяснит вам причину моего появления. – Он небрежно кивнул в ее сторону.
Стефани, чувствуя на себе его холодный, иронический взгляд, сжалась в комочек и, казалось, совсем забыла о существовании Форбса Герни. Последний понял уже, что перед ним его предшественник – обманутый и разгневанный любовник, и это неожиданное открытие заставило его еще больше растеряться.
– Мистер Герни, – с некоторым оттенком снисхождения сказал Каупервуд, отведя, наконец, уничтожающий взгляд от Стефани. – К вам у меня, собственно, никаких дел нет, и через несколько минут я избавлю вас и мисс Плейто от моего присутствия. Однако у меня были некоторые основания явиться сюда. Эта молодая особа довольно долго меня обманывала. Она постоянно лгала мне, прикидывалась невинным созданием, чему я, впрочем, не верил. Не далее как сегодня она заявила мне, что отправляется на танцы к своей приятельнице, живущей на Западной стороне. Она была моей любовницей в течение нескольких месяцев и принимала от меня деньги, драгоценности, я не отказывал ей ни в чем. Эти нефритовые серьги, кстати, – тоже один из моих подарков. – Каупервуд весело и насмешливо поглядел на Стефани. – Я пришел сюда, чтобы доказать ей бесполезность дальнейшей лжи. Всякий раз, когда я пытался уличить ее в недостойном поведении, она заливалась слезами и лгала мне. Быть может, вы знаете ее лучше, чем я, быть может вы сильно привязаны к ней. Во всяком случае от вас мне ничего не нужно. А эту даму, – тут Каупервуд снова повернулся к Стефани и смерил ее презрительным взглядом, – я прошу только об одном – не утруждать себя больше бесполезной ложью.
В продолжение этого довольно своеобразного монолога Стефани, перепуганная, дрожащая и все же прелестная, забившись в угол огромной тахты, словно зачарованная, не сводила глаз с Каупервуда, и взгляд этот без слов говорил о том, как, несмотря на все ее легкомыслие, ей больно его терять. Его крепкая сильная фигура, спокойствие и невозмутимость, и даже самые слова его, язвительные и беспощадные, зажгли ее пылкое воображение, всегда готовое воспламениться, словно порох. Покрывало, в которое она завернулась, лишь отчасти скрывало ее наготу; смуглые руки, плечи и грудь и тонкие стройные ноги с округлыми коленями были обнажены. Темные волосы рассыпались в беспорядке, а детски наивное лицо, испуганное и страдальческое, казалось молило Каупервуда. Стефани и в самом деле была чрезвычайно испугана. Она в глубине души всегда побаивалась Каупервуда; этот сильный, суровый и обаятельный человек внушал ей благоговейный страх. Она не произносила ни слова и только смотрела на него, все еще пытаясь тронуть его сердце жалобным, как у обиженного ребенка, выражением лица. Но Каупервуд отвечал ей взглядом, исполненным холодного презрения, а на ее любовника смотрел с почти нескрываемой насмешкой. Он спокойно стоял перед ними и улыбался, и мысль о том, кого она теряет, какой это необыкновенный человек, пронзила Стефани. Рядом с ним Форбс Герни, меланхолический, томный поэт, показался ей вдруг жалким и бесцветным – пустой причудой романтического воображения, Стефани искала и не находила слов, она готова была молить Каупервуда о прощении, но чувствовала, что это бесполезно, и к тому же тут был Герни… К горлу у нее подкатил комок, глаза затуманились, и Каупервуд увидел, как в них сквозь слезы блеснул знакомый ему таинственный и влекущий огонек. Он хорошо знал этот взгляд. То была минута горького торжества для Каупервуда.
– Позвольте дать вам совет, Стефани, – сказал он. – Мы, разумеется, не увидимся больше. Вы – талантливая актриса. Ступайте на профессиональную сцену. Вас ждет слава, если ваши любовные похождения не помешают вам посвятить себя искусству. Я допускаю, конечно, что такая распущенность – потребность вашей натуры, но не забывайте, что в обществе существует вполне определенный взгляд на подобное поведение. Прощайте.
Каупервуд повернулся и быстро направился к двери.
– Фрэнк! О Фрэнк! – воскликнула Стефани. Это был горестный, полный отчаяния, безотчетный крик; она забыла о присутствии своего нового возлюбленного. Герни смотрел на нее, широко раскрыв глаза.
Но Каупервуд, казалось, даже не слышал ее призыва. Он вышел из студии, пересек темный коридор и спустился по лестнице. На мгновение, на одно краткое мгновение он снова почувствовал себя во власти этого распущенного, безнравственного и все же обаятельного создания, словно в лицо ему пахнул пряный аромат какого-то ядовитого цветка.
«А, будь ты проклята! – мысленно воскликнул Каупервуд. – Будь ты проклята, тварь, потаскуха, девка!» – Он изрыгал самые грязные, самые циничные ругательства, ибо в эту минуту, впервые в жизни, почувствовал, что значит любить, страстно желать и утратить – утратить навсегда. Он поклялся себе, что жизненные пути его и Стефани Плейто никогда больше не пересекутся.
29. СЕМЕЙНАЯ ССОРА
Случилось так, что после описанного выше разрыва душевный покой Эйлин был снова нарушен – и не кем иным, как миссис Плейто, впрочем, без всякого умысла с ее стороны. Заехав однажды навестить миссис Каупервуд, она разговорилась об успехах своей дочери, о затруднениях, которые переживают «гарриковцы», и о том, что Стефани скоро появится в новой роли – будет, кажется, играть китаянку.
– Эти нефритовые украшения, что вы ей подарили, – прелестны, – любезно улыбаясь, заявила миссис Плейто. – Я только на днях впервые увидела их. Стефани мне ничего раньше не говорила. Она в таком восторге от этого подарка, что я должна от всей души поблагодарить вас.
Эйлин широко раскрыла глаза.
– Я, право, что-то не припомню… – она тотчас подумала о Каупервуде, о его извечных слабостях, и в душу к ней закралось подозрение. Растерянность и смущение отразились на ее лице.
– Да что вы? – удивилась в свою очередь миссис Плейто, несколько обескураженная словами Эйлин. – Ну как же, серьги, брошь и браслет. Стефани сказала, что это вы подарили ей.
– Ах, ну да, да, конечно, – спохватившись, пробормотала Эйлин. – Припоминаю теперь. Собственно говоря, это был подарок Фрэнка. Очень рада, что эти безделушки понравились вашей дочери.
И она учтиво улыбнулась.
– Стефани находит их восхитительными, и они в самом деле очень ей к лицу, – добродушно сказала миссис Плейто, считая, что недоразумение разъяснилось.
Разговор этот произошел потому, что Стефани забыла однажды запереть свою шкатулку с украшениями, и миссис Плейто, разыскивая что-то в комнате дочери, увидела нефриты. Прекрасно понимая, какую они представляют ценность, она не замедлила допросить дочь. Стефани в первое мгновение растерялась, но тотчас овладела собой. Как-то раз она была у Каупервудов, и Эйлин уговорила ее принять этот подарок, объяснила она небрежно.
К несчастью для Эйлин, этим разговором дело не ограничилось. На обеде у Риза Грайера, молодого скульптора, делающего светскую карьеру и представленного ей Тейлором Лордом, Эйлин пришлось убедиться в том, что общество не склонно сочувствовать женщине, утратившей привязанность своего супруга. Входя в гостиную, она услышала, как одна дама, стоя у ширмы, где гости оставляли свои накидки и шали, шепнула другой:
– Смотрите, вон идет миссис Каупервуд. Жена того самого Каупервуда, которому принадлежит половина всех городских железных дорог у нас в Чикаго. Весь прошлый сезон он путался с этой Плейто – актрисочкой из «Театра гарриковцев».
Вторая дама утвердительно кивнула, с завистью разглядывая туалет Эйлин – роскошное платье из темно-зеленого бархата.
– А вы думаете, что она верна ему? – Эйлин вся превратилась в слух. – Вид у нее во всяком случае довольно вызывающий.
Эйлин удалось потом поближе рассмотреть этих дам, когда они стояли отвернувшись и не смотрели на нее, и на лице ее было ясно написано все, что она о них думает, – но что толку? Проклятые сплетницы уже ранили ее в самое сердце. Эйлин была возмущена, ошеломлена, растеряна. В какое унизительное положение ставит ее Фрэнк, давая своим легкомысленным поведением пищу для подобных пересудов!
Но прошло еще несколько дней, и Эйлин ждало новое испытание. Как-то раз, выйдя из своей спальни на галерейку, окружавшую холл, Эйлин услышала внизу голоса; две служанки оживленно обсуждали чикагские нравы вообще и поведение своего хозяина в частности. Одна из них – рослая, костлявая девица лет двадцати восьми, работала у Каупервудов горничной, другая – коренастая, дородная особа сорока с лишним лет, состояла на должности младшей экономки. Обе делали вид, что заняты уборкой, но работали не столько руками, сколько языком. Костлявая горничная совсем недавно перешла к Каупервудам от Кокрейнов. Эймар Кокрейн, бывший директор Железнодорожной компании Западной стороны, был теперь директором новой компании – Западно-чикагской транспортной.
– Можете себе представить, голубушка, – услышала Эйлин голос костлявой горничной, – как я удивилась, когда узнала, кто меня нанимает! Когда мне хозяева сказали, я своим ушам не поверила. Да ведь наша-то мисс Флоренс бегала к нему на свидания почитай три раза на неделе! Просто в толк не возьму, как это ее маменька все проморгала.
– Да, – вздохнула вторая, – уж это бабник так бабник. – При этом она выразительно всплеснула руками, чего Эйлин, разумеется, уже не могла видеть. – Сюда тоже бегала одна девчонка. Она живет на нашей улице, Хейгенин по фамилии. Отец у нее издает газету. У них очень красивый дом в двух шагах отсюда. Последнее время, правда, она что-то к нам не захаживает. А то я сколько раз видела, как он целовался с ней в этой самой комнате. Быть того не может, чтобы миссис Каупервуд ничего не знала, никогда этому не поверю. Мне рассказывали, как она однажды налетела на одну дамочку, с которой путался ее муженек. Говорят, тут ужас что было, когда она в нее вцепилась, и обе визжали на весь дом, как зарезанные. Да уж мужчины – все подлецы, как до женщин дойдет.
Легкий шорох заставил сплетниц отскочить друг от друга, но Эйлин и так уже слышала достаточно. Что же, что ей теперь делать? Опять новые связи, новые женщины, о которых она и не подозревала! Мисс Флоренс – это, конечно, Флоренс Кокрейн – ведь долговязая горничная работала раньше у Кокрейнов. И еще Сесили Хейгенин. Подумать только – дочь издателя Хейгенина, одного из их лучших друзей! И Фрэнк целовал ее здесь! Неужели этому конца не будет – его вероломству, его изменам!
Эйлин вернулась в спальню вне себя от ярости и горя; мысли ее путались. Что же ей делать? Оставить Фрэнка? Сказать ему в лицо все, что она о нем думает? Следить за ним? Нанять еще сыщиков? К чему, к чему? Она уже нанимала сыщиков однажды. Разве это помешало Фрэнку завести роман со Стефани Плейто? Ничуть. Разве это может помешать новым увлечениям? Конечно, нет. Как видно, ее совместная жизнь с Фрэнком приходит к концу, неотвратимому, горестному концу. Долго ведь так продолжаться не может. Вероятно, она была неправа, когда разлучила его с миссис Каупервуд. Но ведь Лилиан совсем не пара Каупервуду. За что же такая страшная расплата? Будь Эйлин суеверна или религиозна, читай она библию, чего она, разумеется, не делала, ей сейчас вспомнилось бы, вероятно, одно из самых фаталистических утверждений Нового завета: «Какою мерой мерите, такою же отмерится и вам».
Неукротимое влечение Каупервуда к прекрасному полу и в самом деле не могло не привести к плачевным последствиям. После разрыва со Стефани Плейто Каупервуд, как говорится, пустился во все тяжкие, и в числе его многочисленных жертв оказались сначала Сесили Хейгенин – очаровательная дочка издателя Хейгенина, весьма достойного человека, искренне расположенного к Каупервуду и служившего ему опорой в газетном мире, а затем и дочь Эймара Кокрейна. Впрочем, нельзя не заметить, что во всех своих любовных приключениях Каупервуд являлся не только соблазнителем, но и жертвой соблазна.
Его сближение с Сесили Хейгенин произошло очень просто. Будучи приятелем ее отца и частым гостем в их доме, Каупервуд в один прекрасный день обнаружил, что молодая девушка весьма чувствительна к его чарам. Сесили в ту пору исполнилось двадцать лет. Пышная, белокожая, светловолосая и голубоглазая, она отличалась жизнерадостным нравом и, несмотря на свою кукольную внешность, довольно живым умом. Каупервуду нравилось шутить и забавляться с ней. Он привык играть с Сесили, когда та была еще ребенком, школьницей. Игры и шутливые поддразнивания продолжались и потом, когда Сесили уже училась в колледже и приезжала домой на каникулы. Теперь она жила дома, и Каупервуд видел ее значительно чаще – почти всякий раз, когда заходил к ее отцу, чтобы обсудить с ним, как лучше преподнести публике ту или иную из своих очередных махинаций.
Как-то вечером Хейгенин отлучился из дома по делам, связанным с концессиями Каупервуда, и тот оказался наедине с Сесили. Произошел обмен улыбками, многозначительными взглядами, и Сесили в ответ на какую-то шутку Каупервуда игриво замахнулась на него книгой. Каупервуд схватил девушку за руки и сжал их – ласково, но крепко.
– Пустите, вам все равно со мной не справиться, – храбро сказала Сесили.
– Посмотрим, – отвечал Каупервуд.
За этим последовала шутливая борьба, в результате которой Сесили после полупритворного сопротивления очутилась в объятиях Каупервуда и головка ее склонилась на его плечо.
– Вот вы как! – сказала она, глядя на него снизу вверх насмешливо и чуть-чуть испуганно. – А дальше что? Вам придется отпустить меня – и только.
– Нет, не так скоро, как вы думаете.
– Очень скоро. Сейчас вернется папа.
– Ну что ж, до тех пор во всяком случае я вас не отпущу. Какая вы красивая, Сесили, вы хорошеете с каждым днем.
Она притихла, перестав сопротивляться, и на ее испуганном лице появилось томное выражение. Каупервуд погладил ее по щеке, поцеловал. Возвращение мистера Хейгенина положило конец этой сцене, но после такого начала найти общий язык было уже нетрудно.
Первые шаги к сближению с Флоренс Кокрейн – дочерью Эймара Кокрейна, директора Железнодорожной компании Западной стороны, – мало чем отличались от описанного выше, а финал в обоих случаях был совершенно одинаков. Чтобы представить вам Флоренс Кокрейн, скажем, что она тоже была блондинка, как и Сесили, но совершенно иного типа – тоненькая, хрупкая, мечтательная. Она запоем читала романы, увлекалась Марло и Джонсоном, и Каупервуд, этот крупный делец, занятый какими-то таинственными финансовыми операциями и часто приходивший совещаться с ее отцом, пленил воображение девушки, словно какой-нибудь герой елизаветинской эпохи. Тоскливо-размеренный уклад жизни, мещанское благополучие ее домашнего очага претили Флоренс Кокрейн, и в душе ее зрел протест. Каупервуд разгадал, что творится с девушкой, провел с ней несколько вечеров в отвлеченно-возвышенных беседах, проникновенным взором смотрел ей в глаза и вскоре прочел в них желанный ответ. Ни Эймар Кокрейн, ни его чопорно-добродетельная супруга ни о чем не догадывались.
И все же Эйлин, раздумывая над последними любовными приключениями Каупервуда, почувствовала вдруг, несмотря на всю свою досаду и горе, некоторое успокоение. Что ни говори, а такие мимолетные измены менее опасны для нее, чем одна устойчивая привязанность. Если Каупервуд и впредь будет так гоняться за женщинами, он едва ли полюбит кого-нибудь всерьез, а в таком случае зачем ему покидать ее?
Но какой это все-таки удар для ее женского самолюбия, невольно думалось ей. Какой позорный конец идеального супружеского союза, который, казалось, будет длиться всю жизнь! Подумать только, что она, Эйлин Батлер, не знавшая себе равных, затмевавшая всех своей красотой и очарованием, должна так рано – ведь ей едва минуло сорок лет – уступить дорогу более молодым соперницам! И кому? Каким-то жалким, невзрачным подросткам! Стефани Плейто! Сесили Хейгенин! Или этой, как ее… Флоренс Кокрейн – сухой, как щепка, и бледной, как мертвец! И вот она, блистательная красавица, в расцвете сил и всех своих женских чар, отодвинута на задний план. Гладкая ослепительная, кожа, ясные, лучистые глаза, на лбу, на шее, на подбородке – ни единой морщинки; золотое руно волос, упругая походка, прекрасный рост и безукоризненное сложение, роскошные туалеты, драгоценности, уменье одеваться… А Фрэнк предпочитает ей каких-то желторотых выскочек! Это казалось Эйлин невероятным и глубоко несправедливым. Как жестока жизнь! Как непостоянен Фрэнк в своих вкусах и привязанностях! Боже мой, боже мой, неужели это правда? Почему Фрэнк разлюбил ее? Эйлин снова и снова рассматривала себя в зеркале и все больше растравляла свои раны. Почему он отверг ее красоту? Почему другие женщины кажутся ему лучше? Сколько раз уверял он ее в своей любви – зачем он лгал? Почему другие мужчины сохраняют верность своим женам? Ее отец всегда был верен ее матери. При мысли об отце у Эйлин екнуло сердце – ведь она опозорила себя в его глазах… Но все равно, что было – то прошло, а теперь только она имела права на Фрэнка. Эйлин разглядывала свои глаза, волосы, руки, плечи… Почему Фрэнк разлюбил ее? Почему, почему?
Однажды вечером, вскоре после этого приступа горя, Эйлин читала у себя в будуаре какой-то роман, поджидая возвращения мужа, как вдруг зазвонил телефон. Каупервуд хотел предупредить ее, что задержится в конторе, а потом, быть может, ему придется поехать в Питсбург. Дня на полтора, не больше. Послезавтра он уж во всяком случае будет дома. Эйлин огорчилась, и Каупервуд понял это по ее голосу. Они собирались в этот день обедать у Хоксема, а потом поехать в театр. Он предложил ей отправиться к Хоксема без него, но Эйлин что-то резко возразила в ответ и повесила трубку не попрощавшись. В десять часов Каупервуд позвонил снова и сказал, что он передумал. Может быть, Эйлин хочет поужинать с ним в ресторане? Тогда пусть она переодевается, он заедет за ней. А нет – так они проведут вечер дома.
Эйлин тотчас решила, что Фрэнк собирался развлекаться на стороне, но что-то ему помешало. Он испортил ей вечер, а теперь, за неимением лучшего, решил явиться домой, чтобы осчастливить ее своим присутствием. Это взбесило Эйлин. Двусмысленность ее положения, постоянная неуверенность в Каупервуде начинали сказываться на ее нервах. В воздухе запахло грозой, и вскоре гроза разразилась. Каупервуд приехал чуть позже, чем обещал, стремительно вошел в комнату, заключил Эйлин в объятия и, поцеловав, нежно и шутливо погладил по руке, потом потрепал по плечу. Эйлин нахмурилась, и он спросил:
– Что случилось? Малютка не в духе?
– Ничего особенного, – отвечала Эйлин с раздражением. – То же, что всегда, не стоит об этом говорить. Ты обедал?
– Да, нам приносили обед в контору. – Каупервуд не лгал. Он действительно обедал у себя в конторе вместе с Мак-Кенти и Эддисоном. Не чувствуя на сей раз за собой вины, Каупервуд захотел оправдаться перед Эйлин. – Я не мог вырваться сегодня, – сказал он, – мне самому жаль, что дела отнимают у меня так много времени, но скоро будет легче. Все идет теперь на лад.
Эйлин высвободилась из его объятий и подошла к туалетному столику. Пригладила растрепавшиеся волосы, внимательно оглядела себя в зеркало, села и углубилась в роман. «Опять надулась!» – подумал Каупервуд.
– Ну, Эйлин, в чем дело? – спросил он. – Ты не рада, что я пришел домой? Я знаю, последнее время тебе было нелегко, но пора уже забыть прошлое. Право же, лучше подумать о будущем.
– О будущем? Не смей говорить мне о будущем, – злобно воскликнула Эйлин. – Не очень-то много радости оно мне сулит.
Каупервуд видел, что все в ней кипит, но, полагаясь на ее привязанность к нему и на свое умение убеждать и уговаривать, надеялся, что сумеет ее успокоить.
– Напрасно ты так горюешь, детка, – сказал он. – Ты же знаешь, что я никогда не переставал тебя любить. И никогда не перестану. Правда, сейчас у меня куча всяких хлопот, которые часто разлучают нас с тобой против моей воли, но чувство мое к тебе неизменно. Мне кажется, ты сама это понимаешь.
– Чувство? Твое чувство? – с горечью вскричала Эйлин. – О каком чувстве ты толкуешь? Ты даришь другим женщинам нефритовые драгоценности и волочишься за каждой юбкой, какая только попадется тебе на глаза! И у тебя еще хватает духу говорить мне о своих чувствах! Ведь ты и домой-то явился только потому, что тебе не удалось повеселиться где-то на стороне. Да, да, я знаю цену твоим чувствам. Знаю!
Эйлин в сердцах откинулась на спинку кресла и снова схватила свой роман. Каупервуд пристально посмотрел на нее – этот намек на Стефани был для него полной неожиданностью. Да, иметь дело с женщинами становится по временам невыносимо утомительным.
– Что ты, собственно, хочешь сказать? – спросил он осторожно, самым, казалось бы, искренним и невинным тоном. – Никаких нефритов я никому не дарил и ни за какими юбками, как ты изволишь выражаться, не волочился. Я просто не понимаю, о чем ты говоришь, Эйлин.
– О Фрэнк! – воскликнула Эйлин устало, в голосе ее прозвучал упрек. – Как ты можешь так лгать! Ну, к чему ты лжешь мне в глаза? Мне тошно от твоей лжи, от твоего притворства. Даже слуги – и те уже судачат о твоих похождениях, а ты хочешь, чтобы я тебе верила. Разве я виновата, что миссис Плейто является сюда и спрашивает меня – с какой стати ты даришь драгоценности ее дочери! Я понимаю, почему ты лжешь, тебе нужно заткнуть мне рот, заставить меня молчать. Ты боишься, что я побегу к мистеру Хейгенину, или к мистеру Кокрейну, или к мистеру Плейто, или ко всем трем зараз. Можешь не беспокоиться, не побегу, не бойся. Ты опостылел мне своей ложью. И подумать только, на кого он польстился! Стефани Плейто – эта сухая жердь! Сесили Хейгенин – квашня с тестом! А Флоренс Кокрейн – ни дать ни взять, сонная рыба! (Эйлин иной раз давала довольно меткие характеристики.) Если бы не мои близкие, которым я и так уж принесла немало огорчений, да не разные толки и сплетни, которые могут повредить твоим делам, я бы не стала ждать ни минуты, я бы ушла от тебя! И как только я могла поверить, что ты меня любишь, что ты вообще способен кого-нибудь любить по-настоящему! Какая чушь! Но мне теперь все равно! Можешь продолжать в том же духе. Только запомни: не воображай, что я и дальше буду терпеть все, как терпела до сих пор. Нет, не буду. Больше тебе не удастся меня обмануть. Я не хочу так жить. Я еще не старуха. Найдутся мужчины, которые рады будут подарить меня своим вниманием, раз я тебе не нужна. Я уже сказала тебе однажды и повторяю снова: если ты будешь мне изменять, я в долгу не останусь, так и знай! Вот посмотришь, я тоже заведу себе любовников. Да, да! Клянусь!
– Эйлин! – сказал Каупервуд мягко, с мольбой, сознавая бесполезность новой лжи. – Неужели ты не простишь мне еще один, последний раз? Будь снисходительна, пожалей меня. Я сам не понимаю себя порой. Должно быть, я как-то иначе устроен – не так, как другие. Мы с тобой уже прожили вместе такую долгую жизнь. Подожди еще немного. Дай мне время. Увидишь, я стану другим. Я докажу тебе.
– О да, конечно, я должна ждать! Он, видите ли, станет другим! А разве я мало ждала? Разве мало провела бессонных ночей, слоняясь здесь из угла в угол, пока ты пропадал невесть где? Пожалеть тебя? Конечно, конечно! А кто пожалеет меня, когда сердце мое рвется на части! О боже мой, боже мой! – в безмерном отчаянии воскликнула вдруг Эйлин. – Я так несчастна! Так несчастна! В сердце такая боль! Такая невыносимая боль!
Она судорожно прижала руки к груди и бросилась вон из комнаты. Ее легкий, стремительный, упругий шаг, всегда пленявший Каупервуда, даже и сейчас произвел на него впечатление. Но, увы, это было лишь мгновенное сожаление о том, что жизнь так жестока и все в ней так преходяще! Каупервуд поспешил за Эйлин и (совсем как после стычки с Ритой Сольберг) попытался заключить ее в объятия, но она раздраженно оттолкнула его.
– Нет, нет! – крикнула она. – Оставь меня! Мне все это надоело.
– Право же, ты несправедлива ко мне, Эйлин! – Он произнес это с чувством, подкупающе искренним тоном. – Из-за одного прискорбного случая в прошлом ты теперь видишь все в искаженном свете. Клянусь, я не изменял тебе ни со Стефани Плейто, ни с другими женщинами. Я ухаживал за ними слегка, но ведь это все сущие пустяки. Будь благоразумна. Я вовсе не такой негодяй, как тебе кажется. Я занят сейчас очень большими делами, от которых твое благополучие, твое будущее зависит в такой же мере, как и мое. Будь же благоразумна, Эйлин, будь снисходительна ко мне.
Все повторялось снова и снова: те же упреки и обвинения с одной стороны, те же оправдания и уговоры – с другой. Наконец, усталая, измученная телом и душой, чувствуя, что ей не под силу разрубить этот узел, Эйлин сдалась и, уступая увещеваниям Каупервуда, позволила ему убедить себя в том, что и на ее долю остались еще какие-то крохи чувства. Она совсем пала духом, тоска грызла ее сердце. Да и сам Каупервуд, хотя и пытался утешить Эйлин, отчетливо понимал, что ему никогда не удастся возродить в ней прежнюю веру в его любовь, ибо для этого он должен был бы окружить ее таким вниманием, на какое он, с его стремлением к разнообразию и новизне, уже не был способен. До поры до времени мир был восстановлен, но, зная, чего ждет от него Эйлин, зная ее пылкую и эгоистически требовательную натуру, Каупервуд понимал, что это ненадолго. Он будет идти своим путем, и она рано или поздно оставит его. Ничем тут, как видно, не поможешь. Переделать себя он не мог. Он был человеком слишком страстным, многогранным и сложным и слишком большим эгоистом, чтобы сохранять приверженность к кому-то одному.