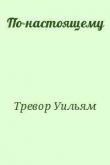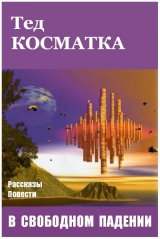
Текст книги "В свободном падении (сборник)"
Автор книги: Тед Косматка
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
В понедельник начались эксперименты. Мы последовательно испытали представителей нескольких линий млекопитающих: сумчатых, афротериев [16]16
Афротерии (Afrotheria – букв. африканские звери) – ветвь плацентарных млекопитающих, ранние представители которой сформировались в Африке в период потери ею связи с остальными частями Гондваны. В группу входят хоботные, сирены, прыгунчиковые, тенрекообразные, трубкозубые и даманы.
[Закрыть] и двух последних уцелевших животных из отряда однопроходных – утконоса и ехидну. На следующий день испытывали виды из отряда неполнозубых [17]17
Неполнозубые (Xenarthra) – отряд млекопитающих, обитающих в Южной, Северной и Центральной Америке. Включает 4 семейства и 18 видов. Самым крупным представителем неполнозубых является большой муравьед (Myrmecophaga tridactyla).
[Закрыть] и лавразиотериев.[18]18
Лавразиотерии (Laurasiatheria) – надотряд плацентарных млекопитающих, выделенный в результате молекулярно-генетических исследований и содержащий наибольшее количество видов. Название таксона основывается на общем происхождении относящихся к нему млекопитающих с бывшего северного суперконтинента Лавразия. Сестринской группой лавразиотерий, по всей вероятности, являются Euarchontogliries, к которым относится и человек.
[Закрыть] На четвертый день занялись Euarchontogliries.[19]19
Euarchontogliries – основанный на молекулярно-генетических исследованиях надотряд плацентарных млекопитающих, для которого пока не существует соответствующего русского названия. Латинское название является составным из двух подгрупп, на которые делится этот таксон.
[Закрыть] Никто из них не вызывал коллапса волновой функции. На пятый день мы занялись приматами.
Мы начали с тех приматов, которые наименее родственны человеку.
Проверили лемуров и обезьян Нового Света. Потом обезьян Старого Света. Наконец перешли к человекообразным обезьянам. И на шестой день испытали шимпанзе.
– На самом деле их два вида, – рассказал нам Очковая Машина.
– Это Pan paniscus, обычно называемый бонобо, и Pan troglodytes, обыкновенные шимпанзе. Внешне они настолько похожи, что к тому времени, когда в 1930-х годах ученые впервые поняли, что это разные виды, они уже безнадежно перемешались в зоопарках. – Работники зоопарка ввели в комнату двух молодых шимпанзе, держа их за руки.
– Но во время Второй мировой войны ученые отыскали способ разделить их снова, – продолжил Очковая Машина. – Это произошло в Германии, в зоопарке возле Хелабрюна. Бомбежка уничтожила большую часть города, но не затронула зоопарк. И когда служители в него вернулись, то обнаружили, что выжили только обыкновенные шимпанзе. Все бонобо умерли от страха.
Мы испытали оба вида. Установка гудела. Мы проверили результаты дважды, затем трижды, и картина интерференции не шелохнулась. Даже шимпанзе не смогли вызвать коллапс волновой функции.
– Мы одиноки, – сказал я. – Совершенно одиноки.
* * *
Позднее в тот вечер Очковая Машина расхаживал по лаборатории.
– Это как отслеживать любую характеристику, – сказал он. – Ищешь гомологию в сестринских таксонах. Организуешь кладограммы,[20]20
Кладограмма (англ. cladogram) – одно из основных понятий в современной биологической систематике: древовидный граф, отражающий отношения сестринского родства между таксонами (группами живых организмов, объединенных на основании принятых методов классификации).
[Закрыть] каталогизируешь синапоморфии,[21]21
Синапоморфия – в биологической систематике: сходство нескольких сравниваемых групп по производному состоянию признака.
[Закрыть] идентифицируешь внешнюю группу.
– И что в нашем случае есть «внешняя группа»?
– А ты как думаешь? – Очковая Машина перестал расхаживать. – Способность вызывать коллапс волновой функции есть очевидная производная характеристика, появившаяся у нашего вида в какой-то момент за последние несколько миллионов лет.
– А до того?
– Что?
– До того Земля просто находилась в состоянии неколлапсирующей реальности? Дожидалась, пока появимся мы?
* * *
Статью я писал несколько дней. Сатиша и Очковую Машину я указал как соавторов.
Виды и коллапс квантовой волновой функции.
Эрик Аргус, Сатиш Гупта, Ми Чанг, Лаборатории «Хансен», Бостон, Массачусетс.
Реферат.
Многочисленные исследования выявили, что для квантовых систем состоянием по умолчанию является суперпозиция коллапсированной и неколлапсированной вероятностных волновых функций. Давно известно, что для коллапса волновой функции требуется факт субъективного наблюдения разумом или сознанием. Целью настоящего исследования являлись идентификация таксонов высокого порядка, способных вызывать коллапс волновой функции посредством наблюдения, и разработка филогенетического дерева для прояснения связей между этими главными типами животных. Виды, не способные к коллапсу волновой функции, могут считаться частью более крупной неопределенной системы. Исследование проводилось в Бостонском зоопарке на многочисленных видах млекопитающих. Ниже мы сообщаем, что люди являются единственным из протестированных видов, способным вызывать коллапс волновой функции на фоне суперпозиции состояний, и эта способность действительно кажется уникальной развившейся характеристикой людей. Вероятнее всего, эта способность возникла в какой-то момент последних шести миллионов лет, уже после появления общего предка людей и шимпанзе.
Джеймс прочитал реферат. Пришел ко мне в кабинет.
– Но что эти результаты означают?
– Что думаешь, то и означают.
* * *
После этого события начали развиваться быстро. Статью опубликовали в «Журнале квантовой механики», и телефон раскалился. Посыпались просьбы об интервью, рецензии, а в десятке лабораторий начались проверочные воспроизведения нашего эксперимента. Все бы ничего, но интерпретации результатов выдвигались самые безумные. От интерпретаций я держался подальше. Я имел дело с фактами. Все запросы об интервью я отклонил.
Сатиш работал над доведением до совершенства самой установки. Он ее миниатюризировал и переводил на микросхемы. Превращал в продукт. Он стал известен как «Хансеновский прибор» и после завершения работы уменьшился до размера ломтя хлеба – с индикаторами и простой и эффективной демонстрацией результата. Зеленый индикатор означал «да», а красный – «нет». До сих пор гадаю: знал ли он тогда?… И подозревал ли, для чего его приборчик станут использовать.
– Он не для того, что известно, – сказал Сатиш. – А для того, что познаваемо.
Свою прежнюю работу он забросил. Над его компьютером я увидел цитату, выдранную из старой книги и приклеенную к стене липкой лентой.
Не могут ли животные быть всего лишь высшей расой марионеток, которые едят без удовольствия, плачут без боли, не желают ничего, не знают ничего и лишь имитируют разумность?
Томас Генри Хаксли, 1859 год.
Весной некий доктор медицины по фамилии Роббинс выказал свой интерес к проекту, послав нам серию писем. Письма превратились в телефонные звонки. Голоса на другом конце линии принадлежали юристам – из тех, что обслуживают богачей. Роббинс работал на консорциум, вложивший средства в то, чтобы установить точно, раз и навсегда, – когда именно у развивающегося человеческого плода появляется сознание.
Лаборатории «Хансен» отшивали его, пока сумма предложения не стала семизначной.
Джеймс пришел ко мне:
– Он хочет, чтобы ты участвовал.
– Его дело.
– Роббинс хочет именно тебя.
– А мне плевать. Я не желаю этим заниматься. Вообще. Если желаешь, можешь меня за это уволить.
Джеймс устало улыбнулся:
– Уволить тебя? Если я тебя уволю, мои боссы уволят меня. – Он вздохнул. – Этот Роббинс – козел. Ты об этом знаешь?
– Знаю. Видел его по телевизору.
– Но это не означает, что он не прав.
– Да, это я тоже знаю.
* * *
Для испытаний «Хансен» выделил своих техников. За неделю до начала испытаний мне позвонили. Я ждал этого звонка. Сам Роббинс.
– Вы уверены, что не сможете приехать?
– Нет. Не думаю, что такое возможно.
– Если причина финансовая, то могу вас заверить…
– Другая.
– Понимаю, – сказал он, помолчав. – Но все равно хочу поблагодарить лично вас. Вы совершили великое дело. Ваша работа спасет много жизней.
Я выдержал паузу.
– Как вы нашли матерей?
– Все они активные добровольцы. Особые женщины. Мы большая национальная конгрегация и смогли найти несколько добровольцев на каждый триместр беременности – хотя я полагаю, что нам не понадобится более одной, чтобы доказать возраст, при котором у ребенка появляется душа. Самый малый срок у наших матерей – всего несколько недель.
Следующие слова я тщательно подбирал:
– И вас не волнует, что они идут на риск?
– Нам будет помогать целый коллектив врачей, а эксперты-медики уже определили, что процедура не более рискованна, чем амниоцентез [22]22
Амниоцентез – исследование околоплодных вод.
[Закрыть]. Светодиод, введенный в околоплодную жидкость, будет не толще иглы.
– Никогда не мог в вашей идее понять одного… ведь глаза у плода закрыты.
– Я предпочитаю слово «ребенок», – заявил он, и его голос неожиданно стал натянутым, как барабан. – Веки ребенка очень тонкие, а светодиод очень яркий. Мы не сомневаемся, что дети смогут его увидеть. Затем нам останется лишь отметить коллапс волновой функции, и мы наконец-то получим доказательства, которые нам нужны, чтобы изменить закон и положить конец чуме абортов, захлестнувшей страну.
Я опустил трубку. Посмотрел на нее. Никогда не доверял людям, которые думают, что знают ответы на все вопросы. Фанатизм – по любую сторону проблемы – всегда казался мне опасным. Я снова поднял трубку:
– Думаете, все настолько просто?
– Да. Когда человеческая жизнь становится человеческой жизнью? Ведь именно ради ответа на этот вопрос и шел этот конкретный спор, разве не так? Теперь мы наконец-то сможем доказать, что аборт есть убийство, и никто это не оспорит!.. Кажется, я вам не очень-то нравлюсь.
– Против вас я ничего не имею. Но есть старая пословица: «Никогда не доверяй человеку, у которого только одна книга».
– Человеку нужна только одна книга, если она правильная.
– А вы не задумывались о том, что станете делать, если окажетесь не правы?
– Что вы имеете в виду?
– А вдруг коллапса волновой функции не будет до девятого месяца? Или до магического момента рождения? Вы измените свое мнение?
– Такого не случится.
– Может быть. Но полагаю, теперь мы это выясним.
* * *
Вечером накануне эксперимента я позвонил Очковой Машине. Я оказался перед выбором – или звонок, или выпивка. А пить я не хотел. Потому что знал: если снова выпью хотя бы глоток, то уже не остановлюсь. Никогда.
Он снял трубку после пятого сигнала. Я услышал далекий голос.
– Что произойдет завтра? – спросил я.
Он промолчал. Пауза настолько затянулась, что я уже стал гадать, слышит ли он меня.
– Точно не знаю, – вымолвил он наконец. Голос его был хрипловатым и усталым, как у человека, который не высыпается. – Энтогенез отражает филогенез. На ранних стадиях развития у зародыша есть и жабры, и хвост. Корни всего животного царства. Если взбираться по филогенетическому дереву по мере развития плода, то у него начинают появляться все более новые характеристики. То, что проверяет Роббинс, обнаружено только у человека, поэтому я нутром чую, что он ошибается и это свойство проявляется поздно. На очень поздних стадиях развития.
– Думаешь, это работает именно так?
– Понятия не имею, как это работает.
* * *
День эксперимента наступил и миновал.
Первый намек на то, что нечто пошло не так, проявился в форме молчания. Молчания от группы Роббинса. Молчания в средствах массовой информации. Ни пресс-конференций, ни телевизионных интервью – просто молчание.
Дни сменились неделями.
Наконец группа опубликовала краткое сообщение, в котором назвала полученные результаты неубедительными. Через два дня Роббинс выступил с заявлением, обтекаемо сообщив, что в механизме проверки имелся некий изъян.
Истина, разумеется, оказалась более странной. И, разумеется, обнаружилась тоже позднее.
А заключалась она в том, что некоторые из еще неродившихся младенцев прошли испытание. На что Роббинс и надеялся. Некоторые из них смогли вызвать коллапс волновой функции, а другие не смогли. И возраст плода не имел к этому никакого отношения.
Два месяца спустя мне позвонили среди ночи.
– Мы нашли одного в Нью-Йорке, – услышал я голос Сатиша.
– Что? – Я потер глаза, пытаясь осознать его слова.
– Мальчика. Девять лет. Он не вызывает коллапс волновой функции.
– А что у него не в порядке?
– Ничего. Он нормальный. Нормальное зрение, нормальное умственное развитие. Я с ним разговаривал. Мы испытали его пять раз, но картина интерференции не пропадала.
– И что было потом, когда ты ему сказал?
– А мы ему ничего не сказали. Он просто стоял и смотрел на нас.
– Смотрел, и все?
– Смотрел так, как будто уже знал. Как будто все время знал, что ничего не получится.
* * *
Лето сменилось осенью. Испытание продолжалось.
Сатиш ездил по стране, отыскивая то ускользающее, безупречное поперечное сечение распределения данных и набирая достаточное количество точек для подбора кривой методом хи-квадрат. Он собирал экспериментальные точки, а результаты для сохранности посылал факсом в лабораторию.
В конце концов оказалось, что есть немало людей, не способных вызывать коллапс волновой функции, – определенный постоянный процент населения. Эти люди выглядели, как мы, вели себя, как мы, но не обладали этим фундаментальным свойством человечества. Хотя Сатиш был осторожен и не упоминал слово «душа», мы слышали его в паузах между словами, которые он произносил во время ночных телефонных разговоров. Мы слышали то, чего он не говорил.
Я живо представлял его себе: вот он сидит в темном номере какого-нибудь отеля и пытается побороть нарастающую бессонницу и нарастающее одиночество.
Очковая Машина искал утешения в построении сложных филогенезов, погрузившись в свои кладограммы. Но утешения в них он не нашел.
– Тут нет кривой частотного распределения, – сказал он мне. – Ни географического эпицентра, ни нарушения равновесия между этнографическими популяциями, ничего такого, за что я мог бы уцепиться.
Он корпел над данными Сатиша, отыскивая структуру, которая придала бы всему этому смысл.
– Это почти случайная особенность, – заявил он. – Она ведет себя не как врожденная.
– Тогда она, может быть, и неврожденная.
Он покачал головой:
– И кто они такие? Нечто вроде пустого набора данных? Не играющие персонажи в неопределенной системе? Часть игры?
У Сатиша на этот счет имелись свои идеи.
– Почему среди них нет ученых? – спросил я его как-то ночью. – Если распределение случайное, то почему в нем нет никого из нас?
– Если они часть неопределенной системы, то зачем им становиться учеными?
– Не понял.
– Это как виртуальная логическая конструкция. Пишешь программный код, серию алгоритмов отклика. Потом «заводишь пружину» и запускаешь в работу.
– Идиотизм какой-то…
– Не я придумывал правила.
– Но они хотя бы знают, на что именно ты их проверяешь, когда они смотрят на лампочку? Знают, что они – другие?
– Один, – сказал он и секунду помолчал. – Один из них знал.
* * *
А потом, несколько дней спустя, последний звонок. Из Денвера. Больше я его не слышал.
– Думаю, нам не полагалось этого делать, – сказал он странно хрипловатым голосом.
Я потер глаза и сел на кровати.
– Думаю, нам не полагалось создавать установку и проводить такую проверку, – произнес он. – Тот дефект реальности, о котором ты упоминал… вряд ли ожидалось, что мы используем его подобным образом. Чтобы провести испытание.
– О чем ты?
– Я снова видел мальчика. Того мальчика из Нью-Йорка.
И он положил трубку.
* * *
Десять дней спустя Сатиш исчез вместе со своей волшебной коробочкой. Он сошел с самолета в Бостоне, но дома так и не появился. Я был в лаборатории, когда позвонила его жена.
– Нет, – ответил я. – Не звонил несколько дней. Да, я позвоню, как только что-нибудь узнаю.
Она плакала в трубку.
– Уверен, что у него все в порядке, – солгал я.
Закончив разговор, я схватил куртку и направился к двери. Купил бутылку водки и поехал в отель.
Уставился в зеркало.
Глаза серые, как штормовые тучи, как оружейный металл.
Я отвинтил пробку и ощутил запах горелого. Сквозь тонкие стены пробивалась музыка, спокойная мелодия, женский голос. Я представил свою жизнь другой. Представил, что могу остановиться. Не делать этого первого глотка.
У меня затряслись руки.
После первого глотка на глаза навернулись слезы. Потом я запрокинул бутылку и выпил сразу много. Попытался вызвать видение. Попробовал увидеть Сатиша довольным и счастливым, в каком-нибудь баре во время трехдневного загула, но образ не приходил. То был я, а не Сатиш. Сатиш не пьет. Тогда я попробовал вообразить, как он возвращается домой. Этого я тоже представить не смог. «Знают ли они, что – другие», – спросил я его. «Один, – ответил он. – Один из них знает».
Когда бутылка наполовину опустела, я подошел к столу и взял конверт с пометкой «Результаты экрана». Потом взглянул на пистолет. Представил, что может сделать с черепом пуля такого калибра – разнести его вдребезги. Раскрыть то место, где находится мое «я». Обнажить его, чтобы оно испарилось на воздухе, словно жидкий азот, – шипение, пар… и все. Пистолет можно использовать по-разному, в том числе и как машину для возвращения в самого себя. В сон внутри сна.
Чем сложнее система, тем большим количеством способов она может сломаться. Так сказал Очковая Машина.
И она сломалась. Мы – прожекторы. Маленькие устройства для коллапса волновой функции. Люди никогда не смогут увидеть реальность такой, какая она есть: она возникает в результате наших наблюдений. Но что если ты научишься управлять этим прожектором, расширять его луч, подобно зрачку, заглядывать в глубину существующего порядка? Что ты увидишь? Что если сумеешь проскользнуть между оболочками субъективного и объективного? И тогда? Возможно, такие люди были всегда. Ошибки. Люди, которые ходят среди нас, но они – не мы. И лишь сейчас появился способ их выявить.
И может быть, они не хотят, чтобы их обнаружили.
Я вытащил из конверта листок бумаги. Развернул и расправил на столе. Посмотрел на результат – и, сделав это, наконец-то вызвал коллапс вероятностной волны эксперимента, проведенного несколько месяцев назад. Хотя, конечно, результаты находились там все это время.
Я смотрел на то, что было на бумаге, серии затененных полукругов – знакомую теперь картину света и тьмы.
СЛОВА НА БУКВУ «Н»
Ted Kosmatka. N-words. 2008.
Они появились из пробирок. Бледные, будто призраки. С голубовато-белыми, как лед, глазами. Сначала они пришли из Кореи.
Я пытаюсь мысленно представить лицо Дэвида, но не могу. Мне сказали, что это временное явление – разновидность шока, который иногда наступает, когда увидишь подобную смерть. И хотя изо всех сил пытаюсь восстановить в памяти лицо Дэвида, я вижу лишь его светлыеглаза.
Сестра сидит рядом на заднем сиденье лимузина. Она сжимает мою руку:
– Уже почти все.
Впереди, у ограды из кованых железных прутьев, толпа протестующих начинает волноваться, увидев приближение нашей процессии. Они стоят в снегу по обе стороны кладбищенских ворот, мужчины и женщины в шляпах и перчатках, на лицах выражение справедливого негодования, в руках плакаты, которые я отказываюсь читать.
Сестра опять сжимает мою руку. Я не видела ее почти четыре года. Но сегодня она помогла мне выбрать черное платье, чулки и туфли. Помогла одеть сына, которому еще не исполнилось трех лет, и он не терпит галстуки. Сейчас он спит на сиденье напротив нас, еще не понимая, что и кого он потерял.
– Ты выдержишь? – спрашивает сестра.
– Не знаю. Наверное, нет.
Лимузин замедляет ход, сворачивая на территорию кладбища, и толпа бросается к нему, выкрикивая ругательства. Люди плотно обступают машину.
– Вас сюда никто не звал! – кричит кто-то, и к стеклу прижимается лицо старика с безумными глазами. – Свершится воля Божья! – вопит он. – Ибо расплата за грех есть смерть.
Лимузин раскачивается под напором толпы, и водитель прибавляет ход, пока мы проезжаем мимо них, направляясь вверх по склону к другим машинам.
– Да что с ними такое? – шепчет сестра. – Как они могут вести себя подобным образом в такой день?
«Ты удивишься, – думаю я. – Может быть, это твои соседи. А может быть, мои». Но я смотрю в окно и ничего не говорю. Я начинаю привыкать к тому, что молчу.
* * *
Она приехала ко мне домой сегодня, чуть позже шести утра. Я открыла дверь и увидела ее, такую замерзшую. Мы так и стояли молча – никто из нас не знал, что сказать после столь долгой разлуки.
– Я узнала об этом из новостей, – сказала она наконец. – И прилетела первым же самолетом. Мне так жаль, Мэнди.
В тот момент я хотела ей ответить – слова распирали меня изнутри, я была как пузырь, готовый лопнуть, – и я открыла рот, чтобы завопить на нее, но то, что из него вырвалось, принадлежало уже другой женщине; я жалко всхлипнула, и сестра шагнула ко мне, обняла, и у меня после стольких лет снова появилась сестра.
Лимузин притормозил возле вершины холма, подтянулись и другие машины нашей процессии. По сторонам дороги теснились надгробия. Я увидела впереди зеленую палатку. От ветра ее полотняные бока раздувались и втягивались, словно дышал какой-то великан. Перед ней прямыми рядами выстроились две дюжины серых раскладных стульев.
Лимузин остановился.
– Разбудим мальчика? – спросила сестра.
– Не знаю.
– Хочешь, я его понесу?
– А ты сможешь?
Она взглянула на ребенка:
– Ему ведь три года?
– Еще не исполнилось.
– Он крупный для своего возраста. Или мне так показалось? Я мало общаюсь с детьми.
– Врачи говорят, что он большой.
Сестра подалась вперед и коснулась его молочно-белой щеки.
– А он красивый, – сказала она. Я постаралась не заметить удивления в ее голосе. Люди никогда не осознают, каким тоном говорят, а интонация выдает их предположения и ожидания. Но меня давно уже перестало задевать то, что люди подсознательно выдают. Сейчас меня оскорбляют лишь намерения. – Он действительно очень красивый, – повторила она.
– Он сын своего отца.
Из машин перед нами стали выходить люди. Священник уже шагал к могиле.
– Пора, – сказала сестра. Она открыла дверцу, и мы вышли в холод.
* * *
Сначала они пришли из Кореи. Но это, конечно же, неправильно. Историю надо рассказывать по порядку. Точнее будет заметить, что все началось в Британии. В конце концов, именно Хардинг опубликовал ту первую статью, именно Хардинг потряс мир тем заявлением. И именно портреты Хардинга религиозные фанатики сжигали на лужайках перед церквями.
И лишь позднее корейцы открыли миру, что достигли той же цели на два года раньше. И еще позже, намного позже, мир осознал масштаб того, что они сделали.
Когда Народная партия угробила Ен Бэ, корейские лаборатории опустели, и внезапно обнаружились тысячи светловолосых или рыжих малышей-сирот, бледных, как призраки, голодающих на корейских улицах, когда вокруг рушилось общество. Последовавшие войны и смены режима уничтожили большую часть научных данных, но сами дети – те из них, кто выжил, – остались бесспорным фактом. И в том, кто они такие, ошибиться было невозможно.
Никто так и не раскрыл истинную причину, почему Ен Бэ вообще запустил этот проект. Возможно, корейцы хотели вывести суперсолдат. А возможно, причина была самой древней: потому что они могли это сделать.
Зато точно известно, что в 2001 году дискредитированный биолог Хван Ву-Сук, специалист по стволовым клеткам, впервые в мире клонировал собаку, афганца. В 2006 году он сообщил, что трижды пытался клонировать мамонта, но безуспешно. Западные лаборатории лишь говорили об этом, а корейцы взяли и попробовали.
В 2011 году корейцы наконец-то добились успеха, и у слонихи, ставшей суррогатной матерью, родился мамонтенок. По стопам корейцев пошли другие лаборатории. На свет возродились другие виды. Бледная пляжная мышь [23]23
Реальный вид мышей, обитавший в песчаных дюнах Флориды и вымерший в 1959 году. (Здесь и далее прим. перев.)
[Закрыть]. Пиренейский каменный козел. И более древние животные. Лучшим ученым США пришлось покинуть страну, чтобы продолжать работу. Американские законы, запрещающие вести исследования со стволовыми клетками, не остановили продвижение науки – они лишь прекратили эти исследования в США. И вместо Америки патенты на соответствующие процедуры получили Великобритания, Китай и Индия. Был побежден рак, большинство форм слепоты, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Когда Конгресс наконец-то легализовал медицинские процедуры, но не те направления исследований, которые привели к их разработке, лицемерность такой позиции стала настолько очевидна, что даже самые лояльные американские цитогенетики покинули страну.
Хардинг оказался в этой последней волне, уехав из Штатов, чтобы основать лабораторию в Великобритании. В 2013 году он стал первым, кто вернул к жизни тасманийского сумчатого волка. Зимой 2015 года кто-то принес ему неполный череп из музейной экспозиции. Череп был долихоцефальным – длинным, низким, большим. Кость тяжелая, свод черепа огромный. Это был череп, найденный в 1857 году в карьере, в долине реки Неандер.
* * *
Когда мы с сестрой выбираемся из лимузина, снег под ногами скрипит. Дует ледяной ветер, мои ноги в тонких чулках сразу немеют. Самый подходящий день для его похорон – Дэвид всегда легко переносил холод.
Сестра кивает на открытую дверь лимузина:
– Ты точно хочешь взять с собой мальчика? Я могу остаться с ним в машине.
– Он должен все увидеть.
– Он не поймет.
– Не поймет, зато потом сумеет вспомнить, что был здесь. Возможно, это важнее всего.
– Он слишком мал, чтобы запомнить.
– Он вспомнит все. – Я наклоняюсь к затененной глубине салона и бужу мальчика. Его глаза раскрываются голубыми огоньками. – Пойдем, Шон, пора вставать.
Он трет глазенки крепкими кулачками и не отвечает. Мой сын – мальчик тихий и спокойный. На улице я натягиваю шапочку ему на уши. Мальчик идет между мной и сестрой, держа нас за руки.
На вершине холма нас встречают доктор Майклс и другие преподаватели из Стэнфорда. Они выражают соболезнования, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не зарыдать. Майклс выглядит как после бессонной ночи. Я представляю ему сестру, они пожимают друг другу руки.
– Вы никогда не говорили, что у вас есть сестра, – замечает он.
Я лишь киваю. Майклс смотрит на мальчика и дергает его за шапочку.
– Хочешь ко мне на руки? – спрашивает он.
– Да, – голос у Шона тихий и хрипловатый после сна. Нормальный голос для мальчика его возраста. Майклс поднимает ребенка, и голубые глаза Шона снова закрываются.
Мы молча стоим на морозе. Провожающие собираются вокруг могилы.
– Мне до сих пор не верится, – говорил Майклс. Он чуть покачивается, машинально укачивая мальчика. Так поступает лишь мужчина, познавший отцовство, хотя его дети уже выросли.
– У меня такое чувство, что я теперь совсем другой человек, – говорю я. – Только я еще не научилась быть другой.
Сестра крепко сжимает мою руку, и на этот раз я не выдерживаю. На морозе слезы обжигают щеки.
Священник прокашливается – он готов начать. Шум, который доносится со стороны протестующих, становится громче, то нарастая, то стихая – но на таком расстоянии я, к счастью, не могу разобрать слов.
* * *
Когда мир узнал о корейских детишках, он начал активно действовать. Гуманитарные группы хлынули в раздираемые войной районы, деньги перешли из рук в руки, и многие дети были усыновлены в других странах, создав новую всемирную диаспору. Все они были широкие в кости, с мускулистыми конечностями, обычно чуть ниже среднего роста, хотя из этого правила имелись и поразительные исключения.
Все они выглядели как члены одной семьи. В конце концов, детей было намного больше, чем ископаемых образцов, из которых извлекли их ДНК. Дубликаты были неизбежны.
Судя по скудным данным, оставшимся от корейских ученых, источников ДНК у них имелось чуть более шестидесяти. У некоторых даже были названия. «Старик из Ла-Шапелье-о-Сентс», «Шанидар-4» и «Виндиджа». Был красивый и симметричный образец «Ла-Феррасье». И даже «Амад I». Огромный «Амад I», ростом 180 сантиметров и объемом черепа 1740 кубических сантиметров – крупнейший из когда-либо найденных неандертальцев.
Техника и приемы, отточенные на собаках и мамонтах, легко сработали и применительно к роду Homo. Экстракция генетического материала, затем наработка нужного его количества методом ПЦР [24]24
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов ДНК в биологическом материале. Метод основан на многократном избирательном копировании определенного участка ДНК при помощи ферментов в искусственных условиях (in vitro). При этом происходит копирование только того участка, который удовлетворяет заданным условиям, и только в том случае, если он присутствует в исследуемом образце.
[Закрыть]. Потом искусственное оплодотворение платных суррогатных матерей. Процент успешных родов был высок, единственным осложнением стали частые кесаревы сечения. И один из фактов, который пришлось усвоить популярной культуре – у неандертальцев головы крупнее.
Проводились тестирования. Детей изучали, отслеживали, оценивали. У всех отсутствовало нормальное доминантное выражение в локусе MC1R – все были бледнокожие, рыжие или блондины. Все голубоглазые. Все с отрицательным резус-фактором.
В шесть лет я впервые увидела ту фотографию. Это была обложка журнала «Тайм» – теперь это знаменитая обложка. Я слышала про тех детей, но никогда их не видела – этих ребят, почти моих ровесников, из страны, которая называется Корея. Детишек, которых иногда называли призраками.
На той обложке бледнокожий и рыжий мальчик-неандерталец стоял вместе с приемными родителями, задумчиво рассматривая устаревшую витрину в антропологическом музее. Восковый неандерталец из музея держал дубину. У него был нос, как у обитателя тропиков, темные волосы, оливковая кожа и темно-карие глаза. До появления «детей Хардинга» специалисты музея полагали, что знают, как выглядели наши первобытные предки. И решили, что они наверняка смуглые.
И неважно, что неандертальцы в десять раз дольше находились в бедной светом Европе, чем типичные предки шведов.
Рыжий мальчик на обложке был явно смущен.
Когда мой отец вошел на кухню и увидел эту обложку, он с отвращением покачал головой.
– Мерзость какая, – процедил он.
Я всмотрелась в выпуклое лицо мальчика. Я никогда еще не видела таких лиц.
– Кто он?
– Тупиковая ветвь. Дети будут сплошным убытком до конца своей жизни. Если честно, то это несправедливо по отношению к ним.
Первое из многих предсказаний насчет этих детей, которое мне довелось услышать…
Шли годы, дети росли, словно сорняки – и, как это было во всех популяциях, первое поколение, начавшее употреблять западную пищу, выросло на несколько дюймов выше своих предков. Хотя они и блистали в спорте, приемным родителям сообщили, что дети, скорее всего, будут отставать в школе. Они ведь первобытные, в конце концов.
Предсказание оказалось таким же точным, как и музейные витрины.
* * *
Когда я поднимаю глаза, руки священника уже воздеты к холодному белому небу.
– Благословен будь, Отец наш Небесный, да восславится имя твое во веки веков.
Изо рта священника при чтении вырывается пар. Этот отрывок я слышала и на похоронах, и на свадебных церемониях, он, как и сегодняшний мороз, подходит к ситуации.
– Да восславят Тебя небеса и творения Твои во веки веков.
Провожающие покачиваются от великанского дыхания палатки.
Я родилась в семье католиков, но все взрослые годы не видела пользы от публичной религии. До сегодняшнего дня, когда эта польза открылась столь ясно: неожиданное утешение – стать частью чего-то большего, чем ты сам. Утешение, что ты хоронишь своих мертвых не один.
Религия предоставляет тебе человека в черном, который что-то говорит над могилой любимого. Это ее первая обязанность. Если она этого не делает, это не религия.
– Ты сотворил Адама и дал ему в жены Еву, дабы она любила его и была опорой ему, и от этих двоих произошли все люди.
И все произнесли:
– Аминь, аминь.
* * *
В день, когда я узнала, что беременна, Дэвид стоял у окна, обхватив мои плечи огромными бледными руками. Он коснулся моего живота. За окном над озером к нам приближалась гроза.
– Я надеюсь, ребенок будет похож на тебя, – проговорил он своим странным глуховатым голосом.
– А я – нет.
– Лучше, если ребенок будет похож на тебя. Это облегчит ему жизнь.
– Ему?
– Я думаю, будет мальчик.
– И это все, чего ты ему желаешь? Легкой жизни?
– Разве не об этом мечтают все родители?
– Нет, – ответила я и коснулась живота. Положила свою ладонь поверх его огромной кисти. – Я надеюсь, наш сын вырастет хорошим человеком.
* * *
Я познакомилась с Дэвидом в Стэнфорде, когда он вошел в аудиторию, опоздав на пять минут.
Руки у него были толщиной с ногу обычного человека. А ноги – туловище. Его тело напоминало ствол дуба, выросшего на солнце. Одну из мощных призрачно-бледных рук покрывала рукавом татуировка, исчезающая под рубашкой. В ухе висела серьга, голова бритая. Густая рыжая козлиная бородка уравновешивала огромную шишку крючковатого носа и придавала объем маленькому подбородку. Из-под густых бровей смотрели большие и внимательные голубые глаза.