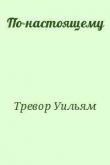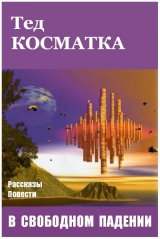
Текст книги "В свободном падении (сборник)"
Автор книги: Тед Косматка
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
– Тогда я уверен, что вы останетесь.
– Возможно. Во всяком случае, мои исследования дешевы. Для них нужны только я и мои уши. Могу я заманить вас на кофе?
– Мне надо ехать, но в другой раз – пожалуй.
– Понимаю. – Она протянула руку. – Значит, в другой раз. Спасибо, что подвезли.
Я уже повернулся, чтобы уйти, но ее голос меня остановил:
– Джеймс сказал, что вы были выдающимся.
Я обернулся:
– Он вам такое сказал?
– Не мне. Я разговаривала с его секретаршей, а Джеймс, очевидно, много о вас говорил – как вы вместе учились в колледже. Но я хочу спросить кое о чем, пока вы не ушли. О том, чего я никак не могу понять.
– Хорошо.
Она подняла руку и коснулась моей щеки:
– Почему выдающиеся личности всегда пьют?
Я не ответил, пристально глядя в эти глаза. Наше молчание истончалось, пока не оказалось настолько тонким, что стало прозрачным.
– Вам необходимо быть осторожным, – сказала она. – С алкоголем. Иногда по утрам я ощущаю, как от вас попахивает. А если могу учуять я, то смогут и другие.
– У меня все будет в порядке.
– Нет. Мне почему-то так не кажется.
* * *
Лаборатория.
Сатиш стоит перед схемой, которую я начертил на доске. Я наблюдаю за тем, как он ее изучает.
– Что это?
– Корпускулярно-волновой дуализм света.
– А эти линии?

– Это волновая часть дуализма, – объяснил я, указывая на схему. – Если пропустить ноток фотонов через две щели, то волны создадут картину интерференции на фосфоресцирующем экране за щелями. Волны с одинаковой частотой колебаний взаимно гасятся через определенные интервалы, создавая эту картину. Видишь?
– Да, кажется, понимаю.
– Но если у щелей установить детектор… – Я начал вычерчивать под первой схемой другую. – Тогда он меняет все. Когда детектор на месте, свет перестает вести себя, как волна, и начинает вести себя, как частицы, наподобие струи маленьких пуль.

Поэтому вместо картины интерференции, – продолжил я, – мы увидим два раздельных светящихся пятнышка в тех местах, где эти маленькие пули ударяются в экран за щелями.
– Да, теперь вспомнил. Что-то очень знакомое. Кажется, нам это преподавали в аспирантуре.
– В аспирантуре я сам это преподавал. И наблюдал за лицами студентов. Тех, кто понимал, что это значит, действительно понимал, – подобное всегда тревожило. Я по их лицам видел, как трудно поверить в то, что не может быть правдой.
– Это знаменитый эксперимент. Собираешься его воспроизвести?
– Да.
– Зачем? Его и так уже много раз воспроизводили. Никакой журнал не станет такое публиковать.
– Знаю. Я читал научные статьи об этом феномене. Я понимал его математически… черт, да большая часть моих ранних исследований базировалась на предположениях, вытекающих из этого эксперимента. Но я никогда не видел его собственными глазами. Вот почему я хочу его провести. Чтобы наконец-то увидеть.
– Это наука. Здесь совсем не обязательно видеть.
– А мне надо. Необходимо. Всего раз.
* * *
Следующие две недели прошли как в тумане. Сатиш помогал мне с моим проектом, а я помогал ему. По утрам мы работали в его лаборатории. Днем перебирались в комнату 271, где собирали установку. Фосфоресцирующая пластина оказалась проблемой, затем пришлось повозиться с фокусировкой и выравниванием термоионной пушки. У меня возникало чувство, что мы с Сатишем своего рода партнеры. И это меня радовало. Я так долго работал в одиночку, что мне было приятно с кем-нибудь поговорить.
Мы рассказывали друг другу истории, чтобы убить время. Сатиш делился своими проблемами. То были проблемы, которые иногда возникают у хороших людей, живущих хорошей жизнью. Он рассказывал, как помогает дочке делать уроки и как тревожится о том, сможет ли оплатить ее учебу в колледже. Говорил о своей семье тамдома – произнося эти два слова так быстро, что они сливались в одно, – о полях, насекомых, муссонах и погубленных урожаях. «Этот год выдался неудачным для сахарного тростника», – поведал он, словно мы были крестьянами, а не учеными. Рассказывал о здоровье матери, о своих братьях, сестрах, племянниках и племянницах, и я начал проникаться тяжестью ответственности, которую он ощущал.
Склонившись над своими микросхемами с паяльником в руке, он сказал:
– Я слишком много болтаю. Наверное, тебя уже тошнит от моего голоса?
– Вовсе нет.
– Ты мне очень помог с работой. Как я смогу тебе отплатить, друг?
– Можно и деньгами. Предпочитаю крупные купюры.
Мне хотелось рассказать ему о своей жизни. О работе в QSR, о том, что, узнав некоторые вещи, хочешь их забыть. Я хотел рассказать ему, что у памяти есть тяжесть, а у безумия есть цвет, и что у каждого пистолета есть название, и это название одно для всех. Рассказать, что я понимаю, почему он жует табак, что я когда-то был женат, но из этого ничего не получилось. Что привык негромко разговаривать с могилой отца. Что прошло много времени с тех пор, когда у меня действительно все было хорошо.
Но, вместо того чтобы поведать ему обо всем этом, я говорил об эксперименте. Это я мог. Всегда мог.
– Все началось полвека назад как мысленный эксперимент. Чтобы доказать неполноту квантовой механики. Физики чувствовали, что квантовая механика несовершенна, ведь математика слишком вольно обращается с реальностью. Но оставалось еще и неприятное противоречие, которое необходимо было устранить: фотоэлектрический эффект требовал, чтобы фотоны были частицами, а результаты экспериментов Юнга показывали, что фотоны должны быть волнами. Лишь позднее, разумеется, когда технологии наконец-то догнали теорию, оказалось, что результаты экспериментов соответствуют математике. А математика утверждает, что можно знать или координаты электрона, или его скорость, но никогда оба параметра одновременно. Математика, как выяснилось, вовсе не была метафорой. Математика – штука очень серьезная. И с ней шутки плохи.
Сатиш кивнул, словно понял.
Позднее, сидя за работой, он рассказал в ответ свою историю:
– Был когда-то гуру, который повел четырех принцев в лес. Они охотились на птиц.
– Птиц?
– Да. И на высоком дереве они увидели чудесную птицу с яркими перьями. Первый принц сказал: «Я подстрелю птицу». Он натянул лук и пустил стрелу, но промахнулся. Затем второй принц попробовал сбить птицу, но тоже промахнулся. Потом третий. Наконец, четвертый принц выпустил стрелу, и на этот раз стрела попала, и прекрасная птица упала мертвой. Гуру посмотрел на первых трех принцев и спросил: «Куда вы целились?» – «В птицу». – «В птицу». – «В птицу». Гуру посмотрел на четвертого принца: «А ты?» – «В глаз птице».
* * *
Когда установка была собрана, последней задачей стала ее регулировка. Электронную пушку следовало нацелить таким образом, чтобы электроны с равной вероятностью могли пролететь сквозь каждую из щелей. Аппаратура заполнила почти всю комнату – разнообразная электроника, экраны и провода.
По утрам в номере отеля я разговаривал с зеркалом, давал обещания серым глазам. И каким-то чудом не пил.
Один день стал двумя. Два стали тремя. Три стали пятью. Потом я не пил целую неделю.
Работа в лаборатории продолжалась. Когда последняя деталь установки встала на место, я отошел и с бьющимся сердцем обозрел всю конструкцию, стоя на краю какой-то великой вселенской истины. Мне предстояло лицезреть нечто такое, что довелось увидеть лишь нескольким людям на протяжении всей истории мира.
Когда в 1977 году в дальний космос был запущен первый спутник, к его борту крепилась золотая пластинка с кодированными сообщениями. Там были диаграммы химических структур и математические формулы. Изображение ребенка в утробе, калибровка круга и одна страница из «Системы мира» Ньютона. Там содержались сведения о нашей математической системе, потому что математика, как нам говорили, есть универсальный язык. Я всегда считал, что на золотой пластинке следовало изобразить и схему этого эксперимента Фейнмана.
Потому что этот эксперимент фундаментальнее математики. Это то, что обитает под математикой. Он рассказывает о самой реальности.
Ричард Фейнман сказал об этом эксперименте: «В нем суть квантовой механики. Если честно, то он заключает в себе только тайну».
В комнате 271 имелись два стула, доска на стене, длинный лабораторный стол и несколько больших столов. Окна я завесил темной тканью. Части установки расползлись по всей комнате.
Щели были прорезаны в стальных листах, разделяющих установку на зоны. Фосфоресцирующий экран вставлен в прямоугольную коробочку позади второго комплекта щелей.
Джеймс зашел чуть позднее пяти часов вечера, перед самым уходом домой.
– Мне сказали, что ты подал заявку на лабораторное помещение, – сказал он.
– Да.
Он вошел в комнату.
– Что это? – поинтересовался Джеймс.
– Просто старое оборудование из «Доцента». Оно никому не понадобилось, вот я и решил проверить, смогу ли его наладить и запустить.
– А что именно ты запланировал?
– Воспроизвести результаты, ничего нового. Эксперимент Фейнмана с двумя щелями.
Он помолчал.
– Приятно видеть, что ты над чем-то работаешь, но тебе не кажется, что все это немного устарело?
– Хорошая наука никогда не устаревает.
– Но что ты собираешься доказать?
– Ничего. Совсем ничего.
* * *
В день эксперимента погода стояла чертовски холодная. С океана налетали сильные порывы ветра, и Восточное побережье съежилось под напором холодного фронта. Я приехал на работу рано и оставил на столе у Сатиша записку:
Приходи ко мне в лабораторию в 9.00.
Эрик.
Я ничего не объяснил Сатишу. Объяснять было нечего.
Сатиш вошел в комнату 271 за несколько минут до девяти, и я показал на кнопку:
– Не хочешь оказать мне честь?
Мы стояли в почти темной лаборатории. Сатиш разглядывал аппаратуру.
– Никогда не доверяй инженеру, который не ходит по своему мосту.
Я улыбнулся:
– Ну ладно.
Я нажал кнопку. Аппарат загудел.
Я дал ему поработать несколько минут, затем пошел взглянуть на экран. Открыл верхнюю крышку камеры и заглянул внутрь. И тут я увидел то, что надеялся увидеть. Эксперимент выдал четкую структуру из полосок, интерференционную картину на экране. В точности как у Юнга, и в точности как предсказывала Копенгагенская интерпретация.
Сатиш заглянул через плечо. Аппарат продолжал гудеть, полосатая картинка становилась все четче.
– Хочешь увидеть фокус? – поинтересовался я.
Он кивнул, сохраняя серьезность.
– Свет – это волна, – сообщил я.
Потом протянул руку к детектору, нажал кнопку «вкл» – и интерференционная картинка исчезла.
– Пока кто-нибудь не наблюдает.
* * *
Копенгагенская интерпретация постулирует следующее: наблюдение есть требование реальности. Ничто не существует, пока оно не наблюдается. До этого момента есть только волны вероятности. Только возможности. Применительно к нашему эксперименту эти волны описывают вероятность обнаружения частицы в любой точке между электронной пушкой и экраном. Пока частица не детектируется сознанием наблюдателя в конкретной точке вдоль этой волны, она эффективно выбирает любой путь сквозь пространство-время. Следовательно, пока частица не обнаружена пролетающей сквозь одну щель, она теоретически может пролетать сквозь другую – и поэтому реально пролетит сквозь обе в форме вероятностных волн. Эти волны интерферируют друг с другом предсказуемым образом и поэтому образуют видимую интерференционную картину на экране за щелями. Но если частица детектируется наблюдателем у любой из двух щелей, она после этого уже не может пролететь сквозь обе. А раз она не может пролететь сквозь обе, то не может создать и интерференционную картину.
Создается впечатление, что такое объяснение противоречит самому себе, за одним исключением. За исключением того, что интерференционная картина исчезает, если кто-то наблюдает.
* * *
Мы проводили эксперимент снова и снова. Сатиш проверял результаты детектора, тщательно отмечая, через какую щель пролетают электроны. Когда детекторы были включены, примерно половина электронов пролетала сквозь каждую из щелей и интерференционная картина не образовывалась. Мы выключали детекторы – и опять на экране мгновенно появлялась интерференционная картина.
– Откуда система знает? – спросил Сатиш.
– Откуда знает что?
– Что детекторы включены. Откуда она знает, что позиция электрона была зарегистрирована?
– А-а, это большой вопрос.
– Может, детекторы выдают какие-то электромагнитные помехи?
Я покачал головой:
– Ты еще не видел действительно странных вещей.
– О чем ты?
– На самом деле электроны совсем не реагируют на детекторы. Они реагируют на тот факт, что ты в какой-то момент снимаешь показания детектора.
Сатиш посмотрел на меня, явно ничего не понимая.
– Включи детекторы.
Сатиш нажал на кнопку. Детекторы негромко загудели. Мы дали эксперименту длиться какое-то время.
– Все, как и прежде, – сказал я. – Детекторы включены, поэтому электроны должны вести себя, как частицы, а не как волны. А без волн нет и интерференции, правильно?
Сатиш кивнул.
– Ладно, теперь выключи.
Гудение детекторов смолкло.
– А теперь магическая проверка, – объявил я. – Это как раз то, что я хотел увидеть.
Я нажал на детекторе кнопку «сброс», стерев результаты.
– Эксперимент был таким же, как и прежде, – продолжил я. – Оба раза детекторы были включены. Единственная разница состоит в том, что я стер результаты, не посмотрев на них. А теперь проверь экран.
Сатиш открыл корпус детектора и вытащил экран.
И тогда я увидел то самое выражение у него на лице. Мучительная необходимость поверить в то, что не может быть правдой.
– Интерференционная картина, – сказал он. – Как такое может быть?
– Это называется ретропричинностью. Стерев результаты после завершения эксперимента, я привел к тому, что электроны вообще не вели себя, как частицы.
Сатиш молчал целых пять секунд.
– Такое возможно?
– Конечно, нет, но ты сам это увидел. Пока разумный наблюдатель не увидит показания детектора, сам детектор остается частью более крупной неопределенной системы. Детектор не вызывает коллапс волновой функции – это делает разумный наблюдатель. Сознание подобно гигантскому прожектору, вызывающему коллапс реальности везде, куда он светит, а то, что не наблюдается, остается вероятностью. И это не ограничивается лишь фотонами или электронами. Это все. Вся материя. Это дефект реальности. Поддающийся проверке, воспроизводимый дефект реальности.
– Значит, ты это хотел увидеть?
– Да.
– А теперь, когда увидел, для тебя что-то изменилось?
Я ненадолго задумался, анализируя свои мысли.
– Да, изменилось. Стало гораздо хуже.
* * *
Мы проводили эксперимент снова и снова. Результаты никогда не менялись. Они идеально совпадали с результатами, которые Фейнман задокументировал десятилетия назад. За следующие два дня Сатиш подключил детекторы к принтеру. Мы проводили эксперимент, и я нажимал кнопку распечатки. Потом мы слушали, как жужжит принтер, печатая результаты.
Сатиш корпел над распечатками так, будто пытался придать им смысл одним усилием воли. Я заглядывал через его плечо, становясь голосом в его ухе:
– Это подобно неисследованному закону природы. Квантовая физика как форма статистической аппроксимации – решение проблемы сохранения реальности. Материя ведет себя как область частот. Зачем изменять массивы данных, на которые никто не смотрит?
Сатиш отложил листки и потер глаза.
– Есть школы математической мысли, которые утверждают, что более глубокий, подразумеваемый порядок скрыт сразу под поверхностью наших жизней, – заметил я.
– Для этого у нас тоже есть название, – улыбнулся Сатиш. – Мы называем это «брахман». И мы знаем об этом уже пять тысяч лет.
– Хочу кое-что попробовать, – сказал я.
Мы снова провели эксперимент. Я распечатал результаты, тщательно постаравшись не смотреть на них. Мы выключили установку.
Я сложил оба листка пополам и сунул их в конверты из плотной бумаги. Сатишу я дал конверт с распечаткой результатов экрана, а себе оставил результаты детекторов.
– Я пока еще не смотрел результаты детекторов, – пояснил я ему. – Поэтому сейчас волновая функция все еще представляет собой суперпозицию – наложение – состояний. И даже хотя результаты распечатаны, они все еще неизвестны наблюдателю и поэтому все еще являются частью неопределенной системы. Понял?
– Да.
– Выйди в соседнюю комнату. Я вскрою свой конверт ровно через двадцать секунд. И я хочу, чтобы ровно через тридцать секунд ты вскрыл свой.
Сатиш вышел. И вот оно: место, где логика не срабатывает. Я подавил иррациональную вспышку страха. Зажег стоящую на столе газовую горелку и поднес конверт к огню. Запах горящей бумаги. Черный пепел. Минуту спустя вошел Сатиш с открытым конвертом.
– Ты не смотрел, – сказал он и протянул свой листок. – Как только я вскрыл конверт, то сразу понял, что ты не смотрел.
– Я солгал, – признался я, забирая у него листок. – И ты меня уличил. Мы создали первый в мире квантовый детектор лжи – прибор для предсказаний, сделанный из света. – Я посмотрел на распечатку. На белой поверхности расположились темные полосы интерференционной картины. – Некоторые математики утверждают, что или не существует никакой свободы воли, или весь мир есть симуляция. Как думаешь, какой вариант правильный?
– Это наши варианты?
Я скомкал листок. Внутри меня что-то сдвинулось. Что-то щелкнуло, и я открыл рот, чтобы заговорить, но произнес совсем не то, что намеревался.
Я рассказал Сатишу о срыве, о пьянстве, о госпитале. Рассказал о глазах в зеркале и что я говорил себе по утрам.
Рассказал о гладкой стальной кнопке стирания, которую я приставлял к голове, – одно нажатие указательного пальца, чтобы заплатить за все.
Сатиш слушал, кивая. Он перестал улыбаться. Когда я договорил, он положил руку мне на плечо и заглянул в глаза:
– Значит, ты все-таки сумасшедший, друг.
– Сегодня тринадцать дней. Я трезвый уже тринадцать дней.
– Это хорошо?
– Нет, но дольше, чем мне удавалось продержаться на протяжении двух лет.
* * *
Мы проводили эксперимент. Распечатывали результаты.
Если мы смотрели на результаты детекторов, то на экране появлялись два пятна напротив щелей – сквозь них пролетали частицы. Если не смотрели, на экране возникала картина интерференции.
Мы проработали большую часть ночи. Уже под утро, сидя в полутемной лаборатории, Сатиш заговорил:
– Была однажды лягушка, которая жила в колодце, – начал он.
Я наблюдал за его лицом, пока он рассказывал историю.
– Как-то раз крестьянин опустил в колодец ведро и вытащил из него лягушку. Та заморгала на ярком солнце, потому что увидела его впервые.
«Кто ты?» – спросила лягушка крестьянина. Тот очень удивился. «Я хозяин этой фермы», – ответил он. «Ты называешь свой мир „ферма“?» – «Нет, это не какой-то другой мир. Это тот же самый мир». Лягушка только рассмеялась в ответ и заявила: «Я плавала до каждого уголка своего мира. Северного, южного, западного и восточного. И уж поверь, я точно тебе говорю, что здесь другой мир». Я смотрел на Сатиша и молчал.
– Ты и я, – сказал Сатиш. – Мы все еще в колодце. – Он закрыл глаза. – Можно спросить?
– Валяй.
– Тебе не хочется выпить?
– Нет.
– Мне любопытно… когда ты держал пистолет, то говорил, что застрелишься, если выпьешь…
– Да.
– И в те дни, когда ты такое говоришь, ты не пьешь?
– Нет.
Сатиш помолчал, тщательно подбирая слова.
– Тогда почему бы тебе всего-навсего не говорить это каждый день?
– Это просто, – ответил я. – Потому что тогда я уже буду мертв сейчас.
Позднее, когда Сатиш ушел домой, я провел эксперимент в последний раз. Не глядя на результаты, положил их в два конверта. На первом написал «результаты детекторов». На втором «результаты экрана».
Приехал в отель. Разделся. И встал обнаженный перед зеркалом. Приложил ко лбу конверт, помеченный «детектор».
– Я никогда не взгляну на этот листок, – пообещал я. – Никогда, если только не стану пить снова. – Я посмотрел в зеркало. В свои серые глаза. И увидел, что сказал это всерьез.
Потом взглянул вниз, на второй конверт с результатами экрана. У меня задрожали руки.
Я положил конверт на стол, уставился на него. Буду ли я пить снова? В вопросе заключалось давление, жесткость. Эти конверты знали ответ. Однажды я или открою результаты детекторов, или не открою. Внутри другого конверта или есть картина интерференции, или нет. Да или нет? Ответ содержался в конверте. Он там уже был.
* * *
Я ждал в кабинете Сатиша, пока тот не пришел утром на работу. Он положил портфель на стол. Посмотрел на меня, на часы, потом снова на меня.
– Что ты здесь делаешь? – спросил он.
– Жду тебя.
– И давно ты здесь?
– С половины пятого утра.
Он обвел взглядом кабинет. Я откинулся на спинку его кресла, сплетя пальцы на затылке. Сатиш просто наблюдал за мной. Сатиш – умный человек. Он ждал.
– Можешь подключить детектор к индикатору? – поинтересовался я.
– В смысле?
– Можешь сделать так, чтобы загоралась лампочка, когда детектор регистрирует электрон, пролетевший сквозь щель?
– Это нетрудно. А зачем?
– Хочу определить неопределенную систему – и определить точно.
* * *
Очковая Машина посмотрел, как проводится эксперимент. Потом изучил картину интерференции.
– Ты смотришь на половину корпускулярно-волнового дуализма света, – сказал я.
– А как выглядит вторая половина?
Я включил детекторы. Полоски на экране сменились двумя четкими пятнышками.
– Так.
– А-а… – протянул Очковая Машина.
* * *
Стою в лаборатории Очковой Машины. Здесь плавают лягушки.
– Они осознают свет? – спрашиваю я.
– У них есть глаза.
– Но я спрашивал, осознают ли они свет?
– Да, они реагируют на визуальные стимулы. Они охотники. И должны видеть, чтобы охотиться.
– Так осознают или нет?
* * *
– Чем ты занимался, пока не попал сюда?
– Квантовыми исследованиями.
– Это я знаю, – сказал Очковая Машина. – Но чем конкретно?
Я попытался отмахнуться от него:
– Были разные проекты. Твердотельные фотонные устройства, преобразования Фурье, ядерный магнитный резонанс в жидкостях.
– Преобразования Фурье?
– Это сложные уравнения, которые можно использовать для перевода визуальных образов на волновой язык.
Очковая Машина уставился на меня, и его темные глаза стали жесткими. Он повторил, медленно и четко выговаривая каждое слово:
– Чем ты занимался конкретно?
– Компьютерами. Мы пытались создать компьютер. С квантовой обработкой информации, мощностью до двенадцати кубитов. И мы использовали преобразования Фурье, чтобы конвертировать информацию в волны и обратно.
– И он работал?
– Типа того. Мы достигли когерентного состояния двенадцати кубитов и декодировали его с помощью ядерного магнитного резонанса.
– Почему только «типа того»? Значит, он не работал?
– Нет, работал, безусловно, работал. Особенно когда был выключен. – Я взглянул ему в глаза. – Типа того.
* * *
Чтобы подключить световой индикатор, у Сатиша ушло два дня.
Очковая Машина принес нам лягушек в субботу. Мы отделили здоровых лягушек от больных, нормальных от монстров.
– Почему они такими стали? – спросил я.
– Чем сложнее система, тем большим количеством способов она может сломаться.
Джой находилась в соседней комнате, работая в своей лаборатории. Услышав наши голоса, она вышла в коридор.
– Ты работаешь по выходным? – спросил ее Сатиш.
– По выходным тише. Я провожу самые чувствительные испытания, когда здесь никого нет. А вы? Значит, вы все теперь партнеры?
– Эрик приложил к этому проекту большие руки, – заметил Сатиш. – Мои руки маленькие.
– Над чем вы работаете? – поинтересовалась она, входя следом за Сатишем в лабораторию. Тот взглянул на меня, и я кивнул.
Тогда Сатиш объяснил все так, как мог объяснить только он.
– О-о… – сказала она. Моргнула. И осталась.
Очковую Машину мы использовали в качестве контрольного устройства.
– Мы проделаем все в реальном времени, – сказал я ему. – Никаких записей показаний детекторов, только индикаторная лампочка.
По моей команде встань там и следи за лампочкой. Если она загорится, это означает, что детекторы зарегистрировали электроны. Понял?
– Да, понял.
Сатищ нажал кнопку. Я смотрел на экран, где у меня на глазах сформировалась картина интерференции – уже знакомый рисунок из темных и светлых полос.
– Хорошо, – кивнул я Очковой Машине. – Теперь загляни в ящик. И скажи, горит ли лампочка.
Очковая Машина заглянул в ящик. Не успел он и слова вымолвить, как картина интерференции исчезла.
– Да, – сообщил он. – Лампочка горит.
Я улыбнулся. Ощутил грань между знанием и незнанием. Мысленно приласкал ее.
Я кивнул Сатишу, и он выключил источник электронов. Я повернулся к Очковой Машине:
– Наблюдая за лампочкой, ты вызвал коллапс вероятностной волны, поэтому мы получили доказательство принципа. – Я обвел взглядом всех троих. – Теперь давайте выясним, все ли наблюдатели были созданы одинаковыми.
Очковая Машина посадил в ящик лягушку.
Вот она, исходная точка. Взгляд в то место, где объективная и субъективная реальности остаются неопределенными. Я кивнул Сатишу:
– Включай электронную пушку.
Он нажал кнопку, установка загудела. Я смотрел на экран. Потом закрыл глаза, ощущая, как в груди колотится сердце. Я знал, что в ящике загорелась лампочка одного из двух детекторов. И знал, что лягушка эту лампочку увидела. Но когда я открыл глаза, на экране так и осталась картина интерференции. Лягушка не смогла ее изменить.
– Еще раз, – велел я Сатишу.
Сатиш снова включил установку. И еще раз. И еще раз.
Очковая Машина взглянул на меня:
– Ну?
– По-прежнему картина интерференции. Коллапса вероятностной волны не произошло.
– И что это значит? – спросила Джой.
– Это значит, что мы попробуем другую лягушку.
Мы испробовали шесть лягушек. Ни одна не изменила результата.
– Они часть неопределенной системы, – сказал Сатиш.
Я внимательно разглядывал экран, и тут картина интерференции исчезла. Я едва не закричал, но когда поднял голову, то увидел, как Очковая Машина заглядывает в ящик.
– Ты посмотрел!
– Просто хотел убедиться, что лампочка горит.
– Я и так мог сказать.
Мы испытали всех лягушек в его лаборатории. Потом испытали саламандр.
– Может быть, дело в том, что все они амфибии, – предположил он.
– Да, может быть.
– Как получается, что мы воздействуем на систему, а лягушки и саламандры не могут?
– Возможно, все дело в наших глазах, – заметил Очковая Машина. – Наверняка в глазах – из-за квантовых эффектов в молекулах родопсина в сетчатке. Оптические нервы лишь передают отмеренную информацию в мозг.
– А почему это должно иметь значение?
– Можно мне попробовать? – вмешалась Джой.
Я кивнул. Мы снова провели эксперимент, но на этот раз в ящик смотрели пустые глаза Джой. И опять ничего.
На следующее утро перед работой мы встретились с Сатишем и Очковой Машиной на стоянке. Уселись в мою машину и поехали в торговый центр.
Зашли в зоомагазин.
Я купил трех мышей, канарейку, черепаху и щенка бостонского терьера с глуповатой мордочкой. Продавец не сводил с нас глаз.
– Вы любите домашних животных? – Он с подозрением уставился на Сатиша и Очковую Машину.
– Ага, – подтвердил я. – Разных зверушек.
Обратно мы ехали в тишине, время от времени прерываемой лишь повизгиванием щенка.
Нарушил молчание Очковая Машина:
– Наверное, для этого требуется более сложная нервная система.
– С какой стати? – возразил Сатиш. – Жизнь есть жизнь. Реальное – это реальное.
Я стиснул руль:
– В чем разница между разумом и мозгом?
– Семантика, – ответил Очковая Машина. – Разные названия одной идеи.
– Мозг – это процессор, – не согласился Сатиш. – А разум – программы для него.
За окнами машины проносился ландшафт Массачусетса: стена каменистых холмов справа – огромные темные камни, похожие на кости земли. Подземный закрытый перелом. Остаток пути мы проехали молча.
Прибыв в лабораторию, мы начали с черепахи. Потом последовали мыши и канарейка, которая вырвалась и уселась на шкафу. Никто из них не вызвал волнового коллапса.
Терьер смотрел на нас выпученными глазами.
– У него глаза так и должны смотреть? В разные стороны? – спросил Сатиш.
Я посадил щенка в ящик.
– Думаю, это особенность породы. Но нам от него нужно лишь одно – зрение. Любой глаз подойдет.
Я посмотрел вниз – на лучшего друга человека, нашего спутника на протяжении тысячелетий, и у меня родилась тайная надежда. «Этот вид, – сказал я себе. – Из всех прочих наверняка этот. Потому что кто из нас не смотрел в глаза собаке и не ощущал ответной реакции».
Щенок заскулил в ящике. Сатиш провел эксперимент. Я посмотрел на экран.
Ничего. Никаких изменений.
* * *
В тот вечер я приехал к Джой. Она открыла дверь. Стала ждать, когда я подам голос.
– Ты что-то говорила о кофе?
Она улыбнулась, и в тот момент я снова почти не сомневался, что она меня видит.
Несколько часов спустя, в темноте, я сказал ей, что мне пора ехать. Она провела ладонью по моей обнаженной спине.
– Нет никакого времени, – сказала она. – Только сейчас. И сейчас. – Она коснулась губами моей кожи. – И сейчас.
* * *
На следующий день в лабораторию пришел Джеймс.
– Вы сделали открытие? – спросил он.
– Сделали.
Джеймс посмотрел, как мы провели эксперимент. Заглянул в ящик. И сам вызвал коллапс волновой функции.
Затем мы поместили в ящик щенка и повторили эксперимент. Показали ему картину интерференции.
– Почему не получается? – спросил он.
– Мы не знаем.
– Но в чем разница?
– Только в одном. В наблюдателе.
– Не понимаю.
– Пока никто из проверенных животных не смог повлиять на квантовую систему.
Он обхватил ладонью подбородок. Нахмурился. Долго молчал, глядя на установку.
– Черт побери, – наконец сказал он.
– Ага, – поддакнул Очковая Машина.
Я шагнул вперед:
– Мы хотим сделать дополнительные проверки. Испытать последовательно каждый вид, класс и отряд. Особый интерес представляют приматы – из-за их эволюционного родства с нами.
Его глаза устремились вдаль:
– Проверяйте, сколько хотите. В средствах недостатка не будет.
* * *
На организацию и подготовку ушло десять дней. Мы работали совместно с Бостонским зоопарком.
Транспортировка большого количества животных могла стать логистическим кошмаром, поэтому мы решили, что проще привезти лабораторию в зоопарк, чем зоопарк – в лабораторию. Были наняты фургоны. Назначены техники. Очковая Машина отложил свое исследование и поручил лаборанту кормить амфибий в его отсутствие. Работа Сатиша тоже застопорилась.
– Она внезапно показалась мне не столь интересной, – объяснил он.
Первый день экспериментов Джеймс провел с нами. Мы развернули аппаратуру в одном из новых строящихся павильонов – зеленом и с высоким потолком, где когда-нибудь поселят оленей. Но пока в нем обосновались ученые. Сатиш занялся электроникой. Очковая Машина отвечал за связь с сотрудниками зоопарка. Я мастерил большой деревянный ящик.
Сотрудники зоопарка были не очень-то склонны нам помогать, пока директор не сообщил им размер благотворительного пожертвования, полученного от «Хансен».