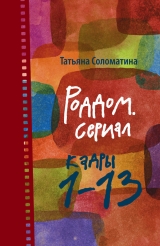
Текст книги "Роддом. Сериал. Кадры 14–26"
Автор книги: Татьяна Соломатина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Валерий Иванович стал своему сыну и папой, и мамой, и нянькой, и кормилицей. Он взял отпуск на год. Само собой, без содержания. Валерий Иванович нанимал своему малышу самых лучших нянек. Чтобы тут же их уволить и нанять самых-самых лучших. Ни одна нянька, что правда, долго не задерживалась. Честно говоря, у любой няньки – даже у самой худшей (из самых лучших) – возникало горячее желание как можно быстрее покинуть семейство Линьковых, как только она переступала порог их, с позволения сказать, квартиры.
Однажды Татьяна Георгиевна побывала в гостях у Валерия Ивановича. Вместе с Паниным. Они втроём были в Минздраве по какому-то вопросу и после Линьков пригласил их к себе на рюмку чаю. Татьяна Георгиевна была тогда старшим ординатором обсервационного отделения, а Панин заведовал физиологическим родильно-операционным блоком. Валерий Иванович жил буквально за углом, в здании, считавшемся чуть ли не памятником архитектуры. Квартира была огромная, досталась Линькову от родителей. А тем, в свою очередь, от их родителей. Дедушка Валерия Ивановича был каким-то важным ответработником. Только дедушка. Почему родителей не уплотнили – неизвестно. Всё это рассказал им Валерий Иванович, пока они шли к нему чудными московскими переулками.
Почему родителей не уплотнили, стало понятно, как только они зашли к нему в квартиру. Ни один человек в здравом уме и трезвой памяти не желал бы поселиться в этом… В этой… огромной, заваленной дерьмом до потолка ночлежке. Колоссальная энергия и не меньшие средства потребовались бы, чтобы хоть что-то сделать с этим караван-сараем. В мрачной прихожей с высоченными потолками стоял целый ряд разнокалиберных допотопных вешалок. Ещё парочка была косо-криво прибита к стенам, с которых местами клочьями свисали обои, а местами проглядывали такие историко-археологические слои, в виде дранки и штукатурки, что любой археолог посчитал бы за счастье провести тут длительные раскопки. Казалось, что на этих вешалках висят не только курточки и пиджачки маленького Валеры Линькова, не только пальто его мамы, в котором она ходила ещё до Второй мировой войны, но и плюшевый шушун деревенской няньки самого Валерика, единственного и слишком горячо любимого внука ответработника. Кожан его деда. И дореволюционный плащ его прабабушки, перешедший по наследству к его бабушке. Количество обуви, валявшейся в огромной прихожей тут и там, не поддавалось даже приблизительному исчислению. Историк моды сошёл бы с ума от счастья. Таких сандалет уже давно не делали. А ботинки образца 1920-х явно были привезены дедушкой из самого городу Парижу, не иначе. Вся обувка была замурзана. Иные образцы навеки окаменели в конгломератах не меньше, чем полувековой грязи. Из других сыпался крымский песок годов эдак семидесятых. Несмотря на зловещую огромность прихожей, ступить было негде. Потому что кроме обуви и одёжи все горизонтальные и вертикальные поверхности были утыканы разнообразными зонтами – большей частью вышедшими из строя, обломками обувных ложек самых невероятных размеров и фасонов, баночками с насмерть засохшим сапожным кремом, мириадами истёртых почти в ноль обувных щёток, несметным количеством связок ключей неизвестно от чего. И всем таким прочим, что у нормальных людей – даже у самых отъявленных засранцев среди нормальных, – захламляет прихожие в несравнимо меньших масштабах. Было пыльно, темно и страшно. Хотя на улице тогда вовсю бушевало майское солнце.
– Свет не включается! Лампочка перегорела, всё никак не заменю! И не разувайтесь, у нас немного не прибрано! Сейчас поставлю чайник! – бодро прокричал Валерий Иванович, ловко прогарцевавший сквозь весь этот хаос на кухню.
– Немного не прибрано? – с ужасом прошептала Семёну Ильичу Татьяна Георгиевна. – Что же у него тогда «много»? Мне что-то уже не хочется чаю.
– Ну где же вы?!
Мальцева и Панин прошли на кухню. Однако! По размеру кухня Линькова была, наверное, раза в три больше тогдашней трёхкомнатной квартиры Панина. Но на этой огромной кухне не было ни единого пустого места. В почти неразличимой выси рядами стояли бутылки, покрытые пылью. Пивные, водочные, из-под газировки, из-под вина и шампанского. Бутылки молочные, бутылки из-под кефира и ряженки, уксусные… Многие были с навеки, казалось, позабытыми наклейками. А некоторые – так и вовсе давным-давно сняты с производства.
– Никак не сдам, – объяснил Линьков, поймав взгляд Татьяны Георгиевны.
– Кто сейчас сдаёт бутылки? – одними губами сартикулировала Мальцева Панину, когда Валерий Иванович развернулся к засвистевшему чайнику.
Это был чайник-ветеран. Какого цвета он был при рождении, мог бы сказать только тот самый археолог. Если бы успел ещё при жизни закончить раскопки в коридоре. Артефакт был сплошь покрыт толстым наростом того, что получается из послойного слёживания сажи, пепла, пыли, сала, брызг и бог знает чего ещё. Это уже даже грязью нельзя было назвать. Это был монолит. Минерал!
– Ай, зараза! – Валерий Иванович обжёгся, снимая с носика чайника свисток. Свисток упал на пол.
На пол Татьяна Георгиевна смотреть побоялась. Достаточно было того, что она намертво к этому самому полу прилипла. Валерий Иванович разыскал убежавший свисток и положил его на подоконник. Точнее, воткнул между пузырьком выветрившегося бриллиантового зелёного и использованными ватными тампонами. Тут же рядом был разлит из неопрятного флакона давно потрескавшийся тональный крем. Валялись ватные палочки, все в чёрных, коричневых и зелёных разводах. Тушь, ушная сера и антисептический раствор в этом доме совершенно мирно соседствовали, не обращая никакого внимания на давно усохший столетник, какие-то камешки, конфетки, заветренный обгрызенный кусочек докторской колбасы, грязную картофелину, всю в ростках, загнивший в банках из-под майонеза лук, выставленный на проращивание и теперь благоухавший своей осклизлостью на всю эту непомерно огромную кухню, больше похожую на городскую свалку. Описание прочего кухонного интерьера могло бы свести с ума даже бесчувственного санитара, всю жизнь проработавшего в психушке строгого режима.
– Что же вы стоите, друзья?! Берите из-под стола табуретки и садитесь! – всплеснул ладошками Валерий Иванович.
Татьяна Георгиевна, с усилием оторвала свои изящные туфельки от того, что в палеозое было паркетом. Раздался зловещий треск. На цыпочках она перепрыгнула какие-то препятствия в виде заплесневелых трёхлитровых бутылей, замоченных лет десять назад кастрюль и множества совершенно непонятных чумазых агрегатов вроде мини-элеваторов и села Панину «на ручки». Она тогда только-только приобрела себе роскошную юбку из «мокрого шёлка», на которой, как известно, отлично остаются любые пятна, а некоторые даже ничем не отстирываются. Пусть уж на тутошних тронах Сёма, индеец Смелая Задница, восседает. Впрочем, юбка всё равно пропала. Линьков облил её какой-то мазутного колеру мерзостью, настаивая на том, что это «варенье к чаю».
– Немного коньячку?! – воскликнул Валерий Иванович.
– Да-да! – с готовностью отозвался Панин.
Это был не коньяк, а коньячный спирт, налитый в бутылку из-под чего-то такого, что тоже давно уже было снято с производства. Беседа как-то не очень клеилась. Линьков рассказывал об успехах своего малыша, которому на тот момент было годика три. Он так хвастался, что его мальчик удачно бросил мячик, что создавалось впечатление, что мальчик дебил. Или, что скорее всего, дебил именно его папа. Потому что удачно бросать мячик для мальчика такого возраста – это более чем естественно. Когда Валерий Иванович дошёл до рассказов о невероятной гениальности анализов кала своего единственного отпрыска, Татьяна Георгиевна вежливо, исключительно чтобы сменить тему, спросила:
– А где ваша супруга, Валерий Иванович?
– А она в комнате, Танюша, она в комнате. Отдыхает… Ой, мы что-то засиделись, коллеги. Простите, я как-то не сообразил, который час. Мне надо забрать сы́ночку из детского садика. Это очень хороший частный детский садик тут, неподалёку. Его держит очень хорошая женщина, там совсем немного деток. В общем, мне его надо забрать. Вика очень устаёт, когда выходит на улицу. Поэтому мне необходимо, простите…
Мальцева с Паниным с радостью выскочили на свежий воздух.
– Свят-свят-свят, что нас в комнаты не пригласили! Я бы рехнулся! – радостно выпалил педант и чистюля Семён Ильич, как только Линьков исчез за поворотом. – Чёрт, ботинки всё ещё липнут к мостовой и на жопе наверняка табуретка отпечатана!
– Подумаешь! У тебя самые обыкновенные брюки! А моя юбка – она необыкновенная! У-у-у! – заныла Мальцева. – Впрочем, ерунда. Рада, что живыми ушли. За любопытство надо платить. Зато снова солнечный свет и всё такое. Интересно, сколько лет Линьков окна не мыл? Лет тридцать, не меньше! Через его стёкла совсем не проникает солнечный свет. Это не стёкла, это какие-то копчёные бычьи пузыри. Боже мой, и это обиталище хирурга!
Кстати, не столько беспредельный мрак и бардак сводили нанимаемых нянек с ума, сколько требования Валерия Ивановича к «стерильности» и прочей режимности по отношению к его малышу. Вот так вот! Воду для ванночки требовалось кипятить. В замызганном тазике родом, похоже, ещё из позапрошлого века. Саму ванночку, устанавливаемую посреди ужасно загаженной огромной ванной комнаты, лет пятьдесят как вопиющей о ремонте, необходимо было ополаскивать дезраствором. Никаких локтей – только градусник! И сильно-розовый раствор марганцовки. Требовалось насыпать кристаллы в мерную ложечку – с верхом, на одну ванночку! – из мутной литровой склянки, поверх которой был наклеен почти чёрный уже лейкопластырь с затёртой надписью химическим карандашом: «KMnO4». Первая нянька, появившаяся в доме Линькова, узрев годовалого младенца, сказала:
– Ой, какой хорошенький мулатик! Внучёк ваш? Дружба народов, так сказать?
И ту же была уволена. Ну, не разобралась женщина, что ребёнок – вовсе не мулатик, а обыкновенный малыш самой что ни на есть белой расы, просто насквозь продублённый марганцевокислым калием.
Вторая нянька вылетела после того, как посмела не прогладить одёжку малыша двенадцати месяцев от роду с двух сторон, а одела вот так вот просто – сняла с бельевой верёвки – и всего делов.
Третья – за то, что не прокипятила бутылочку с соской, а накормила полуторагодовалого дитятю ложкой. А ведь ребёнка, как известно, ничему нельзя обучать насильно! Только сам!
– Да как же он сам догадается, что ложкой сподручнее, если ему не показать? Если ничему не обучать – так он у вас Маугли будет! – возмутилась нянька. И тут же была рассчитана.
Четвёртая была изгнана сразу же, как попыталась приучить двухлетнего мальчика к горшку. Пока папа напоследок излагал няньке недопустимость подобного варварства в столь раннем возрасте, сынишка Линькова потопал своими толстыми короткими ножками на кухню, разыскал запрещённую ложку и с удовольствием сожрал этой самой ложкой то, что перед этим наделал в горшок. Любимый папа частенько кричал прикроватной маме про то, что человек должен хоть что-то уметь, иначе сам себя не прокормит! Малыш очень хотел похвастаться папе, что он умеет есть ложкой – это уже что-то! и в случае чего сам себя прокормит. Но, увы, он совершенно не умел говорить. Совсем ничего. Вместо того, чтобы озаботиться чрезмерной молчаливостью отпрыска возраста вполне себе уже осмысленного лопотания, Валерий Иванович рассказывал всем встречным-поперечным, что у него не просто какой-то там обыкновенный ребёнок, коих пруд пруди, а самое что ни на есть дитя-индиго.
– Я вас разочарую – индиго говно ложкой не жрут! – припечатала четвёртая нянька перед тем, как хлопнуть дверью.
Пятая лишилась места после того, как выкинула все обмылки. Не успела сообразить, что в доме Валерия Ивановича ничего и никогда не выбрасывается! Из собираемых обмылков Линьков собирался варить мыло. Когда-нибудь. Поэтому этих самых в пыль засушенных обмылков были у него полные коробки из-под старых телевизоров. Давно вышедших из строя старых телевизоров. Которые тоже не выбрасывались, а стояли тут же, на балконе. Очень мешая нянькам развешивать штанишки его ненаглядного отпрыска на той самой бельевой верёвке.
Шестая нянька отказалась быть Вике горничной и выполнять её мелкие поручения типа сгонять за докторской колбасой и коньяком в ближайший гастроном.
Седьмая ещё при знакомстве с семейством уточнила, мол, а зачем вам, уважаемые, нянька, если мамаша, как вы говорите, по целым дням дома? На дому работает? Не работает? А что делает? Всюду нос суёт? Не суёт? На кровати лежит? А чего лежит? Сильно устаёт? О нет. С малышами сильно уставших мам дел не буду иметь ни за какие деньги, увольте! До свидания!
И так далее.
В общем, пришлось Валерию Ивановичу крутиться со своим ненаглядным малышом самому. Из-за этого он сильно просел в деньгах. Договорятся, например, с Валерием Ивановичем насчет родов, а рожать начинают – когда? Ну, разумеется, именно тогда, когда ему не с кем оставить пятилетнюю кроху на ночь. Жена? Да, есть жена… Но малыш не уснёт, пока папа ему не прочитает сказку на ночь!
Со временем Валерий Иванович растерял клиентуру. Просился было в гинекологию, в ординаторы. Но сам же первый оттуда и сбежал. Что ординатором в гинекологии заработаешь, кроме гембеля и зарплаты? В дневное время и заведующий прекрасно со всеми пациентками разберётся. Так что пришлось Линькову кое-что достать из сильно запрятанного дедушкиного тайника и начать продавать помаленьку.
– Интересно, этот болван в курсе, что в его захламлённом коридоре на обдрипанной стене сыреет и блекнет подлинник Коровина? – как-то раз спросила у Семёна Ильича Мальцева.
– Правда?! Ух ты! Но… думаю, болван в курсе. Его дедуган, судя по пьяным базарам нашего Валерия Ивановича, неплохо в своё время пограбил награбленного. Линьков как-то брякнул, что у него есть клочок бумажки с рукописным наброском Маяковского. «Где-то на книжных полках валяется». Но Валерий Иванович, моя дорогая, не просто жаден. Он патологически жаден. Жаден до безумия – и это не фигура речи. Он не продаёт ничего такого вроде картины Коровина или наброска Маяковского не потому, что ценит их как раритетные вещи, произведения искусства и тому подобное. Он не продаёт их по той же причине, по которой не может выбросить пустые пыльные бутылки. Которые, разумеется, никуда и никогда не сдаст. Это и есть безумная жадность. Именно это, а не оголтелое завышение цен на что бы то ни было. Впрочем, он и по-умному жаден до бесстыдства. В прежние времена своим девкам такие ценники за аборты-роды лепил, что у меня волосы дыбом вставали. Оттого в основном, что находились такие, что ему эти бабки шальные несли.
Несмотря ни на что, Панин питал к Линькову что-то вроде благодарности. Когда-то тот очень помог ему с кандидатской диссертацией, касавшейся некоторых аспектов кровотечений в акушерской практике. Кроме того, Валерий Иванович был из тех людей, что бесстыдно играют на чувствах ближних. И даже дальних. Когда Панин его песочил за разнообразные должностные нарушения вроде побега с дежурства, грязного халата или напоминал, что прооперировать и бабки снять – это ещё полдела, женщину надо до выписки довести, Валерий Иванович делал такое несчастное лицо, начинал так слезливо плакаться на больную жену и несчастного бесприютного малыша (четырнадцатилетнего нынче возраста!), что Панину тут же становилось стыдно, и он, слегка пожурив Валерия Ивановича, тут же его отпускал. Даже выговора ни разу не влепил.
* * *
– Я вас ищу, Татьяна Георгиевна. Старшая сказала, что вы у начмеда. Хорошо, что вы уже вышли. Мне надо девочку госпитализировать, срочно. Подпишите…
– Валерий Иванович, в отличие от Панина, я совершенно бессовестный и бесстыжий человек! Я ничего вам не подпишу, – ответила Татьяна Георгиевна подошедшему к ней в грязном халате доктору. – «Срочно» – это в вашем исполнении значит – «девочка» не по контракту. А меня за неконтрактных слишком сильно не любит начальство. – Она кивнула головой в сторону кабинета начмеда. – Кроме того, господин Линьков, я отстраняю вас от работы в отделении. И в график дежурств вместо вас ставлю другого врача. Какого-нибудь не слишком кормящего папашу. И поверьте мне, сделаю всё для того, чтобы вас наконец вышибли на пенсию. И молитесь, чтобы вышибли вас туда если не с почётом, то хотя бы более-менее достойно.
– Танечка, девочка! Милая! Как же я буду жить? На что я буду содержать моего малыша и больную жену? – ахнул Линьков.
– Валерий Иванович! Вы эти представления оставьте для Панина. Надеюсь, вы отдаёте себе отчёт в том, что я вас с вашими концертами в любом случае… – Мальцева хохотнула. – В любом случае перекукую. А вашего «малыша», дорогой Валерий Иванович, от окончательного распада личности может спасти только ваша смерть, уж простите за откровенность. И смерть вашей супруги. У неё ещё пролежней нет? Желаю счастливо оставаться, господин Линьков! Привет Коровину. Кстати, то полотно, что гниёт в вашем хлеву, стоит столько, что хватит до конца ваших дней, ещё и на дубовый гроб с парчовой набивкой останется.
Мальцева развернулась и спустилась в подвал, покурить…
Не слишком ли она была с этим несчастным Линьковым жестока? Вот ведь, вроде дерьмо человечишко, но всё-таки… Помнится, как-то давным-давно – она едва интернатуру закончила – запер её этот Валерий Иванович в своём кабинете. Были какие-то посиделки – тогда частенько у него собирались, не только на его дни рождения, а и по любому поводу. Уж очень удобный у доцента Линькова был кабинет – в самом углу отделения патологии беременных. Теперь там люкс для контрактниц. А тогда был кабинет, он же – учебный класс для студентов и интернов, он же – место сборищ по самым разным поводам. Все тогда немного выпили, и сальный Валерий Иванович, тогда ещё временами бывавший вполне сносным, почему-то запер Таньку Мальцеву у себя в кабинете. Кажется, она задержалась, чтобы собрать и перемыть тарелки, а он взял и запер… И из-за двери прокричал ей, что будет её тут держать, пока она ему не «даст». Запер, а сам куда-то умёлся. Хорошо, что телефон у него в кабинете был. Она переключила вилку из внутренней розетки в городскую, позвонила Матвею и, смеясь, рассказала, что она тут «пленница тире наложница» в кабинете у Линькова. «Ну, у такого, помнишь? Облезлого гнома, который дока в ДВС-синдроме, я тебе рассказывала!» Матвей, смеясь же, пообещал прибыть и выручить прекрасную наложницу из плена. – «Да ладно, он скоро вернётся!» – «Уверен. Но на всякий случай я лучше приеду. Всё равно уже темно и страшно, бу-бу-бу! Заберу своё неразумное дитя, застрявшее в лапах злого кощея!» – «Да какой он злой, он просто жалкий, несчастный человечек. А у меня нет клаустрофобии!» Матвей, понятное дело, выехал. Линьков никак не возвращался. Клаустрофобии-то нет, а вот кофе вкупе с крепкими спиртными напитками обладает совершенно чумовым мочегонным эффектом. Спустя четверть часа Татьяне Георгиевне страшно захотелось по-маленькому. А поскольку кабинет доцента тогда ещё не был палатой люкс, то и санузла в нём не было. Через полчаса Мальцева поняла – всё. Катастрофа. На одной из полок у Валерия Ивановича стоял хрустальный вазон, подаренный кем-то из благодарных пациенток. В общем, пусть пеняет на себя, как говорится! Помнится, в вазон всё не поместилось. Мало того, не поместилось. Именно когда началось переливаться через край, но остановиться было уже никак не возможно, ключ в двери повернулся, и в кабинет вошел хохочущий Матвей, хлопающий по плечу улыбающегося – большая редкость! – доцента Линькова. Вот это была картина маслом, куда там тому Коровину!
– Писай, писай, мармеладочка! – ни на секунду не смутившись, сказал Матвей ласково.
– Простите, Татьяна Георгиевна, старого дурака! – извинился перед ней Линьков, когда она подскочила и суетливо привела себя в порядок, с ужасом обозревая растекающуюся вокруг вазона лужу. – Не беспокойтесь, я сам! Сейчас позову санитарку. Какие вы счастливые, ребята. Я вам очень завидую! Я, Татьяна Георгиевна, тоже хочу любить кого-то так, как вы любите своего мужа. И чтобы меня кто-то любил так, как вы его любите. – И, помолчав, добавил: – Татьяна Георгиевна, а можно я на этом хрустале гравировку сделаю? Что-нибудь вроде: «В этот вазон мочилась самая счастливая женщина на свете!»
«Что ты ему там наговорил?» – немым вопросом делала она тогда страшные глаза Матвею. Но тот только улыбнулся и сказал Линькову, что санитарки не надо. Сходил в отделение за ведром и шваброй и совершенно спокойно прибрал за ней… Её Матвей, такой мужественный, квинтэссенция всего мужского… Впрочем, никаких противоречий.
Но не слишком ли она сейчас?.. Больше никто и никогда не будет так увлечённо, с таким фанатизмом рассказывать о свёртывающей системе крови, как Валерий Иванович. Не слишком ли она была жестока с этим несчастным Линьковым? Да нет. Никакой он не несчастный. Омерзительный тип. Коллекционер грязи в белом халате. Точнее, некогда бывшим белым.








